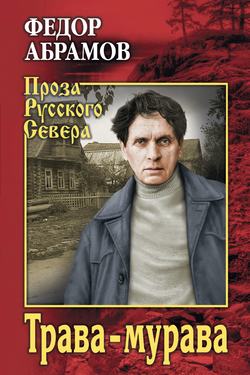Читать книгу Трава-мурава - Федор Абрамов - Страница 10
Рассказы
МОГИЛА НА КРУТОЯРЕ
Оглавление1
Помню деревенское кладбище в жарком сосняке за деревней. Помню мать, судорожно обхватившую песчаный холмик с зеленой щетинкой ячменя. Помню покосившийся деревянный столбик с позеленевшим медным распятием и тремя косыми крестами, которыми мой неграмотный отец обозначил свои земные дела и дороги.
И, однако, не эта, не отцовская могила видится мне, когда я оглядываюсь назад.
Та могила совсем другая.
Красный деревянный столб, красная деревянная звезда, черные буквы по красному:
БЕЛОУСОВ АРХИП МАРТЫНОВИЧ
Ты одна из жертв капитала!
Спи спокойно, наш друг и товарищ.
Сколько лет прошло с тех пор, как я впервые прочел эти слова, а они и сейчас торжественным гулом отзываются в моем сердце. И перед глазами встают праздники, те незабываемые красные дни, когда вся деревня – и стар и мал – единой сбитой колонной устремлялась к братской могиле на крутояре за церковью. По мокрому снегу, по лужам, спотыкаясь и падая на узкой тропе. И во главе этой колонны – мы, пионерия, полураздетая, вскормленная на тощих харчах первых пятилеток.
Но кто из нас посмел бы застонать, захныкать! Замри, стисни зубы! Ты ведь держишь экзамен. Экзамен на мужество и верность. Самый важный экзамен в твоей маленькой жизни…
Речь на могиле держал старый партизан.
Коряво, нескладно говорил. И я ничего не помню сейчас, кроме выкриков: «Смерть буржуазной гидре!», «Да здравствует мировой пожар Октября!». Но тогда… Как будоражили тогда эти выкрики ребячью душу!
Не было солнца, валил мокрый снег, или хлестал дождь – в наших местах редко бывает тепло в Октябрьские и Майские праздники, – а мы стояли не шелохнувшись. Мы стояли, обнажив головы. Как взрослые. И мы не замечали ни мокрого снега, ни дождя. Нам сияло свое солнце – красная могила, осененная приспущенными знаменами. Не нынешними – пышными бархатными полотнищами, расшитыми сверкающим золотом, а теми забытыми – узенькими полосками дешевого красного ситца, прикрепленного к некрашеному древку.
Митинг завершался пением «Интернационала». А после «Интернационала» самое восхитительное для нас, ребят, – салют. Салют из дробовиков и наганов.
И, вздрагивая от грохота, всматриваясь восторженными глазами в распластавшийся дым над головами, мы, казалось, воочию переносились в те далекие вихревые годы, вместе с Архипом Белоусовым скакали в атаку…
Дома, едва переступив порог, я залезал на печь.
В щелях потрескивали тараканы. Ругалась мать, укрывая меня овчинным полушубком и растирая мои заледеневшие ноги. Но я был счастлив. Во мне звучала музыка революции. И мысленно я видел Архипа Белоусова, не живого и не мертвого, а эдакого былинного богатыря, на время заснувшего в своей могиле. И весь он с головы до пят покрыт знаменами, и красное сияние исходит от тех знамен, бьет мне в глаза…
2
Долго, годы и годы не был я в родных местах. И позади у меня пол-Европы, исхоженной в солдатских сапогах. И казалось бы, что могло уцелеть во мне от того наивного и восторженного юнца, каким я отправлялся когда-то в большую жизнь из нашей лесной глухомани!
А помню, когда стал подходить к могиле на крутояре, я, как прежде, замедлил шаг. И, как прежде, сухая и горячая волна перехватила мне горло…
Сосны на крутояре разрослись. Деревянная оградка почернела. Но где же звезда? Почему я не вижу красной звезды?
Я подошел поближе к могиле, и сердце у меня упало.
Торчит порыжевший столбик над плоским холмиком, похожий на обрубок соснового ствола, а звезды нет. Звезда приставлена к подножию столбика, и черные буквы уже не прочитать.
Я обошел оградку. Деревянные рейки кое-где сорваны с гвоздей, изрезаны буквами, и в одном месте была даже надпись, вычерченная гвоздем: «Володя + Надя»…
Из-за сосен слева, там, где виднелась начальная школа, шумно выскочили два босоногих мальчугана с деревянными автоматами у живота, бросили подозрительный взгляд на меня и построчили дальше. А на могилу Архипа Белоусова даже и не взглянули…
Вечером я пошел в сельсовет – днем он по случаю страды был закрыт.
Председательница, уже немолодая, целый день проработавшая на лугу баба – от нее так и несло жаром, – сперва не поняла меня. О чем это я так разоряюсь? О могиле? Да до покойников ли сейчас, когда чуть ли не из каждого окошка война зубы скалит? Потом помолчала и, вздохнув, сказала:
– Да и не больно-то нынче ходим на крутояр. Это, бывало, как праздник, дак всем скопом к Архипу Белоусову, а нынче – нет, не ходим.
– Почему?
– А дорога-то туда забыл какая? Снегом да водой брести надо. Половина деревни гриппом переболеет. А народишко-то нынче и без гриппа качает. Да ежели правду говорить, – высказала еще одно соображение председательница, – и ораторов-то подходящих у нас нету. Много ли у нас политически-то подкованных красных партизан? Тут который год доверили Егору Ивановичу – слезой изошел. Всех расстроил. А настоящий момент не осветил. И правильно указал нам райком, – вдруг самокритично и в то же время назидательно, как бы цитируя решение райкома, закончила председательница, – нельзя революционные праздники превращать в панихиду…
Мне очень хотелось заново водрузить красную звезду на нашем крутояре, но где взять плотника? Шла третья послевоенная страда. На весь колхоз, как горько шутили, было три с половиной мужика. И единственно, что я тогда сделал, это кое-как приладил старую звезду к столбу да очистил холмик от хлама.
Года через два после этого, когда я второй раз приехал на родину, могила была приведена в порядок. Но как?
Звезды не было вовсе. Стоял синий приземистый столб, а на столбе доска, тоже синяя, и надпись белилами:
На сем месте погребен красный партизан
Белоусов Архип Мартынович.
Спи спокойно, дядя, мы тебя не забудем.
Мне не надо было спрашивать, кто это сделал. Феоктист, племянник Архипа Белоусова, которому когда-то отчаянно завидовала вся наша школа. Ведь в праздники этот самый Феоктист имел право стоять в оградке, в святая святых, держа в руках приспущенное над могилой школьное знамя, в то время как мы, его товарищи, за счастье почитали, если нам удавалось пробиться к оградке.
«Да что с ним произошло? – спрашивал я себя. – Да как он, сукин сын, мог так надругаться над дорогой могилой?»
За звезду я его не винил – не у всякого держится в руках топор. Но почему он заменил старую крылатую надпись? Неужели он мог забыть ее? А этот синий мертвящий цвет… Красной краски не оказалось под рукой?
В деревне Феоктиста не было, он жил и работал на лесопункте, и кого же я мог «взять за жабры», как не председательницу сельсовета, все ту же старую знакомую, усталую, вконец заезженную бабу, которая и на этот раз принимала вечером, после работы на поле.
По въевшейся за эти годы привычке она начала было с самокритических признаний, едва я раскрыл рот.
– Есть, есть у нас недостатки… Имеются… – закивала она головой, придавая своему лиду очень серьезное выражение. Потом вдруг взглянула на меня быстрым проницательным взглядом и, верно, признав наконец, кто сидит перед ней, улыбнулась просто, по-бабьи: – Да что же это я, батюшко, все недостатки да недостатки… У нас ведь нынче с этими партизанскими могилами слава богу. Каменные памятники скоро будут. Да, да, как в городе. Объявляли весной на районной сессии: в области заведенье такое открывают. Чтобы для всех районов наделать…
Это было в сорок девятом году, в июле месяце. А каменный памятник на нашем крутояре появился в июне шестидесятого. Через одиннадцать лет. И председательницы сельсовета к тому времени уже не было в живых…
3
Первый каменный памятник, который я увидел в нашем лесном краю, меня не очень обрадовал. Уж больно неказист и невзрачен. Пирамидка низенькая, меньше чем в человеческий рост, и – главное – из какого материала? Из серого цемента с мраморной крошкой. В общем, из того самого материала, из которого в ту пору начали отливать для новых городских домов лестничные марши и площадки.
Но председатель райисполкома, с которым я ехал в машине, решительно не согласился со мной.
– Материал крепкий. На века! – сказал он уверенно.
Настроение у председателя было отличное. Дела в районе шли неплохо, сам он был здоров и на хорошем счету у областного начальства, и ежели и раздражало что его в эти минуты, так это разве шляпа, теплая велюровая шляпа, которую он постоянно снимал со своей гладко выбритой головы. Шляпы в то время еще только входили в моду у районного начальства, и председатель, всю жизнь проносивший полувоенную фуражку цвета хаки, не без труда осваивал новый головной убор.
– Прошлое надо уважать, – говорил мне председатель. – Вот от этих самых героев ведем родословную. – И при этом не преминул подчеркнуть, что кампания по упорядочению партизанских могил – он так и выразился – в его районе завершена раньше, чем у соседей.
Я молчал. Я слушал председателя, смотрел на его оживленное вспотевшее лицо и со страхом думал: неужели на других могилах увижу то же самое?
Увы, мои опасения оправдались.
Мы проезжали одну деревню за другой – большие, средние, маленькие – и везде, решительно везде стояли одинаковые пирамидки из серого цемента с белой крапиной. Низенькие, безликие и унылые. Как верстовые столбы на благоустроенной шоссейной дороге. Наш крутояр, конечно, тоже не был исключением. Его будто обезглавили.
Бывало, с какой стороны не подходишь к деревне, откуда на нее ни глядишь, а уж красную звезду заметишь. Ее не минуешь глазом. А сейчас – пусто, голо на крутояре, и серую верхушку каменной пирамидки, чуть-чуть возвышающуюся над деревянной оградкой, я начал различать только тогда, когда поднялся на крутояр.
Целое кладбище выросло за эти годы на нашем крутояре. Антон Аншуков, Тихон Аверин, Павел Быстряев, Ефим Мерзлый, Кузьма Федоров…
Всех этих партизан я знал с детства. И были они, как мне казалось, не лучше и не хуже других мужиков. Такие же земные и грешные: работать так работать, гулять так гулять. И не потому ли сейчас, оглядывая их могилы, простые песчаные бугорки, густо засеянные рыжей, нападавшей с сосен хвоей, я не испытывал того восторга и трепета, который всякий раз охватывал меня, когда я стоял перед могилой Архипа Белоусова?
Медленно и бесшумно ступая по выстланной дерном дорожке, я подошел к ограде, открыл калитку.
Что такое? Где могила Архипа Белоусова?
Шесть фамилий выбито на лицевой стороне пирамидки, и только третьей среди них, совсем затерявшись в этом списке, – фамилия Белоусова…
Все так же, как в далеком-далеком детстве, за соснами полыхал багряный закат – казалось, сама вселенная склонила свои знамена над нашим крутояром, а могилы Архипа Белоусова не было. На месте ее торчал серый, унылый столбик, точь-в-точь такой же, как на десятках других могил.
И я смотрел на багровый закат, смотрел на этот столбик, густо исписанный ровными подслеповатыми буквами, и чувствовал себя так, будто меня обокрали.
4
В деревне оставался последний красный партизан – Лазарь Павлович Подшивалов. Человек по нашим местам знаменитый: в Гражданскую войну был уездным комиссаром.
Я на всю жизнь запомнил тот день, когда Лазарь Павлович приезжал к нам в деревню. Был какой-то праздник – не то Богородица, не то Петров день – и мы, мальчишки, с утра дежурили у дома его брата.
– Тише, тише! Сейчас выйдет!
И вот он вышел, молодцеватый, сверкающий, весь в кожаных поскрипывающих ремнях. А на груди у него – за бои с Юденичем – орден Красного Знамени с красным бантом.
И мы, мальчишки, первый раз видевшие орден, завороженными глазами смотрели на него.
А потом Лазарь Павлович играл с мужиками в рюхи. Палки были огромные, с хороший чурбак, и вся деревня, собравшись поглядеть на редкого гостя, дивилась его силе и ловкости.
И еще я запомнил, как провожали Лазаря Павловича. По улице мчалась, словно выкованная из красной меди, пара рослых лошадей, а мы, мальчишки, неслись сзади в пыли, падали, вскакивали и снова бежали.
С тех пор я больше не видел Подшивалова. Он жил в краевом центре, занимал видную должность, потом работал в Москве, на новостройках, потом долгие годы о нем ничего не было слышно…
И вот сидит сейчас передо мной одинокий старик, приехавший умирать на родину. Последний красный партизан в нашей деревне.
Меня поразила скромность и даже убогость его жилья. Стол накрыт газетой, деревянная койка застлана серым солдатским одеялом. Как будто тут были все еще двадцатые годы. И портрет Ленина на передней стене – известная фотография вождя, читающего газету, – был украшен тоже в духе того времени – двумя еловыми ветками, перевитыми красной ленточкой.
Ветки были зеленые, свежие, от них хорошо пахло смолой, и передо мною сразу же воскресли наши далекие красные праздники, и я без всяких предисловий заговорил о том, что меня мучило. Я так и сказал:
– Лазарь Павлович, что же это с могилой-то Архипа Белоусова сделали?
– А что? По-моему, неплохо. Был я недавно.
– Неплохо? Ну, знаете, свалить в одну общую кучу со всеми!.. – И тут я стал запальчиво говорить о том, что значила для меня, для моего поколения могила Архипа Белоусова.
Лазарь Павлович спокойно выслушал меня, сказал:
– Зря вы так. Зря. Ведь и те пятеро, которые нынче с ним, тоже проливали свою кровь за советскую власть.
Я был согласен: историческую справедливость восстановить надо, тут я, что называется, обеими руками «за». Но разве это дело, что список красных партизан, выбитый на пирамидке, возглавляет Антон Аншуков? Неужели Лазарь Павлович не знает, в каких отношениях с зеленым змием был этот человек?
– Ну, насчет того, что Антон Аншуков правофланговым на памятнике оказался, я думаю, это правильно, – сказал Лазарь Павлович. – Он в те годы тоже на правом фланге был. Помню, раз послали его за «языком» в тыл к белым, в родную деревню, так он что сделал? Отца своего, старика, привел, потому что ни одного мужчины в деревне не было, кроме отца, – все в лес убежали. Да, вот такой был этот Аншуков. А это он уж после на других поворотах забуксовал…
– Но при чем же здесь Архип Белоусов?
Лазарь Павлович снисходительно посмотрел на меня, улыбнулся:
– А при том, что Архип тоже человек был. И человек не шибко грамотный. Помню, за винтовку в ведомости расписаться надо, что, думаешь, поставил Архип? Крест. Вот и толкуй после этого, как бы он повел себя дальше в жизни – на крутых подъемах и перевалах. Подростком, мальчиком, можно сказать, погиб…
Я во все глаза смотрел на старика. Архип Белоусов – мальчик? Да еще неграмотный?
Лазарь Павлович смахнул с глаза слезу и стал рассказывать, как он, тогдашний военком, отправлял Архипа на войну:
– Зима была, стужа лютая, а он, гляжу, в старом полушубочке, в валенках стоптанных, с чужой ноги. Своих-то парень еще и не нашивал – худо жили, вечно в нужде. И только всего и нового на нем, что красный лоскут на папахе. Партизан. Доброволец. Вот, думаю, за Советскую власть парень идет помирать, а нам и обуть, и одеть его не во что… Ну у меня перчатки теплые были, кожаные, снял с руки, отдал. Так уж он радовался! Рукава у полушубка длинные – нарочно закатал, чтобы все видели евонные перчатки… Да только мало поносил. Через неделю привезли обратно. Мертвого. Лежит на санях в том же полушубчонке, в тех же валенках с заплатами. Смерзся, посинел, маленький, как ребенок. Только по волосам и признаешь – светлые, хмелиной вились. И тоже обмерзли, заиндевели. Как будто поседел он…
Лазарь Павлович после этого долго и старательно откашливался.
В окна глухо постукивал косой дождь. Темные дорожки бежали по верхним незанавешенным стеклам, и лицо у старика тоже было мокрое.
Я тихонько встал и вышел на улицу.
На деревне было темно, как в глухую осеннюю ночь. Ни одного огонька не было в окнах: видимо, всех сегодня ненастье застало врасплох.
Я брел в темноте по мокрой дороге, оступался, залезал в лужи и все пытался представить себе Архипа Белоусова таким, каким он был в жизни.
Дождь не утихал. На открытых местах выл и свистел ветер.
В такую непогодь я любил, бывало, стоять под соснами у партизанской могилы. Сосны шумели, охали и стонали. А мне все казалось, что это стонет и охает Архип Белоусов, у которого разболелись в ненастье старые раны.
И когда впереди, в бледных вспышках молний, верблюжьим силуэтом обозначилась старая церковь, я машинально, по давней привычке, свернул с дороги и зашагал к крутояру…
1963–1968