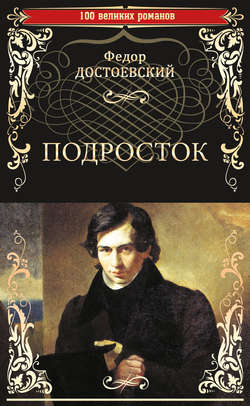Читать книгу Подросток - Федор Достоевский, Fyodor Dostoevsky, Tolstoi León - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
Глава шестая
II
ОглавлениеОн вошел очень довольный собой, так довольный, что и нужным не нашел скрыть свое расположение. Да и вообще он привык перед нами, в последнее время, раскрываться без малейшей церемонии, и не только в своем дурном, но даже в смешном, чего уж всякий боится; между тем вполне сознавал, что мы до последней черточки всё поймем. В последний год он, по замечанию Татьяны Павловны, очень опустился в костюме: одет был всегда прилично, но в старом и без изысканности. Это правда, он готов был носить белье по два дня, что даже огорчало мать; это у них считалось за жертву, и вся эта группа преданных женщин прямо видела в этом подвиг. Шляпы он всегда носил мягкие, широкополые, черные; когда он снял в дверях шляпу – целый пук его густейших, но с сильной проседью волос так и прянул на его голове. Я любил смотреть на его волосы, когда он снимал шляпу.
– Здравствуйте; все в сборе; даже и он в том числе? Слышал его голос еще из передней; меня бранил, кажется?
Один из признаков его веселого расположения – это когда он принимался надо мною острить. Я не отвечал, разумеется. Вошла Лукерья с целым кульком каких-то покупок и положила на стол.
– Победа, Татьяна Павловна; в суде выиграно, а апеллировать, конечно, князья не решатся. Дело за мною! Тотчас же нашел занять тысячу рублей. Софья, положи работу, не труди глаза. Лиза, с работы?
– Да, папа, – с ласковым видом ответила Лиза; она звала его отцом; я этому ни за что не хотел подчиниться.
– Устала?
– Устала.
– Оставь работу, завтра не ходи; и совсем брось.
– Папа, мне так хуже.
– Прошу тебя… Я ужасно не люблю, когда женщины работают, Татьяна Павловна.
– Как же без работы-то? Да чтобы женщина не работала!..
– Знаю, знаю, все это прекрасно и верно, и я заранее согласен; но – я, главное, про рукоделья. Представьте себе, но мне это, кажется, одно из болезненных или, лучше, неправильных впечатлений детства. В смутных воспоминаниях моего пяти-шестилетнего детства я всего чаще припоминаю – с отвращением конечно – около круглого стола конклав умных женщин, строгих и суровых, ножницы, материю, выкройки и модную картинку. Все судят и рядят, важно и медленно покачивая головами, примеривая и рассчитывая и готовясь кроить. Все эти ласковые лица, которые меня так любят, – вдруг стали неприступны; зашали я, и меня тотчас же унесут. Даже бедная няня моя, придерживая меня рукой и не отвечая на мои крики и теребенья, загляделась и заслушалась точно райской птицы. Вот эту-то строгость умных лиц и важность перед начатием кройки – мне почему-то мучительно даже и теперь представить. Татьяна Павловна, вы ужасно любите кроить! Как это ни аристократично, но я все-таки больше люблю женщину совсем не работающую. Не прими на свой счет, Софья… Да где тебе! Женщина и без того великая власть. Это, впрочем, и ты знаешь, Соня. Как ваше мнение, Аркадий Макарович, наверно, восстаете?
– Нет, ничего, – ответил я. – Особенно хорошо выражение, что женщина – великая власть, хотя не понимаю, зачем вы связали это с работой? А что не работать нельзя, когда денег нет, – сами знаете.
– Но теперь довольно, – обратился он к матушке, которая так вся и сияла (когда он обратился ко мне, она вся вздрогнула), – по крайней мере хоть первое время чтоб я не видал рукоделий, для меня прошу. Ты, Аркадий, как юноша нашего времени, наверно, немножко социалист; ну, так поверишь ли, друг мой, что наиболее любящих праздность – это из трудящегося вечно народа!
– Отдых, может быть, а не праздность.
– Нет, именно праздность, полное ничегонеделание; в том идеал! Я знал одного вечного труженика, хоть и не из народа; он был человек довольно развитой и мог обобщать. Он всю жизнь свою, каждый день может быть, мечтал с засосом и с умилением о полнейшей праздности, так сказать, доводя идеал до абсолюта – до бесконечной независимости, до вечной свободы мечты и праздного созерцания. Так и было вплоть, пока не сломался совсем на работе; починить нельзя было; умер в больнице. Я серьезно иногда готов заключить, что о наслаждениях труда выдумали праздные люди, разумеется из добродетельных. Это одна из «женевских идей» конца прошлого столетия. Татьяна Павловна, третьего дня я вырезал из газеты одно объявление, вот оно (он вынул клочок из жилетного кармана), – это из числа тех бесконечных «студентов», знающих классические языки и математику и готовых в отъезд, на чердак и всюду. Вот слушайте: «Учительница подготовляет во все учебные заведения (слышите, во все) и дает уроки арифметики», – одна лишь строчка, но классическая! Подготовляет в учебные заведения – так уж конечно и из арифметики? Нет, у ней об арифметике особенно. Это – это уже чистый голод, это уже последняя степень нужды. Трогательна тут именно эта неумелость: очевидно, никогда себя не готовила в учительницы, да вряд ли чему и в состоянии учить. Но ведь хоть топись, тащит последний рубль в газету и печатает, что подготовляет во все учебные заведения и, сверх того, дает уроки арифметики. Per tutto mondo e in altri siti[25].
– Ax, Андрей Петрович, ей бы помочь! Где она живет? – воскликнула Татьяна Павловна.
– Э, много таких! – Он сунул адрес в карман. – В этом кульке все гостинцы – тебе, Лиза, и вам, Татьяна Павловна; Софья и я, мы не любим сладкого. Пожалуй, и тебе, молодой человек. Я сам все взял у Елисеева и у Балле. Слишком долго «голодом сидели», как говорит Лукерья. (NB. Никогда никто не сидел у нас голодом.) Тут виноград, конфеты, дюшесы и клубничный пирог; даже взял превосходной наливки; орехов тоже. Любопытно, что я до сих пор с самого детства люблю орехи, Татьяна Павловна, и, знаете, самые простые. Лиза в меня; она тоже, как белочка, любит щелкать орешки. Но ничего нет прелестнее, Татьяна Павловна, как иногда невзначай, между детских воспоминаний, воображать себя мгновениями в лесу, в кустарнике, когда сам рвешь орехи… Дни уже почти осенние, но ясные, иногда так свежо, затаишься в глуши, забредешь в лес, пахнет листьями… Я вижу что-то симпатическое в вашем взгляде, Аркадий Макарович?
– Первые годы детства моего прошли тоже в деревне.
– Как, да ведь ты, кажется, в Москве проживал… если не ошибаюсь.
– Он у Андрониковых тогда жил в Москве, когда вы тогда приехали; а до тех пор проживал у покойной вашей тетушки, Варвары Степановны, в деревне, – подхватила Татьяна Павловна.
– Софья, вот деньги, припрячь. На днях обещали пять тысяч дать.
– Стало быть, уж никакой надежды князьям? – спросила Татьяна Павловна.
– Совершенно никакой, Татьяна Павловна.
– Я всегда сочувствовала вам, Андрей Петрович, и всем вашим, и была другом дома; но хоть князья мне и чужие, а мне, ей-богу, их жаль. Не осердитесь, Андрей Петрович.
– Я не намерен делиться, Татьяна Павловна.
– Конечно, вы знаете мою мысль, Андрей Петрович, они бы прекратили иск, если б вы предложили поделить пополам в самом начале; теперь, конечно, поздно. Впрочем, не смею судить… Я ведь потому, что покойник, наверно, не обошел бы их в своем завещании.
– Не то что обошел бы, а наверно бы все им оставил, а обошел бы только одного меня, если бы сумел дело сделать и как следует завещание написать; но теперь за меня закон – и кончено. Делиться я не могу и не хочу, Татьяна Павловна, и делу конец.
Он произнес это даже с озлоблением, что редко позволял себе. Татьяна Павловна притихла. Мать как-то грустно потупила глаза: Версилов знал, что она одобряет мнение Татьяны Павловны.
«Тут эмская пощечина!» – подумал я про себя. Документ, доставленный Крафтом и бывший у меня в кармане, имел бы печальную участь, если бы попался к нему в руки. Я вдруг почувствовал, что все это сидит еще у меня на шее; эта мысль, в связи со всем прочим, конечно, подействовала на меня раздражительно.
– Аркадий, я желал бы, чтоб ты оделся получше, мой друг; ты одет недурно, но, ввиду дальнейшего, я мог бы тебе отрекомендовать хорошего одного француза, предобросовестного и со вкусом.
– Я вас попрошу никогда не делать мне подобных предложений, – рванул я вдруг.
– Что так?
– Я, конечно, не нахожу унизительного, но мы вовсе не в таком соглашении, а, напротив, даже в разногласии, потому что я на днях, завтра, оставляю ходить к князю, не видя там ни малейшей службы…
– Да в том, что ты ходишь, что ты сидишь с ним, – служба!
– Такие мысли унизительны.
– Не понимаю; а впрочем, если ты столь щекотлив, то не бери с него денег, а только ходи. Ты его огорчишь ужасно; он уж к тебе прилип, будь уверен… Впрочем, как хочешь…
Ему, очевидно, было неприятно.
– Вы говорите, не проси денег, а по вашей же милости я сделал сегодня подлость: вы меня не предуведомили, а я стребовал с него сегодня жалованье за месяц.
– Так ты уже распорядился; а я, признаюсь, думал, что ты не станешь просить; какие же вы, однако, все теперь ловкие! Нынче нет молодежи, Татьяна Павловна.
Он ужасно злился; я тоже рассердился ужасно.
– Мне надо же было разделаться с вами… это вы меня заставили, – я не знаю теперь, как быть.
– Кстати, Софи, отдай немедленно Аркадию его шестьдесят рублей; а ты, мой друг, не сердись за торопливость расчета. Я по лицу твоему угадываю, что у тебя в голове какое-то предприятие и что ты нуждаешься… в оборотном капитале… или вроде того.
– Я не знаю, что выражает мое лицо, но я никак не ожидал от мамы, что она расскажет вам про эти деньги, тогда как я так просил ее, – поглядел я на мать, засверкав глазами. Не могу выразить, как я был обижен.
– Аркаша, голубчик, прости, ради бога, не могла я никак, чтобы не сказать…
– Друг мой, не претендуй, что она мне открыла твои секреты, – обратился он ко мне, – к тому же она с добрым намерением – просто матери захотелось похвалиться чувствами сына. Но поверь, я бы и без того угадал, что ты капиталист. Все секреты твои на твоем честном лице написаны. У него «своя идея», Татьяна Павловна, я вам говорил.
– Оставим мое честное лицо, – продолжал я рвать, – я знаю, что вы часто видите насквозь, хотя в других случаях не дальше куриного носа, – и удивлялся вашей способности проницать. Ну да, у меня есть «своя идея». То, что вы так выразились, конечно случайность, но я не боюсь признаться: у меня есть «идея». Не боюсь и не стыжусь.
– Главное, не стыдись.
– А все-таки вам никогда не открою.
– То есть не удостоишь открыть. Не надо, мой друг, я и так знаю сущность твоей идеи; во всяком случае, это:
Я в пустыню удаляюсь…
Татьяна Павловна! Моя мысль – что он хочет… стать Ротшильдом, или вроде того, и удалиться в свое величие. Разумеется, он нам с вами назначит великодушно пенсион, – мне-то, может быть, и не назначит, – но, во всяком случае, только мы его и видели. Он у нас как месяц молодой – чуть покажется, тут и закатится.
Я содрогнулся внутри себя. Конечно, все это была случайность: он ничего не знал и говорил совсем не о том, хоть и помянул Ротшильда; но как он мог так верно определить мои чувства: порвать с ними и удалиться? Он все предугадал и наперед хотел засалить своим цинизмом трагизм факта. Что злился он ужасно, в том не было никакого сомнения.
– Мама! простите мою вспышку, тем более что от Андрея Петровича и без того невозможно укрыться, – засмеялся я притворно и стараясь хоть на миг перебить все в шутку.
– Самое лучшее, мой милый, это то, что ты засмеялся. Трудно представить, сколько этим каждый человек выигрывает, даже в наружности. Я серьезнейшим образом говорю. У него, Татьяна Павловна, всегда такой вид, будто у него на уме что-то столь уж важное, что он даже сам пристыжен сим обстоятельством.
– Я серьезно попросил бы вас быть скромнее, Андрей Петрович.
– Ты прав, мой друг; но надо же высказать раз навсегда, чтобы уж потом до всего этого не дотрогиваться. Ты приехал к нам из Москвы с тем, чтобы тотчас же взбунтоваться, – вот пока что нам известно о целях твоего прибытия. О том, что приехал с тем, чтоб нас удивить чем-то, – об этом я, разумеется, не упоминаю. Затем, ты весь месяц у нас и на нас фыркаешь, – между тем ты человек, очевидно, умный и в этом качестве мог бы предоставить такое фырканье тем, которым нечем уж больше отмстить людям за свое ничтожество. Ты всегда закрываешься, тогда как честный вид твой и красные щеки прямо свидетельствуют, что ты мог бы смотреть всем в глаза с полною невинностью. Он – ипохондрик, Татьяна Павловна; не понимаю, с чего они все теперь ипохондрики?
– Если вы не знали, где я даже рос, – как же вам знать, с чего человек ипохондрик?
– Вот она разгадка: ты обиделся, что я мог забыть, где ты рос!
– Совсем нет, не приписывайте мне глупостей. Мама, Андрей Петрович сейчас похвалил меня за то, что я засмеялся; давайте же смеяться – что так сидеть! Хотите, я вам про себя анекдоты стану рассказывать? Тем более что Андрей Петрович совсем ничего не знает из моих приключений.
У меня накипело. Я знал, что более мы уж никогда не будем сидеть, как теперь, вместе и что, выйдя из этого дома, я уж не войду в него никогда, – а потому, накануне всего этого, и не мог утерпеть. Он сам вызвал меня на такой финал.
– Это, конечно, премило, если только в самом деле будет смешно, – заметил он, проницательно в меня вглядываясь, – ты немного огрубел, мой друг, там, где ты рос, а впрочем, все-таки ты довольно еще приличен. Он очень мил сегодня, Татьяна Павловна, и вы прекрасно сделали, что развязали наконец этот кулек.
Но Татьяна Павловна хмурилась; она даже не обернулась на его слова и продолжала развязывать кулек и на поданные тарелки раскладывать гостинцы. Мать тоже сидела в совершенном недоумении, конечно понимая и предчувствуя, что у нас выходит неладно. Сестра еще раз меня тронула за локоть.
25
Во всем мире, а также и в других местах (ит.).