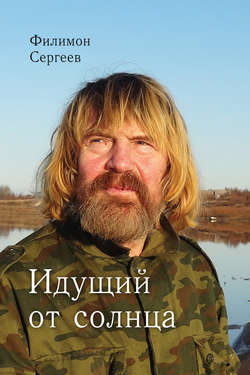Читать книгу Идущий от солнца - Филимон Сергеев - Страница 5
Идущий от солнца
Часть первая
Глава 2
Сон в одежде покойника
ОглавлениеМарья Лиственница уже подоила корову и растопила русскую печь, когда Вера пришла домой. Отец тоже уже занимался делами, сидел у телевизора, пил пиво и клеил резиновые сапоги. На экране телевизора мелькал известный эстрадный певец. Глаза у него горели, как у дьявола, и в них, кроме лукавства и праздной сытости, Михаил Афанасьевич ничего не обнаружил, а голос певца напомнил ему, может, из-за того, что плохо работали антенны, визг старой, сильно заезженной кобылы. Михаил Афанасьевич выключил телевизор, включил радиоприемник.
«Мы настоящие, мы настоящие. – твердило „Русское радио“. – Мы настоящие».
– Если б настоящими были, скотный двор и щас бы стоял, а его разорили такие же настоящие. А ведь он деревяшка. Деревяшке все равно, какая власть, какая вера, зачем портить ее?.. Теперь нет ничего настоящего, кроме солнца, звезд, тайги. Тайга разве виновата, что нашему Третьякову дом нужен, трехэтажный, из рудовой сосны. Вчера я на охоту ходил, за весь день только одного глухаря подстрелил, и тот сидел на елке, спиленной браконьерами. Тайгу губят, черти, губят. Эти настоящие. на словах. законопослушники бандитского разума.
– Хватит брюзжать, – одернула его Мария.
Михаил Афанасьевич как будто не слышал.
– Нынче каждый русский мужик только в одну щель смотрит, ни звезд не видя, ни света белых ночей… Ха! Ха! Ха! Детишек плодить старается, а зачем?! Для чего они?! В Чечню или еще куда. Может, в охрану… А кого охранять – паразитов! От кого?! Может, от народа?
– Нашу Верку ни в Чечню, ни в Ирак, ни в Америку не пошлют. По здоровью не пройдет да и по менталитету. «Ей где тепло, там и Родина». Всех продаст: и друга, и Христа, потому что ради денег живет.
– А ты что, не такая же кукушка?! Хоть Верка непохожа на тебя, да полет тот же. Не в одном гнезде любите свои яйца попарить.
– А тебе что? Мы как белки крутимся. У меня поле картофельное, глазом не охватишь. Коровушек холмогорских полдюжины, одна другой лучше. Куда денешься? А Верка теперь не чета нам, деревенским. Девушка городская, воспитанная, потому у нее каждый день, каждый час, как на сенокосе – год кормит.
– Ты лучше спроси, где она работает.
– А тебе не все равно? Видишь, сколько подарков навезла. Крутится девка и с головой дружит. Ты сам у нее спроси, где она работает. Может, на Лубянке или в Думе. Оттого и молчит про работу, а ты дознайся, ведь ты отец ее.
– Что-то я сомневаться стал.
– Ух, довыламываешься, Миша! После обеда страховщик должен приехать. Закрой рот. Нынче языки у всех длинные. Заберут, как в тридцать седьмом.
– А я не боюсь, при Петре тоже сажали. Особенно тех, кто бороды не брил. Да и при Галилее – за инакомыслие. Забыла, отчего силен русский мужик?
– От водки, Миша, от водки.
– Фу ты, глупость какая. От водки лихо только алкоголикам, а русскому работнику с кувалдой или топором правда нужна, а где правда, там и сила, и мудрость. У лжи мудрости нет, оттого и непобедим наш мужик, что правда за ним.
Вера влетела в горницу словно туча на поляну. Мать хотела поговорить с ней, но та погрозила кулаком и, словно глухонемая, прошла в спальню. Отец только развел руками.
– Маша, в кого она?! Всю ночь где-то блудила, а вместо извинения – кулак.
После его слов дверь спальни неожиданно распахнулась, из нее вышла Вера в поролоновой куртке и, сбросив ее, оказалась в нижнем мужском белье.
– Видите, на мне мужская безрукавка.
– Как это понять? – удивилась мать.
– Очень просто. Меня и здесь вычислили, облюбовали, и, по-моему, очень успешно. До сих пор в себя прийти не могу. – Она опять набросила поролоновую куртку и, уйдя в спальню, закрыла дверь на ключ.
Вере хотелось спать, но уснуть она не могла, и вовсе не от петухов, которые все утро кукарекали под окном, как недорезанные, и не потому, что в доме было угарно, а от того, что в сердце возникла такая боль, такая беда, что хотелось лезть на стенку и кричать на весь мир: «Господь, я гибну от безумных мужиков, от их беспредела, наглости! Неужели я такая красавица, что все прыгают на меня, как на шимпанзе?! Я не хочу больше жить, потому что, кроме Юры, меня никто не любил, а прыгают все, один выше другого, словно я на пальме живу!»
Она разделась догола, легла в теплую постель, которую ей приготовила мать задолго до приезда, но вдруг почувствовала какое-то легкое, едва уловимое покалывание в разгоряченной груди. Она поднялась с кровати и подошла к зеркалу. Грудь ее, воспаленная, раскрасневшаяся, светилась в утренних лучах солнца, особенно розовые разбухшие соски. Вера вгляделась в них и увидела, что они покрыты какой-то еле заметной не то пыльцой, не то паутиной, похожей на тонкие, почти невидимые золотисто-серебряные нити. На кончиках сосков они светились ярче, чем на остальной части груди. Ужас охватил ее, когда она обнаружила, что блестящий золотисто-серебряный слой, похожий на паутину, покрывает все ее тело. «Что это?! – вздрогнула она. – Приворот или еще что?! Я вся покрыта словно мелкой рыбьей чешуей». Она достала мамины очки, лежавшие под большим зеркалом комода, и, увеличив золотисто-серебряные нити в несколько раз, внимательно рассмотрела их. Нити имели определенную симметричную форму, находились без движения, но как только она касалась их ногтями или пальцами, они мгновенно рассыпались, превращаясь в пыль, а потом снова обретали прежнюю форму. Прекратив наблюдение, Вера взяла в руки безрукавку Ивана и принюхалась к ней. Ароматы весеннего утра, перемешанные с ароматами зеленого вереска и багульника, сначала остановили ее дыхание, а потом захотелось дышать еще больше и глубже. «Какая прелесть, – подумала она. – На кладбище я, наверно, плохо ощущала этот лесной запах, потому что рядом находился Иван, который пропитан этими ароматами насквозь, а сейчас это дыхание кажется настоящей сказкой». Она опять надела мужскую безрукавку, но блестящий налет на ее теле, похожий не то на пыльцу, освещенную солнцем, не то на мелкую рыбью чешую, не давал ей покоя. «Нет, я лучше сниму ее». Она сняла безрукавку, положив ее подальше от кровати, и легла опять в постель. Полежав в какой то растерянности несколько минут, Вера вдруг почувствовала, что ей не хватает воздуха. «Может, мама рано закрыла трубу в русской печке, и от этого угарно»? Она открыла окно, проветрила комнату, опять легла на кровать, но состояние ее не улучшалось. Какая-то непонятная тяжесть не давала дышать свободно, и голова, да и все тело становились от этого ватными. Тогда она опять взяла одежду Ивана и приложила ее к лицу. Удивительно. Ей вдруг стало лучше, и она вновь надела безрукавку. Не прошло и нескольких минут, как она куда-то провалилась и уснула.
Яркий утренний сон охватил ее юное тело. Снилась ей земляничная поляна, на которой много, много цветов, бабочек и света. И Вера, легкая, хрупкая, скользит в белом подвенечном платье по солнечной поляне, и сердце ее колотится от счастья, радости. Друзья и приятели провожают ее в другую, новую жизнь, в которой она будет любить и наслаждаться одним-единственным человеком, радоваться, молиться на него, помогать ему во всем, а главное – порхать с ним по этой земляничной поляне, а может, и по другим полянам, по другой, еще неведомой, земле, в любую сторону, куда он захочет, вместе, рядом, навсегда. Что может быть прекраснее – летать среди цветов, трав, солнечных тайн с любимым человеком? Ее провожают в этот путь прежде всего те люди, с которыми она когда-то спала, и они были счастливы с ней, пусть несколько мгновений, несколько минут, пусть только одну ночь или несколько ночей, но они испытали блаженство. Иначе они бы не пришли к ней на свадьбу и не принесли столько подарков, от которых кружится голова. Мужчин на земляничной поляне, конечно, больше, чем цветов, и она радуется тому, что пришли все, даже те, кто заплатил когда-то за мимолетную близость с ней огромные деньги, потому что прошла хорошая реклама, и те, кто организовывал близость, тоже находились с ней в интимных отношениях, хотя и рассчитались с ней «деревянными». Некоторые мужчины пришли со своими женами и подругами, и Вера от души радовалась тому, что у этих славных импотентов, которых она помнила по разным особенностям, есть женщины, и довольно симпатичные. «Наверно, такие же импотентки, – подумала она. – Но богатые, очень нарядные и очень похожие на благополучных депутаток». Да и сами мужчины в этот торжественный день, не все конечно, но многие, походили на депутатов разоренного государства. Только один не был похож: худой, ясноглазый, с лицом, горящим как свеча, даже шрамы на котором потрескивали словно от жара. Это был, конечно, Иван Петрович. «Я чувствую всем телом, что ты любишь меня, – шепчет она ему, – поэтому я не возьму с тебя ни копейки, сокол мой призрачный, и не потому, что ты мой муж теперь…» «Почему?» – спрашивает он. «Деньги разделяют людей, – опять шепчет она, – хотя многие думают наоборот, но это самообман, потому что, взяв деньги, люди становятся заложниками их». Иван не соглашается, но она настаивает на своем. Она знает, что, заплатив ей большую сумму, клиент всегда был чем-то недоволен, потому что он ждал от нее чего-то необыкновенного, сверхъестественного, а это происходит лишь тогда, когда есть любовь. А в «элитном» доме строгого расписания, с бесконечным потоком клиентов, слово «любовь» заменяется обычным выражением – «окучить с двойной тягой». Гости подходят к свадебному столу, играет удивительный вальс, и музыканты, слетевшиеся на свадьбу как мухи на мед, аплодируют ей за каждую улыбку, потому что они в курсе дела и хорошо знают, сколько стоит ее улыбка, особенно в центре Москвы, да еще в постели. Тем более что самый виртуозный из музыкантов был с ней в интимных отношениях, когда она еще только начинала свою столичную карьеру, поступив в театральную академию, а вечерами подрабатывала на Тверской с такими же приезжими девчатами, взявшись за руки и солируя песню Булата Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». «Какой удивительный сон», – радуется Вера и, срывая на поляне самые нежные цветы, дарит их прежде всего мужчинам, потому что она еще не забыла их внимание, их чувственный трепет, деньги, подарки. Они разного возраста, и есть очень старые, с бамбуковыми палочками и в очень толстых очках, словно у сталеваров, даже есть плохо говорящие, с признаками болезни Паркинсона, но все они рады ее видеть и с доброй улыбкой принимают цветы из ее дрожащих рук. И вот к ней, словно ангел, подлетает президент очень раскрученной фирмы, которая выпускает самые крепкие и высококачественные предохранители, пользующиеся спросом даже за рубежом. Он строен, красив, и голубым отливом светятся его перстни на обеих руках. В ладонях он держит свою продукцию, которой нет равных. «Они надежны, – рекламирует он свой товар. – Наденьте, к примеру, вот этот, красный, хотя и тонкий, как крылья бабочки, на хобот любого слона, и он не порвется! – восклицает президент. – Или этот, трехцветный, последнего поколения, самый популярный в престижных домах и недоступный в глубинке, так как стоит сто долларов за штуку». «Это классно, это классно, – хлопает в ладоши Вера. – Вы, господин президент, очаровательны. И очень похожи на ваш товар, на эту самую эксклюзивную резинку, которая помогла нам встречаться без всяких последствий». Теперь все хлопают в ладоши и смеются, а президент хмурится, садится в мягкое кресло, которое ему предоставляют телохранители, словно в самолет, и протягивает Вере бокал шампанского. «Березка наша, – говорит он. – Я желаю тебе и твоему мужу долгой любви, и буду мочить каждого, кто помешает вашему счастью. – Используйте мой сертифицированный товар, наше будущее за ним!» Все опять смеются, и какой-то молодой человек говорит, что если бы не Иван, то он бы просил Вериной руки. Кто это?! Вера не может узнать его, потому что у него длинные волосы и он наклонил голову. Такого парня она не встречала. По всем признакам, его не было ни на Тверской, ни на Садовом кольце, ни в богатом доме. Она вглядывается и, когда он поднимает голову, узнает Юру.
– Вера, иди обедать! – кричит мать за дверью, и она просыпается. «Какой сладкий и красивый сон», – размышляет она и снова закрывает глаза, чтобы уснуть, но ей хочется есть, и от голода немного кружится голова.
– Сейчас, сейчас, мама… – отвечает она уставшим голосом. – Я только переоденусь и сделаю прическу.
Вера сняла рубашку Ивана и опять внимательно осмотрела раскрасневшуюся грудь. Она вдруг обнаружила, что золотисто-серебряные нити на сосках ее груди не только не исчезли, а наоборот, стали еще ярче, еще ослепительнее. «Кто он, этот странный человек-призрак?! Умом не могу понять. – Она схватилась за голову и глаза ее опять стали мокрыми. – Откуда он взялся здесь, в глухом поселке, в котором живут одни пенсионеры да малые дети?!»
Поднявшись с постели, она вышла в столовую.
– Мама, – с тревогой в голосе спросила она, – ты не знаешь Ивана Петровича?
– Какого Ивана Петровича? – насторожилась мать. Потом перекрестилась и тяжело вздохнула.
– Голубоглазого, со светлыми волосами, со шрамом на лбу?..
– А зачем он тебе?
– Просто. Так.
– Нынче, Верушка, просто так и ворона не каркнет. Ты лучше, Верушка, топленого молочка выпей с творогом. Шанег поешь картовных. На тебе лица нет.
– Спасибо, мамочка… – Вера посмотрела на стол, и на душе у нее потеплело.
На столе стоял старинный самовар, каргопольские чашки брусничного цвета, румяные рыбники в деревянных лотках, в берестяной посуде красовались свежие пироги с морошкой и осенними сигами.
– И все-таки, мамочка, кто такой Иван Петрович?! – не унималась она, заварив крепкий кофе.
– Не спрашивай, Верочка, все равно не скажу, – на этот раз, словно топором, отрубила Марья Лиственница. – Не надо тебе знать про него.
– Почему?
– Беда к беде липнет. Вон, папка-то наш, как познакомился с этим Петровичем, уж пять лет прошло, а все книжки о России ворошит да по ночам ими бредит… Где было крепостное право, где нет, в каких масонских ложах царь сидел. Кто пропивал Россию, кто по крохам собирал. А я тебе так скажу: была Россия, да пропала. Как там у Пушкина? Будто вовсе не бывала. – Марья Лиственница тяжело вздохнула и подвинула к Вере самый румяный рыбник. – Поешь, дитя мое беспризорное. Рыбничек из палтуса. Папка на море сам поймал.
Вера сделала несколько глотков крепкого кофе и, отодвигая рыбник, вдруг заметила, что кожа на ее руке стала еще золотистее и какого-то странного цвета.
– Сколько лет Ивану Петровичу? – на этот раз строго спросила она. – Говори, мама, иначе я в милицию пойду.
– Ты что, спятила?! На кой леший он сдался тебе?!
– Дело в том, мамочка. Как бы поделикатнее тебе объяснить. Не ругай меня, не брани. Но от судьбы не убежишь. Ночью я познакомилась с ним. Близость имела.
Марья Лиственница выронила из рук все, что находилось в них, и бросилась к божнице.
– Мамочка, что с тобой?
– Ты что, Верка, с ума сошла?! Или ветром надуло?! Ивана Петровича уже четыре года нет. – Она молилась и плакала, и глаза ее горели каким-то безумным блеском, наполненным негой и страстью.
– Как нет?
– Вот так. Он похоронен рядом с Юрой, только могила без оградки, потому что людей много к нему приходит… Ломают, черти…
– Не может быть, мама! Или мы о разных людях говорим?! Иван, высокий такой, с бородкой, блаженный, словно Иисус.
– Замолчи! Был голос, приятный, светлый, как у Христа, и руки, как будто из горячего воска, мягкие, нежные, как у нашего дьякона. Но все это теперь прах, который рядом с твоим Юрой покоится. Пятый год идет, как похоронен.
Вера не выдержала ее слов и, недопив кофе, поднялась из-за стола. Глаза ее вспыхнули, округлились. То ли от слов матушки, то ли от «колдовской» одежды, руки потянулись к сигаретам.
– Ничего не понимаю, – прошептала она, войдя в спальню. – Может, это совпадение?! Мало ли Иванов…
– Мама! – она опять вошла в столовую. – А наколки на правой руке у него были?
– Ну да. В виде перстня – он их, вероятно, в зоне нажил.
– Значит это он, – Вера вновь вошла в спальню и стала быстро одеваться.
– Ты куда?! – мать всплеснула руками, не зная, как помочь дочери.
– На кладбище. Хочу сама во всем убедиться.
У нас, в северной России, кладбище всегда рядом, всегда по возможности на сухом месте, а если на сыром, то от безысходности, потому как прижились не к сухим, а к сырым землям. Новгородцы, все глубже переселяясь на север, искали прежде всего пушнину, птицу, рыбу, лес, растительную пищу, а на сырых равнинах располагались эти земли или на сухих песчаниках – не главное. Поэтому некоторые деревни оказались в таких болотинах, в таких непролазных топях-косоражинах, что можно диву дивиться. Вот уж точно, там Макар телят не пасет, но зато и куница, и лось, и медведь прямо в дом идут. Зверь любит тишину леса, озер, да прелые, как топленое молоко, таежные болотины. А погост всегда рядом, и люди посещают его, как в больших городах театры, музеи, библиотеки. И в каждое время суток он имеет свою декорацию, свое освещение, своих посетителей. Днем на кладбище приходят в основном старушки и старики, молодежь – реже, прилетают вороны, сороки, сойки, синички поклевать кутью и оставленную на могилах закуску. Вечером и ночью его посещают волки, лисы, совы и разбойники. Служба на таких кладбищах ведется очень редко, да и не всегда есть церковь, но зато каждый житель поселка или деревни знает, кто где похоронен, и о мертвых говорят как о живых, с любовью, со вниманием или с неистребимой ненавистью. «Колька-то Дроздов три бутылки водки за раз может выпить и на работу как огурчик бежит». А Колька Дроздов двадцать лет уже на кладбище. Или: «Англичане малых ребят тушенкой угощали да шоколадом, заморское лакомство, вкуснятина». А те в этих местах были сто лет назад. Или вот еще: «Ты из Новгорода?» «Да нет, я из Великого Устюга». А приехали эти собеседники на Беломорскую землю четыреста лет назад.
Стоял воскресный солнечный день, и на кладбище собрались люди. Вера многих знала. Но каково было ее удивление, когда три нарядные незнакомые женщины с цветами и один мужчина в яркой белоснежной ветровке подошли к той же могиле, которую разыскивала Вера, сняли головные уборы и положили на могилу цветы.
– И ты сюда пришла, Вера? Не успела приехать, и сразу к нему? – сказала одна из женщин, узнав Веру.
Вера ничего не ответила, ступая прямо по весенней грязи, разлившейся теплым днем, робко подошла к могиле без оградки и оцепенела. Над могилой возвышался деревянный крест с маленькой черно-белой фотографией, прибитой к сосновому брусу, а под ним была надпись «Кузнецов Иван Петрович». И дата смерти. Веру сразу затошнило, тело ее покачнулось, ноги подкосились, и перед глазами, словно на каруселях, поплыли церковь, кресты, часовня, черемуха над могилой, и она потеряла сознание. Очнулась через несколько минут. Мужчина в белоснежной ветровке, засучив рукава, делал ей искусственное дыхание и приговаривал: «Ничего, ничего, девушка, все пройдет, все перемелется, я по твоему телу вижу, что ты пропиталась солнцем Ивана Петровича, а это знак святого русского духа, и русской крепости тебе не занимать».
Вера хотела подняться, но после слов мужчины глянула на кожу своих рук, которая буквально светилась, и опять потеряла сознание.
Очнулась она в своей спальне на деревянной кровати, сделанной ее прадедом, монахом Соловецкого монастыря плотником Никодимом. Кровать сосновая, сильно скрипела, и, как только Вера подняла голову, в комнату вошла мать.
– Верушка, наконец-то! Слава тебе, Господи, очнулась. За фельдшером поскакали уже, да в пути, видно, застряли… Весна на дворе, разливы.
– Мама, ты мне сказала все как есть. Иван и в самом деле давно покойник. – Вера приподнялась с постели, раздвинула занавески окна, которое находилось над головой, и опять уткнулась в подушку. – Значит я всю ночь была с призрачным Иваном? – сквозь слезы сказала она. – Такого со мной еще не случалось. Интересно, кого я рожу, если рожать надумаю, дьявола или еще кого? Может, я теперь не в курсе вашего криминала. Может, такое здесь бывает?
– Только во сне, – строго ответила мать и перекрестилась. – Иван пять лет как скончался. Царство ему небесное.
– Вот что, мамочка. Никаких фельдшеров, никаких врачей. Не надо. Прошу тебя, не надо.
– Почему?
– Как бы тебе объяснить. Мне стыдно перед ними. Я в шоке.
– Чего стыдно?
– Картинок. И ноги у меня синие от его рук.
– Каких картинок? От чьих рук?
– От рук усопшего. – Вера еле сдерживала слезы. – Прости меня, мамочка, у меня все интимные места картинками исколоты, похожими на порнографию.
Марья Лиственница растерянно всплеснула руками, задумалась.
– Горе мое упущенное. Сейчас по телевизору каких только картинок не насмотришься. А ноги, может быть, от коня синие. Оперативник сказал, что на таком коне, как у нас, можно и мозоли натереть…
– Какой оперативник?
– Который привез тебя на «Жигулях». Он удостоверение показал. Хотел на машине съездить за фельдшером, да я его отговорила. В такую распуту туда только на лошади доберешься.
– Мамочка. Никаких оперативников мне не надо. Я их как черт ладана боюсь! Тем более с фельдшером, который наверняка за наркотой гоняется.
– Ну и что?!
– Ничего. В пределах разумного это стиль моей новой жизни.
– Как это понять?
– Как хочешь понимай, только никаких оперативников в дом не приводи. Тем более фельдшеров с образованием тысяча девятьсот лохматого года.
– А ты откуда знаешь?
– Я ее в белом халатике и в белых тапках видела, когда на рабочем поезде мимо ее дома проезжала. Крыса старорежимная. – Вера опять глянула на свои золотистые руки, хотела снять с себя рубашку, но почему-то передумала. Металлические нитки придавали безрукавке богатый вид, и пахла она отменно. – Мамочка, что-то знобит меня после бессонной ночи.
– Градусник принести?
– Постой.
– Что, Верушка?
– Подойди ко мне.
– Ну что, гулена моя?..
– Наклонись и протяни мне свои костлявые ладошки. Ох, как мне плохо без них! Ох, как тяжело. Помнишь, как ты шлепала меня, когда я в соседнем саду клубнику воровала? Они у тебя горячие, даже жгучие. С ними я всегда знала, что хорошо, что плохо. А теперь.
– Что теперь?
– Теперь у меня одно искусство на уме…
Марья Лиственница суетливо и как-то растерянно подошла к дочери, чуть наклонила голову, и та крепко ухватилась за нее, словно за спасительную лодку, и вдруг громко завсхлипывала.
– Дорогая моя мамочка, как ты непохожа на моих московских «мамочек», сделавших из меня человекоподобную куклу. Прости меня, за все прости. Я виновата перед тобой. И перед папкой виновата, и перед бабушкой, и перед дедушкой, который меня даже видеть не хочет… Милая моя, драгоценная мамочка, я по-прежнему люблю тебя и сделаю все, чтобы ты с папкой не жила в бедности и была счастлива со мной. – Вера прижалась к матери обессиленными и какими-то еще совсем детскими руками, и та обняла ее и не отпускала до тех пор, пока не обратила внимания на золотисто-светлую кожу дочери.
– Верочка, ты горишь вся, словно в лихорадке, – тихо сказала она и тоже прослезилась. – У тебя лицо светится, как фонарь. Доктор необходим.
– Мама, еще раз повторяю: никаких докторов, никаких оперов. Пусть будет все как есть. Принеси мне стакан водки и соленый огурец. Я выпью и, может, усну. А там что Бог даст.
– Сейчас, сейчас. А фельдшеру что сказать, когда приедет?
– Скажи, что девку солнцем напекло. А с этой бедой мы сами справимся. мол, уснула она, и будить ее не надо.
Водка была домашней, и Вера, выпив стакан, попросила принести еще.
– Верушка, ты нынче больше папки пьешь, – не сдержалась Марья, но опять пошла за водкой. И даже, кроме огурца еще морошки моченой принесла.
– Я, наверно, в дедушку, – сказала она сквозь какую-то безумную грусть и усталость. Вера попыталась улыбнуться, но вместо улыбки из посиневших удивленных глаз опять выкатились слезы. – Дедушка наш от хорошей вкусной водки только молодеет да приговаривает: «Любо-дорого, когда кровь горит, да пакадриться хоца. Только раньше дрались, веря в Божий свет, а теперь лишь в денежки и через Интернет».
После первого стакана Вера заметно разрумянилась, и золотистый цвет на коже лица неожиданно уступил румянцу.
– Удивительные перемены происходят от водки, – покачала головой мать. – Ведь ты, Верушка, только что была в беспамятстве, а теперь словно ожила…
– Мамочка, выпей со мной, и еще раз прошу, прости меня за все. А то, что произошло с Иваном, я постараюсь забыть. Может, это был совсем другой человек или брат его, очень похожий на Ивана.
Марья Лиственница опять перекрестилась, торопливо налила водки, тоже целый стакан, и почему-то с досадой подметила: «Обознаться в человеке, дочка, либо к свадьбе, либо к покойнику».
– Давай выпьем за твою свадьбу, вот и твоя пора пришла. Время, как ветер, по земле летит и непутевых да замороженных на погосте подкарауливает, а потом уносит в самый дальний угол кладбища. Давай за свадьбу твою ополовиним стаканы. Пора уже, дочка, пора.
– Ну да, мамочка, пора, пора, – соглашалась Вера и сразу вспомнила утренний сон. «Блаженный, прекрасный сон, но в этом блаженстве, в этой прелести преобладала какая-то искусственность, расчетливость, – размышляла она, – а там, где расчет, там деньги и казенные отношения». Но она поймала себя на том, что со многими своими поклонниками-клиентами спала не только ради денег, но случались счастливые мгновения, когда деньги уходили на второй план и хотелось не выпускать мужчину не только из своих кошачьих коготков, но и из потревоженного сердца.
– Ты, мамочка, не считай меня легкомысленной, глупой. У меня теперь много денег, и седых волос больше, чем у тебя, только я их крашу и прическу делаю под Аллу Пугачеву, у которой, кстати, не одна «фабрика», и реклама, как птичий грипп, летит по всему свету. Сядь, мамочка, около меня. Я тебе кое-что о столичной жизни расскажу. – Вера тяжело вздохнула и налила еще стакан. Сначала матери, потом себе. – Плохо тому в городе, мама, кто любить может, мечтать, верить в счастье. Еще хуже тому, кто замыкается в своих мечтах, отрывается от миллионной толпы. Чтобы выжить, там надо бежать вместе с паровозом, иначе он разнесет тебя вдребезги, и тебя сожгут в городском крематории, как дрова в паровозной топке. Поэтому я бегу, изо всех сил бегу. Оставив театральную академию, я сначала работала фотомоделью, потом окончила компьютерные курсы, потом курсы массажа, потом курсы английского языка… И пришла к выводу – чем больше знаешь, тем сложнее жить и работу найти. Паровозу, как я поняла, грамотные люди не нужны, нужны кочегары-роботы. Любая энергия востребована там только в тех рамках, которые предлагает хозяин, все остальное отбрасывается в топку. Поэтому я бегу, мама, бегу и не могу остановиться. А здесь я могу остановиться! Здесь другие отношения между людьми. Пусть они проще, но они нестандартные, и намного чище, яснее, чем в городе. Здесь каждый человек – личность. Пусть не всегда яркая, угодная обществу, но личность. А там все рожи похожи, все рады друг другу на словах, но все разговоры и любые проблемы сводятся к деньгам и к жилью. С деньгами там каждая гнида мнит себя звездой и считает, что можно все купить. Меня тоже хотели купить. сразу на десять лет, по дешевке. Но купить ангела с железными крыльями, чутким сердцем, которое каждую секунду может выпрыгнуть из груди и позвать на помощь не только виртуального Бога, но живого дьявола. Такого ангела на десять лет, да еще по дешевке, не купишь! Мамочка, я в шоке от людей, которые не знают, зачем и для чего живут! А их там галимая туча. Они копят, копят, копят. Покупают себе все более престижные квартиры, компьютеры, унитазы, потом едут на Канары или на Майорку и опять копят, копят, копят, и вновь покупают еще более престижную супербытовуху и думают, что в жизни они чего-то добились и могут себе многое позволить. Может, они чего-то и добились, но эта добыча только для утоления своей личной прихоти и никак не относится к людям, среди которых они живут. Они просто «оттягиваются», развлекаются, кто как может, а что ждет их завтра, они не знают! И самое страшное – не хотят знать! А завтра уже наступило. Мы уже живем в нереальном, продажном, гадком и очень кровожадном мире! Безумие для нас стало нормой, бедность – гибелью, а совесть – пороком! Об этом мало кто говорит, но это все понимают и чувствуют. Представь себе, я приезжаю в родное село, меня подлавливают на погосте, объясняются в любви и всю ночь имеют как надувную куклу… И когда я, обалдевшая от любовника, начинаю выяснять, кто он такой, мне говорят, что он – покойник, человек, которого нет. И этот ужас, это безумие. Я не знаю, как это назвать! Добирается до самых чистых мест России, где каждый таежный угол – живой Клондайк, любая болотина с черникой, голубикой, морошкой – островок спасения! Кстати, за килограмм морошки в Финляндии дают тридцать семь долларов. И весь этот ужас, мама, беспредел, у нас, в России, облюбованной бескорыстными русскими людьми!
– Браво, браво, Верушка! – неожиданно донеслось откуда-то издалека, со стороны кладбища. – Мы, русские, должны идти от солнца!
Вера вздрогнула, на несколько секунд замерла, а потом, поднявшись с постели, с каким-то болезненным недоумением посмотрела на мать.
– Мама, ты слышала?
– Чего?
– Его голос.
– Бог с тобой.
– Это он кричал!
– Кто?
– Покойник.
– Кто, кто?
– Иван, пришедший от Солнца. Тихо! – Вера прислушалась, распахнула окно. – Мама, это его голос. Он ждет меня, ждет!
Марья Лиственница только сейчас обратила внимание на припухлые синяки дочери, и глаза ее стали мокрыми.
– Дитятко мое беспризорное, горе мое. – Она почему-то сняла с плеч пуховую шаль и, повесив ее на спинку кровати, стала раздеваться.
Слезы стекали с ее обветренного лица, и глаза горели, как светящиеся во тьме звезды.
– Мамочка, ты хочешь лечь рядом?
– Успокойся, дочка… – Марья Лиственница сняла желтую кофточку, так же повесила ее на спинку кровати и разделась совсем. – Чадо мое распутное. Неужели ты вся в мать? Иди ко мне. Я хочу обнять тебя изо всех сил. – Она опустилась на кровать дочери как подстреленная птица и, раскинув уставшие за день руки, словно журавлиные крылья, крепко прижалась к своему драгоценному чаду. – Верушка, моя единственная доченька. Ты слышишь, как бьется мое сердце?
– Слышу, мамочка, слышу..
– Ты уже взрослая, дитя мое, но ветер в голове, словно злой шатун, не дает тебе покоя. Я догадываюсь, чем ты занимаешься в Москве. Но в этом и моя вина. Мне горько об этом говорить, но что поделаешь. У каждого своя судьба. Может, тебя не следовало отпускать в Москву, но ты бы все равно уехала. Ты кукушкой стала, Верочка. Ты отравленная деньгами кукушка.
– Мамочка, я тебя не совсем понимаю…
Марья Лиственница еще крепче прижала дочь, словно сосновую лучинку, от которой зависит, разгорится огонь в спасительном костре или погаснет, а потом сказала шепотом:
– По зоологии, дочка, ты получала только «тройки». Может, после Москвы у тебя и зоология совсем другая стала. Может быть, такие, как ты, и учебники заново переписывают. Ты совесть потеряла, стыд, честь.
– Мамочка, ты о чем?!
– В чудеса и в призрачные кошмары я не верю, дочка. Но я, как мать твоя родная, как опытная родительница, сердцем чую, что после Москвы, а может, после кладбища, с тобой произошло что-то. Глаза и щеки, может, от водки горят, а вот руки, ноги, губы. вздулись отчего? И рассуждения твои сильно изменились. Что с тобой?
– Не знаю, мама.
– Неужто ты и в самом деле отдалась ему?
– Кому ему?
– Покойнику.
– Может, я схожу с ума. Мне жутко, мама! Горько внутри, больно, страшно… – Вера неожиданно сбросила ватное одеяло и, подойдя к окну, распахнула его.
– Ва-а-а-а-ня! Я хочу видеть тебя, – исступленно закричала она.
И в ее голосе Марья Лиственница услышала такую боль, такую жуткую тоску по настоящей бескорыстной любви, что ей самой стало плохо, и она, уткнувшись в подушку, едва сдерживала себя изо всех сил, чтобы не разреветься еще раз.
– Ва-а-а-а-ня! Если ты живой, откликнись! Я хочу видеть тебя! – не успокаивалась Вера, продолжая кричать еще надрывней и жалобней. Но тихо было вокруг, сумрачно, и только ветвистая калина шумела под окном северными белоснежными цветами.
– Ты прости меня, мама. Ради бога, прости! – Вера опять легла на кровать и прижалась к матери. – Ваней его звали, Ваней. Так называл его приятель. А отчество его Петрович.
– Значит их было двое?!
– Да, мамочка, да! Утешь меня, хоть как-нибудь утешь!.. Мне жутко жить в этом мире, где нет ничего постоянного, надежного, искреннего, человеческого.
– Бедная моя девочка! Несчастная моя кровинка!
– Он обещал, мама, взять меня в свое солнечное суземье, в свой таежный рай, и клялся, что будет жить ради меня.
И Марья Лиственница вновь обняла свое чадо и, уткнувшись головой в грудь Веры, вдруг не выдержала и тихо, сквозь слезы, застонала.
– Беда пришла к тебе, дочка, беда!.. Вот ведь напасть какая, эта безжалостная любовь! Дочка моя, если все то, что произошло на кладбище, не твой наркотический бред, не твоя взбалмошная фантазия, ты влюбилась!.. Очень сильно влюбилась! Вероятно, ты сама не заметила, как его душа в твою душу пролезла. Я чувствую это по твоему болезненному голосу, движению воспаленных глаз, сердцебиению. Говорила тебе, не ходи туда, не ходи. – Марья Лиственница опять застонала, а потом вновь заплакала.
– Мамочка, на кладбище я познакомилась с Юрой… Я любила его. Но он меня не дождался. Прости меня, мама! Ты как всегда права. Ну, не плачь, мамочка, не плачь. – Вера уткнулась заплаканным лицом в разгоряченную грудь матери и тоже застонала. – А теперь этот сумасшедший Иван из головы не выходит, как Юра когда-то! С виду он вылитый бандит-уголовник, но такой необыкновенный, такой искренний, нежный, что я сразу растерялась, а потом.
Вера опять поднялась с постели, ласково поцеловала мать, словно она была ее школьной подругой, и опять распахнула окно.
– Мама, если бы ты знала, какой он страстный, чуткий мужчина! На уме у него не деньги и всякая бытовуха, в виде тряпок и тачек. А наша бедная Земля, звезды, Вселенная. Он говорит, что пришел от Солнца, чтобы спасти этот развратный, обалдевший от денег мир! И он сможет это сделать, потому что ему доступны планеты, звезды, сияющие галактики, – словом, все то, что очень далеко от нас, но влияет на нас со страшной силой. Он знает, мама, жизнь другого разума, другого блаженства, другой страсти. Он обещал увести меня туда, где нет ненависти, продажного секса, лжи, воровства, рабства, в мир других солнечных измерений.
– Ва-а-а-а-ня! – опять не выдержала и закричала она что есть мочи, никак не веря в то, что его нет. – Я хочу-у-у видеть тебя! Я знаю, что ты живой!
– Перестань, дочка! Перестань! Выпей морса и ложись спать, – пыталась остановить ее Лиственница, но Вера словно не слышала ее слов.
Она смотрела куда-то в даль вечерних сумерек, на вспыхивающие в небе еле заметные звезды, и лицо ее светилось сейчас не от подаренной безрукавки, а от надежды на то, что он жив.
– Успокойся, Верочка, тебе надо отдохнуть. Прошу тебя, ангел мой, успокойся, и баю-баюшки.
– Мамочка моя ненаглядная, как я могу успокоиться, если я слышала его голос? – почти шептала Вера, стряхивая с лица слезы. – Он ждет меня.
– Солнышко мое, это ветер поет на живых деревьях, так же, как птицы и все живое весной! – настойчиво успокаивала ее мать.
– Неужели мне показалось?! Нет! Нет! Его голос не похож на шум ветра… Скорее, на крик журавля или на стон подраненного лебедя.
– Горюшко мое слезное. Если ты будешь и впредь все время думать о нем, то скоро попадешь в «психушку». – Марья закрыла глаза, вероятно пытаясь остановить ту жуткую боль, которая вырывалась из ее груди. Ей хотелось ничего не слышать сейчас об Иване и ни о чем не думать, потому что Ивана Петровича Кузнецова она знала больше, чем своего единственного супруга. Но остановить обезумевшую дочь, по всей вероятности, было уже невозможно, так же, как нельзя было остановить ту безответную тайную любовь, которую испытывала Лиственница к Ивану вот уже двадцать лет. И сейчас ей было больно и горько слушать все теплые, восторженные слова в адрес Ивана, тем более говорила их не какая-то посторонняя женщина, а родная дочь. «Какая жестокая и до боли непредсказуемая жизнь грешного человека, – размышляла она, лежа на кровати, сделанной еще в позапрошлом веке соловецким монахом. – Неужели пришла расплата за все то, что я позволяла себе в молодости? Ведь я и сейчас не могу сказать определенно, как на духу, от кого родилось это дерзкое, немыслимое создание с таким чутким и горячим сердцем? Ведь я уже тогда была замужем за Мишей, когда родилась Вера, но продолжала встречаться с Иваном Петровичем».
– Мама, а мать Ивана жива? – оборвала ее мысли Вера и опять легла на кровать.
Лиственница не шевелилась и не открывала глаз. Ей почему-то так страшно, так невыносимо захотелось побыть одной, и не только не слышать, но и не видеть дочь, тем более переживать за нее.
Ей даже показалось, словно кольнуло где-то в сердце, что рядом с ней лежит вовсе не ее любимая, родная дочь, а какая-то совсем незнакомая приблудная женщина, и эта женщина старается изо всех сил отнять у нее Ивана.
– Мама, тебе плохо? – в тревоге спросила Вера и, не получив ответа, опять повторила вопрос: – Мама, ты плачешь?
– Как видишь, радость моя ненаглядная, хорошая моя, загуленная. – Лиственница открыла глаза и, словно не видя и не слыша дочери, обвела взглядом сначала потолок, по которому расхаживал паук-крестовик, видимо готовясь к весенней охоте, потом посмотрела в окно, на небо. Смотреть на небо ее научил Иван. «Лучше один раз посмотреть на небо, – всегда говорил он, – и почувствовать его простор, свободу, чем сотню раз услышать церковные обещания манны небесной». Небо сказочное. Словно на заливном туманном лугу кто-то рассыпал тысячи васильков, и каждый василек стал той желанной звездочкой, которая манила к себе, тревожила своей неразгаданной небесной тайной, звала к жизни, блаженству, неге… Лиственница даже не заметила, как из-за калины, прислонившейся к окну редкими рогатыми ветками, выкатилась желтая, похожая на переспелую морошку, луна. Она осветила всю комнату, бросая на выгоревшие обои тени от калины, и комната покачивалась от причудливых дрожащих теней.
«Скоро ночь, – подумала Лиственница. – Неужели Вера опять пойдет на кладбище?» Она вдруг вспомнила, как в юности познакомилась с Иваном. Осталась в памяти изба без электричества, впрочем, как и вся деревня, потому что слишком глубоко забрели люди, скрываясь в топких непроходимых местах от татарского ига, крепостного права, революций и тех поработителей, которые толком не знали и сейчас, наверно, не знают, что такое земля-кормилица, Россия, любовь, верность, братство, но законы выдумывали и выдумывают, как будто щелкают орехи, и, придя к власти, учат смирению и покаянию.
«Дивное и дикое было место, – подумала Марья и перекрестилась, – а Иван тих и печален, как болотный вереск среди подружек своих, лиственниц и березок. Его руки и губы пахли ладаном и олонецким воском. А глаза горели тем светом, который знают только бойкие охотники, преследуя подраненного волка-вожака. Столько таилось в них вселенского прощения за чрезмерную жестокость и столько же неизмеримой ненависти за все подлое и безрассудное на земле. Когда он целовал ее, то плакал как ребенок, а когда с неискушенным трепетом укладывал ее в сено на поветях, то безумствовал и стонал, как смертельно раненный лось. Она вдруг почувствовала горячие цепкие руки, которые обжигали ее тело до самого донышка, до самой глубины ее женских тайн, и от этого стало сладко на душе, блаженно удивительно. Она тогда верила и надеялась, что будет так всегда Иван и она рядом, вместе, до гробовой доски. Но такова, наверно, печаль жизни, – размышляла она. – Кто сразу обжигает безумной любовью, тот и сгорает, как береста на ветру, в одночасье, оставляя после себя горькую радость в памяти и жуткую, ни с чем не сравнимую, боль в сердце… И все оттого, что это никогда больше не повторится». Оборвав свои мысли, Марья Лиственница долго смотрела на луну, потом на тень от калины и вдруг в углу комнаты разглядела то, что сразу насторожило ее и взволновало еще больше. В углу на светлых обоях она внезапно обнаружила тень любимого, до боли знакомого человека. Среди других теней эта сразу бросилась в глаза. Лиственница чуть было не вскрикнула от удивления, но женское чутье остановило ее. Она только зарделась от волнения, словно в глубине комнаты увидела живого Христа, а потом перевела дыхание и процедила сквозь зубы: «Бог ты мой! Неужто драгоценное солнышко забрело в наш дом?..»
– Мама, ты что, бредишь? – насторожилась Вера и, подняв голову, тоже посмотрела на небо. – Где солнце? Луна в окне. Тебе плохо?
– Да, моя распутная прелесть. Особенно сейчас, когда мы вместе. Я не верная супругу жена и ты, моя гулящая дочь. Неужели нам придется делить драгоценное солнце одно на двоих?!
«И на всех остальных, идущих от Солнца и к нему..» – вновь донеслось откуда-то издалека, из глубины весенних ветров и разливов.
Вера вздрогнула, поднялась с постели и снова подошла к окну.
– Мама, ты слышала? Это опять его голос!
– Это тебе кажется, дочка… Когда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас, мне тоже много чего казалось, чудилось. И снились невероятные сны. Мне даже мерещилось, что сам Иисус Христос зовет меня на свидание и хочет обвенчаться со мной, и не где-нибудь, а на святом Афоне, среди умудренных апостолов и церковного благовония.
– Я хочу верить тебе, мамочка, но ты мне так и не сказала, жива у него мать или нет? Ну что ты молчишь?
– Ты боль моя, дочка, и беда, – тихо прошептала Лиственница через силу, через какую-то жуткую грусть, не отводя глаз и пристально вглядываясь в застывшую на стене тень Ивана. – Выслушай меня и пойми. Может, еще не поздно. Ты совершила страшную, роковую ошибку..
– Какую, мама?
– Не перебивай. Эта ошибка разрушит тебя, приведет к беде или даже к гибели. Ты рассталась с тем, что заложено в тебе! Помнишь, в шестом классе ты бегала в барак на окраину поселка. Там, в коридоре коммуналки, вы разыгрывали со сверстниками различные сцены, читали стихи, водили хороводы. Помнишь, я тебе еще старые мешки из-под картошки давала для занавес. Тогда у тебя появилась мечта стать учительницей или актрисой. Сначала мы с Мишей посмеивались над твоей детской фантазией, но, когда после школы ты поехала в Москву и поступила в театральную академию, мы сначала обалдели, а потом изо всех сил помогали тебе. Почему ты бросила учебу? Ведь ты выдержала невероятный конкурс! Значит, за что-то могла зацепиться и работать над тем, что дал Бог.
«Идущий от Солнца!» – опять донеслось откуда-то из далека, со стороны кладбища.
– Мама?! Неужели мне вновь почудилось?
– Не перебивай меня! Многие из твоих сверстников с ума сходят, чтобы попасть в театральную академию! Идут на всякие уловки, хитрости, чтобы зацепиться и получить образование в престижном месте. А ты что сделал?! Бросила академию, о которой многие мечтают, и пустилась на поиски… Чего?!
– Мамочка! Меня выгнали.
– За что?!
– За профнепригодность…
– Сейчас, после твоего похода на кладбище, я стала догадываться, за что тебя выгнали! Профнепригодность – отписка. Причина совсем другая.
– Какая же?
– Тебя выгнали за твое легкомысленное безволие, женскую слабость. В любом ремесле, а тем более в актерском, надо упорствовать, напрягаться, отдавать себя только этому ремеслу. Ты, по всей видимости, стала крутить романы, и, вероятно, не только со студентами, но и с педагогами.
– Ну и что?! Одно другому не мешает.
– Вот видишь, – сразу повысила голос Лиственница. – Мешает, да еще как мешает! Поверь мне, родной матери. Вместо того, чтобы учить роли, читать классику, ты развлекалась и жила мимолетными наслаждениями! Теперь я уверена в этом. Ты посмотри на свое тело. На нем нет ни одного живого места! Что тебе поставили за первый семестр по литературе?
– «Неуд».
– А по истории?
– Тоже «неуд».
– Ты разменяла себя, дочка! Ты разбросала свои силы по чужим постелям и подушкам! Ты не поняла, что главное для профессиональной актрисы – мастерство! А для этого надо учиться каждый день! Я это знаю, потому что, как только ты поступила в академию, я перечитала много книг по актерскому мастерству и поняла – это титанический труд. лошадиное здоровье и поиск тонких переживаний, которые касаются прежде всего не ума, а сердца. О каких переживаниях можешь ты говорить, что ты можешь дать людям, если кожа на твоем теле, как африканский порнографический журнал! Переживание актрисы за своих героев требует много сил. Это необходимо.
– Какая ты умная, мамочка, хотя слишком старомодная. Картинки на моих бедрах похожи на порнографию, но это не то – это кинозвезды из журнала «Плейбой». Ты слышала о таком журнале?
– Слышала…
– Я подрабатывала в нем после академии.
– А вот здесь у меня, чуть повыше лобка, фрагмент из журнала «Барбекю». Ты знаешь, что это такое?
– Нет.
– Это шашлык африканского происхождения. Вот здесь ты права – он из Африки. Но ты посмотри, какой красивый шашлык!
– Не надо, не прогибайся и не показывай. Я шашлыки не ем.
– А я – ем, и очень люблю их, потому что в журнале «Барбекю» у меня есть богатые друзья, которые всегда выручат, защитят.
– Наверно, мужчины?..
– Да, мужчины, мамочка. И не делай такое мрачное, озлобленное лицо. Мужчины очень любят вкусное и молодое «Бербекю» в нежном ароматном соусе. Их любовь спасла мне жизнь, открыла глаза. Ты знаешь, мамочка, тех денег, которые вы посылали с папкой каждый месяц, мне хватало только на один завтрак. Сначала я даже плакала от горя: почему у меня такие бедные родители! Но потом поняла, в чем «фишка». Мне даже жалко стало вас. И тебя, и папку, и бабушку, и дедушку, и двоюродного дядю, и многих других людей, похожих на вас. Ведь вы в жизни ничего не добились! Как жили в деревянных домах, так и жить будете, как выучились – папка на лесника, а ты на зоотехника, так и остались. до глубокой старости. Вы бедные, сильно обнищавшие русские люди. Вы никому не нужны, потому что вы не лидеры, да и сбережений у вас нет. Если вы серьезно заболеете, то денег на лекарства у вас тоже нет. А если, не дай бог, на вас нападут бандиты, то вас никто не будет защищать, потому что вы, опять же, бедные русские люди. Мне вас очень и очень жалко.
– Не надо нас жалеть, дочка. Не надо! – Марья Лиственница поднялась с постели и, разбросав по сторонам густые, никогда не крашенные волосы пшенично-серебристого цвета, подошла к окну и грациозно, словно она распахивала занавес Кремлевского дворца, раскрыла окно.
– Ты слышишь, пророк?! Она даже жалеет нас. Она считает нас очень бедными, несчастными людьми, которые в жизни ничего не добились! Она думает, что ее богатые друзья защитят ее от бандитов, а нас с тобой защищать никто не будет!
– Мама, ты что, с ума сошла?! С кем ты разговариваешь?
– С Богом, дочка! С твоим и моим Богом. Если он здесь, с нами, то он услышит мои молитвы и твои печальные, очень жестокие слова. – Лиственница закрыла окно, набросила на грудь пуховую шаль и, пряча свое красивое тело, то ли от ночной прохлады, то ли от вездесущего Ивана, дрожащими от волнения руками взяла графин с водкой, который стоял тут же на табурете возле кровати, и, налив полный стакан, выпила его залпом.
– Да, да, мамочка, – продолжала Вера изливать свою душу. – Нынче защищают тех, кто располагает определенным капиталом, и водка тут не поможет. А я, мамочка, сумею себя защитить, потому что у меня есть деньги и кое-какие богатые друзья… Кстати, мой кейс ты надежно спрятала?
– Да, дочка, не беспокойся. И какие у тебя друзья, милая моя крошка?
– Богатые.
– Это я уже слышала.
– Об этом я могу говорить тысячу раз, потому что это сейчас для меня самое главное. Так вот, мои друзья, пусть их очень мало, но они очень творческие люди. По радио и по телевидению их даже называют гениальными.
– И в чем проявляется их гениальность?
– Они упростили многие моменты творческой деятельности. Творчество, общепринятое мировыми стандартами, – это не только мысли, фантазия, мощная энергия духа, но еще и то, что самому великому ученому-прагматику и в голову не придет, потому что он связан рамками цифр, теорем, аксиом и грудой всяких других условностей. А творец свободен как ветер… Так вот, мои гениальные друзья доказали, что Александр Пушкин был не прав. Гений может быть кем угодно, и в условиях нашего рынка гений и злодейство даже очень хорошо совместимы. Когда есть спрос, то совесть, стыд, жалость, справедливость и прочие атавизмы только вредят. И совсем неважно, на кого похож гений, на Моцарта, на Сальери, на Березовского, на Чикатило, на Сталина или Гитлера. Короче, они убеждены в том, что и театр, и литература, и кино, и эстрада, и даже искусство церковного хора теперь объединяет одно, самое великое, самое главное искусство…
– Ну что ты мнешься? Говори!..
– Мама, тебе не понравится это выражение. Но я обязана сказать об этом, чтобы ты поняла, почему я ушла из театральной академии. Правда, это искусство поглотило многие другие прекрасные виды искусства, но оно самое великое теперь, самое востребованное и, может быть, вечное и удивительней любой симфонии Моцарта, ведь ради него я и приехала к себе на родину. Конечно, я соскучилась по тебе и папке, это само собой, но главное – оно, это великое, мое единственное, неповторимое. Как оно, думаешь, называется?
– Я не знаю, но думаю, что это опять какой-нибудь Макаревич или «Глюкоза» или еще какая-нибудь фигня с глупыми прибамбасами и мощным, почти клиническим отсутствием всякого содержания. Ты можешь сказать коротко, как оно называется? – Марья Лиственница глянула в глубину пристройки и заметила, что тень Ивана Петровича сильно задрожала и увеличилась.
«У моего Солнца возрастает любопытство к нашему разговору, – почему-то подумала она. – Но я, к сожалению, очень слабо разбираюсь в разновидностях искусства моей дочери».
– А я, мама, знаю, как называется самое главное искусство, и буду теперь заниматься им каждый день. Одним словом его не назовешь. Но в чем суть его, я тебе скажу.
– В чем?
– В самом, казалось бы, простом. Но в этой простоте прячется гениальная мысль. Короче, мамочка, я приехала сюда с большим капиталом в надежде на то, что среди местных лабухов и простофиль мне удастся раскрутить беспроигрышный бизнес.
– И чем ты думаешь занять своих лабухов и простофиль?
– Производством мебели из местного леса.
– Ты опоздала, дочка, потому что такая контора в нашей деревне уже есть. Это во-первых. А во-вторых, здешний лес теперь продается только с аукциона. Ложись спать, дочка, иначе тебе еще что-нибудь в голову придет или причудится. Выпей таблетку, которая у папки в оружейном ящике лежит, и спать ложись. Слушайся родную мать, как много лет назад. И прости меня за прямоту, но в столице ты совсем не поумнела… Иди, иди, горюшко мое, за таблетками, баюшки.
Лиственница взяла дочь за руку и, подняв ее с постели, долго смотрела в обалдевшие, воспаленные глаза дочери. – Если ты считаешь, что Иван жив, и сердцем это чувствуешь, то так оно и будет. В нашем роду сердце еще никого не подводило. Но запомни, доченька, любить Ивана все равно, что любить солнце, каким бы оно ни было огненным или ледяным. Лучше сгореть с ним, чем тлеть весь век, не ведая смысла жизни.
– Мама, а в его жизни есть смысл?!
– Еще какой! Сердце надо иметь, душу, целовать землю, на которой родилась. Ты тогда, может быть, и поймешь смысл его жизни. Иди, дочка, иди.
Вера растерянно поднялась с кровати и, подойдя к окну, пристально посмотрела на луну и небо. Ее воспаленные глаза светились каким-то беспомощным удивлением, грустью.
– Мама, неужели его нет? – опять тихо спросила она и вновь перекрестилась. – Неужели все, что произошло на кладбище, – безумный сон или какой-то кошмар. Если это так, то я постепенно схожу с ума.
– Родная моя, ты просто влюбилась, и бесишься оттого, что человек, идущий от солнца, вскружил тебе голову, а потом позвал в мир, который тебе недоступен.
– А если доступен, мама?!
– Девочка моя, как ты похожа на свою мать, – задумчиво произнесла Лиственница, понимая, что существование недоступного мира волнует не только дочь, но многих людей. – Когда-то я тоже верила, что он есть, этот удивительный мир добра и света, но с годами, кроме седых волос, от него ничего не осталось… – Марья Лиственница тяжело вздохнула и на этот раз с какой-то безысходной болью посмотрела на тень Ивана Петровича. – Может, он и есть, дочка, но, чтобы прикоснуться к нему, требуется много страданий, терпения, воли, потому что взаимная любовь – очень мимолетное чувство, и чаще всего любовь, как ветер, дует с одной стороны, а тут надо с обеих, иначе, кроме седых волос. ничего не светит.
– Мамочка! Но я очень хочу попасть в этот блаженный и, наверное, удивительный мир, в котором живет Иван. Как мне кажется, он совсем другой, и в нем нет тех гадких отношений, пороков, где все продается и покупается.
– Ты права. В этом мире любовь заменяет все. А любовь, дочка, искусство самое сложное, хотя и самое великое. Оно намного сложней твоего, рыночного, где погоду делают совсем не люди.
Когда Вера из пристройки ушла в глубь рубленого дома, Лиственница сразу распахнула окно, и сердце ее сжалось.
Иван Петрович, печальный и растерянный, с бледным, как у распятого Иисуса, лицом, стоял прямо перед окном и плакал.
– Маша, Маша, – еле слышно шептал он. – Ты не знаешь, как я счастлив. Ты поняла, что Вера любит меня и, наверно, будет ждать от меня ребеночка.
От этих слов Марья Лиственница сразу покраснела, глаза сделались безумными, и сознание ее помутилось. Ее разгоряченные груди, которые только что наливались брусничным соком, при одной мысли, что Иван рядом, быстро начали холодеть, и она едва-едва сдерживала навернувшиеся слезы.
В ответ на его признание ей хотелось выговорить что-то колкое, резкое, даже оскорбительное, но она все-таки сдержала себя.
– Ваня, ты пойми, что Вера – моя дочь, – с отчаяньем, даже с какой-то трепетной, безысходной лаской вырвалось из ее сердца. – Я, мой милый, могу не разрешить тебе пользоваться ее расположением. Ты сильно вскружил ей голову, но это еще не значит, что она будет твоей. Ваня, ты слышишь меня?
Но Иван Петрович как будто не слышал и не видел Марью Лиственницу.
– Маша, я люблю Веру, – продолжал он. – Она будет счастлива со мной, потому что ее любовь бескорыстна и такая же сумасшедшая, как моя! Ты прости, но сейчас мне не до рассуждений… Мне надо как можно скорей бежать на кладбище и встретить ее букетом полевых цветов. Иначе я потеряю ее. Пойми, Мария, ей нужен другой мир. другие человеческие отношения. Ведь она у тебя, чего греха таить, девушка странного поведения. – Он вдруг замолчал, как будто его что-то обожгло внутри, и стал говорить с жалостью, с каким-то чутким, печальным состраданием. – Проститутка она, твоя Вера, женщина, торгующая телом, которое пропитано силиконом, французскими духами, наркотой. Это ужасно! Это не по-христиански и не по-русски. Даже язычницы не торговали своими чувствами, приберегая их для того единственного, которому принадлежало их сердце! – Он вдруг опять замолчал, задумался, а потом стал говорить с еще большим состраданием. – Духовный развал, безнравственность съедают Россию. И это все оттого, Маша, что корни ее тонут в бесовщине, мракобесии, жестокой борьбе за власть! А теперь и в рабском поклонении Западу, да ценным бумажкам, которыми оправдывается поведение любой гниды. Есть деньги у гниды – она царь и бог. А если нет, то она жалуется всем. мол, и гнидой ее зовут, потому что без денег она. И перебирается эта гнида от одного банка к другому, забыв о том, что для русского человека, с его бескрайними богатствами земли, недр ее, даром Божьим, любая ценная бумажка – фуфло, грязь, сладкий обман для тех, кто глух к своей земле, равнодушен, но очень хочет властвовать над нею, выжимать из нее любые соки в виде газа, нефти, золота. Но прости, Маша, если деньги у гниды появятся, то все равно она останется гнидой. Извини, друг мой сердешный, сейчас не время для дискуссий. Но твоя дочь задела меня за живое, и я буду стараться изо всех сил отвести ее от греховной жизни.
– Ваня, ты издеваешься надо мной. Ты видишь на мне только крест и глаза, полные слез. Прошу тебя, Христа ради, оставь мою дочь! Она хоть и смышленая, и крутая, но все еще ребенок… – на этих словах Лиственница, так же, как Иван, задохнулась, как будто грудь ее сдавила невыносимая боль, потом немного помолчала и, пристально вглядываясь в глаза Ивана, сказала: – Ты прав, Ваня, прав! Вера стала проституткой, профессиональной проституткой нового поколения. Ей все равно с кем! Главное – как и за сколько! Она, Ваня, стала падшей женщиной со страшными сексуальными отклонениями! Ее спасать надо, Ваня! Лечить! Иначе.
– Я спасу ее, Маша. Я знаю, что делать с ней. Я построю для нее рубленый терем из рудовой сосны, осиновую баню с предбанником из можжевельника и буду ей рассказывать о будущем нашей Вселенной и, конечно, о том, что ждет Россию. Со мной она узнает другой мир, другие ощущения, другую философию, другую любовь. Я познакомлю ее с прекрасными людьми, которые восхитятся ее красотой, женственностью, лаской, и никто из них не потащит ее в постель. А потом, Маша, она родит мне сказочного богатыря.
– Замолчи! – Лиственница вдруг соскочила с окна и, воспользовавшись своей наготой, сначала обняла Ивана, а потом прильнула к его губам. – Солнце мое пропащее! Ласка моя весенняя!.. – почти простонала она и, сгорая от накопившейся страсти, расстегнула его рубашку. – Я тебя никому не отдам. Даже своей единственной дочери! Ты спасение мое! – Она еще нежнее прильнула к его бледным, воспаленным губам, как будто это были не губы, а еще не совсем зрелая, но уже пьянящая до одури ягода лесной земляники. И жадно всасывала его губы до тех пор, пока горечь его слез не стала сладкой и дрожащие от счастья руки не потянулись к ее возбужденным бедрам.
– Маша, прости меня, но я не к тебе пришел, – растерянно прошептал он. – Ты знаешь меня, я не люблю лгать. Как это ни печально, не к тебе.
– Замолчи! – Лиственница упала Ивану в ноги, и было слышно, как ее красивое разгоряченное тело словно обожгло траву возбужденной грудью, наполненной в это мгновение неистовым теплом любви. – Как ты можешь так говорить, друг мой, вечность моя?! Неужели ты совсем не любишь меня? Ты пойми, Ваня, и серьезно отнесись к этому. Не исключена вероятность, что Вера, а это, наверное, так и есть… Я тебе никогда не говорила.
– Маша, что с тобой?! Почему ты вдруг замолчала?
– Мне трудно говорить про это сейчас. Но лучше сейчас сказать, чем потом.
– Да говори же, что ты молчишь?!
– Ваня, милый мой, любимый и очень дорогой мне человек. Моя распутная, как ты называешь ее, Верушка.
– Ну, ну..
– Может быть, твоя кровная дочь.
– Ты с ума сошла, Маша!
– Да! Да! – почти выкрикнула Лиственница. – Твоя Верушка, которую ты очень любишь и от которой ты хочешь иметь роскошного богатыря, может быть, твоя кровная дочь!
– Не кричи, Марья. Тебе будет еще хуже, если твой Миша услышит.
– Миша за лосями ушел на неделю.
– Все равно, закрой окно. Я не хочу, чтобы Верушка слышала нас.
Лиственница медленно поднялась на ноги и неторопливо закрыла окно снаружи. Между ними возникло какое-то неловкое молчание.
Она сразу почувствовала это и, стараясь отвести беду, вновь потянулась к Ивану всем телом. Оборвав невыносимое молчание, она почти в исступлении припала своими разгоряченными губами к его оторопевшим губам и вдруг, не помня себя от счастья и неги, прошептала своему любимому те самые бескорыстные слова, которые звенели в его ушах вот уже двадцать лет подряд.
– Ваня, целуй меня, целуй, иначе я потеряю тебя. Любовь свою потеряю. А ты потеряешь все! Волю, заботу мою, женщину, которая боготворит тебя, как Солнце, как мечту, как Иисуса Христа, – вдруг еще тише заговорила она, словно предчувствуя какую-то новую беду. – Ты видишь, даже любимая дочь встала на нашем пути. Мне жаль тебя, Ваня, как родного брата, как человека, знающего, в чем смысл жизни… Ты слышал, что следователи опять зачастили на твою могилу..
– Не может быть?!
– Неужто дьявол, как и Всевышний, бессмертен?! Кто-то видел тебя живым и сообщил куда следует. Не забывай, Ваня, что тебя нет на этой грешной земле. Нет!!! Березовские, Абрамовичи, Перекуповичи и прочие баксоугодники есть, а тебя нет! И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не достанем для тебя паспорт с двойным гражданством. Если вскроют твою могилу и узнают, что в ней не ты, беды не оберешься. Нехристи посадили тебя за правду, они и ловить будут, потому что боятся света правды твоей, мудрости твоих мыслей, любви твоей к земле, на которой ты вырос и правду научился говорить. Неужели нас опять разлучат?! – Лиственница нежным, еле заметным движением разгоряченных губ опять припала к его губам и, обняв своего любимого, осторожно потянула на теплую, нагретую весенним солнцем землю. – Жуткий рок навис, Ваня, не только над тобой, но и над всей Россией, – сквозь слезы шептала она. – «Законопослушные» мошенники да гадкие перекупщики процветают на каждом шагу… Православному человеку, верящему в честный труд, житья нет! Я, Ваня, готова идти за тобой куда угодно, хоть в Сибирь, хоть в тундру, хоть на край света, потому что ты для меня луч солнца. Они, Ваня, хотят отнять у нас все. совесть, искренность, правду, братство, а главное – отнять Россию, повесив на наши уши лапшу виртуального мира, где роскошь есть, жратва есть, баксы есть, а совести нет! А как, Ваня, русскому человеку жить без совести?!
– Машенька, ты совсем раздетая, к ночи заметно похолодало, – произнес Иван, чувствуя, что подруга увлекает его на скошенную под окном траву. – Неужели тебе не холодно?
– Мне жарко, Ваня. Я тоже счастлива, когда ты рядом. И зря ты, Ваня, отдал золотую безрукавку моей дочери. Она не поймет ее целительной силы и тебя не поймет..
– Ты так думаешь?
– Нынче голова ее забита таким искусством, от которого и тебе и мне мало не покажется. Иди ко мне, милый мой, родной мой, звездочка моя негаснущая… Я хочу ласкать тебя, как и прежде, прямо на траве среди цветов.
– Да, да, Маша, я тебя понимаю. Но ты прости, родная моя, мое безумное сердце. Твоя дочь, словно весенняя ласточка, влетела в мою душу… Я весь день, Машенька, места не нахожу, потому и пришел к ней.
– Значит, миленький мой, к ней пришел, к ней! А то, что я почти каждый день сушу лекарственные травы и езжу за аккумуляторами для твоей небесной обсерватории! Кто тебе помогает, чтобы звезды не погасли в твоей душе?! Чтобы ты был всегда сыт и не зарыл свой талант?! Не торопись, Ваня. Не спеши. Со временем ты сам поймешь, что к чему и нужна ли тебе Вера. Ты слышал, что начальник той зоны, где ты сидел последний раз, арестован?
– Знаю, Маша. И то, что срок усопшего, похороненного вместо меня, отбывает человек по фамилии Распутин, тоже знаю. В мире, где главное – деньги, человека бросают на кон и тасуют, как засаленные карты.
– Наверное, поэтому, Ваня, твоя свобода стала рабством. Может, бедолагой, которого похоронили вместо тебя, кто-то заинтересовался и вдруг узнал, что вместо него в тюрьме сидит другой человек.
– Этого я не знаю. Одно скажу: начальник зоны, как родной отец, отнесся ко мне. Белье новое дал, обувь на меху из офицерского снаряжения и три целебные безрукавки с золотой ниткой.
– Вот они откуда!
– Его тоже интересовали звезды, космос, новые открытия умных людей. А ему эти безрукавки подарил один вор в законе, специалист по нанотехнологии международного класса. Начальник так и сказал мне, когда на свободу выпускал: «Возьми эти рубашки, звездочет. Они тебе очень пригодятся, когда будут бить, преследовать за любовь к России, как пахана, как изгоя, как экстремиста». Он, словно чайку, выпустил меня на свободу. И был уверен, что я не «расколюсь». Даже денег дал на первые два месяца. Лети, говорит, как чайка, попутного ветра тебе.
– Что же ты, Ваня, хотя бы волчий паспорт у него выпросил… Ведь только один Бог да я знаем, что ты живешь на земле.
– Просил, Машенька. Но в этом он отказал.
– Обними меня, Ваня, крепко, обними, – еле слышно вдруг прошептала Лиственница, почувствовав, что Иван бесконечно благодарен ей за ее сострадание к нему и за ту нежную страсть, не гаснущую на протяжении двадцати лет. В этот счастливый момент столько печали было в ее добрых деревенских глазах, столько искренней, почти детской радости, что Ивану даже как-то неловко стало, ведь он пришел не к ней, а к ее дочери. Он, словно загипнотизированный, сразу обмяк, разнежился и крепко прижал свою давнюю подругу, которая и в самом деле пахла смолой и душистыми ароматами северной лиственницы. В эти минуты он, как ребенок, радовался своей свободе и тому, что он кому-то еще нужен. Ему сейчас не хотелось думать о том, что в любую минуту его могут забрать и посадить еще раз на третий срок.
Сильный раскат грома на несколько мгновений оборвал его блаженные мысли и те необъяснимые нежные чувства, которые он когда-то испытывал к Марье Лиственнице. Конечно, они с годами притупились, словно растаяли в заботах и ласках Марьи. Но сейчас он вдруг понял, что они вновь, словно весенние невидимые огоньки, растревожили его сердце и понесли бог знает куда. «Может быть, это оттого, – кольнуло его где-то внутри, – что Вера кровная дочь Маши, и то, что когда-то было в Лиственнице и с годами исчезло в ней, теперь с удвоенной силой, с удвоенной энергией проявилось у ее дочери».
Сердце словно обманулось любовной иллюзией, уже знакомой, но сильно омоложенной страстью, казалось бы, совсем другой женщины, но, как и прежде, очень близкой по духу, ощущениям. И новое, более сильное блаженство и какая-то неистовая, почти дикая физическая страсть вдруг охватила его душу. «Может, весна на дворе?» – подумал он, чувствуя, что ноги его подкашиваются от головокружительной радости, которую он испытывал к Марье много лет назад. «Может, от белых ночей в сердце такая ни с чем не сравнимая тоска по новым ощущениям и огромное желание совсем другой, еще нераскрытой женской тайны?» – опять подумал он, и сердце его наполнилось еще большей радостью.
– Ты прости меня, Маша, но мне надо идти, – прошептал Иван, как только дверь в избе сильно скрипнула и послышались шаги Веры. – Я буду ждать ее на кладбище.
Вера не обнаружила в комнате своей любимой матушки. Сердце ее замерло. Она и так уже была потрясена появлением Ивана, и потому все, что происходило с ней после знакомства с его могилой, становилось теперь каким-то странным головокружительным сном.
Она оглядела комнату, потом кровать, на спинке которой все так же висело матушкино белье. Даже туфли родительницы остались в том же положении. Но матери в комнате не было.
«Ведь она совсем голая, – сразу спохватилась Вера, почуяв что-то неладное. – Куда она могла исчезнуть?!» – С какой-то детской смутной тревогой Вера растерянно подошла к окну и, распахнув его, застыла в недоумении.
Под старой, сильно покосившейся калиной, прямо на траве, словно Венера Милосская, лежала ее обнаженная матушка и, тихо всхлипывая, шептала молитву. Где-то высоко в небе, над ее ошалевшим от обиды и недоумения заплаканным лицом, тянулись темные облака и рваные тучи.
Вера хотела броситься к матери, утешить ее, но, когда она увидела в ее беспомощной руке колдовскую мужскую рубашку с яркой золотой ниткой, точно такую же, какую подарил Иван, сердце ее сжалось. Она тяжело вздохнула, растерянно закрыла окно и, быстро одевшись во все нарядное, не теряя времени, поспешила на кладбище.
Она уже не сомневалась в том, что Иван жив, и в душе от этого было светло, радостно. Ей хотелось смеяться и плакать от одной мысли, что скоро она встретится с ним. И хотя они не виделись всего одни сутки, сердце сильно стучало, и ей хотелось кричать от счастья. Ведь за эти странные сутки, похожие на вечность, она столько поняла в жизни, столько перечувствовала, и душу ее теперь тревожило одно желание – как можно скорей попасть в тот мир, в ту счастливую иллюзию, которой живет он – человек, идущий от Солнца, и, конечно, его таежные друзья. «Может быть, его мир придуман, может, он не такой ухоженный и богатый, как ее благополучный и процветающий „элитный“ дом, – размышляла она, – но все равно он должен быть прекрасным, потому что к нему хочется прикоснуться, понять его, пусть даже только мыслями, пусть только фантазией или догадками… Ведь в нем живет человек с чистой, не подкупленной и не отравленной всякими мерзкими прибамбасами совестью – совсем другой человек. И ей, одинокой Вере, он нужен, даже просто необходим, – размышляла она, – хотя бы для того, чтобы не сойти с ума от этой безумной действительности, от этого дикого животного маразма, наполнявшего ее жизнь такими „прелестями“, от которых хотелось стонать и реветь. – Сейчас у меня много денег, – размышляла она, – много тряпок и всякой электронной техники, но нет никакой гарантии, что завтра это сохранится, и тогда опять одна дорога – в „элитный“ дом. Может, с Ваней будет все иначе? – светилась в ее душе надежда. – Может, его, совсем другая, любовь сумеет изменить мою запутанную жизнь и поможет мне разобраться, что такое настоящее счастье, верность, взаимность».
Вера уже догадывалась, что Иван появится перед ней так же внезапно, так же необычно, как и в первый раз, потому что на кладбище она видела его могильный крест и поняла, что он скрывается от многих людей и, наверное, от правосудия. Она была готова ко всему, лишь бы поскорее увидеть его.
Ей хотелось раскрыть перед ним самые сокровенные женские тайны, чтобы он стал еще нежнее и ласковее. Она уверяла, что от ее чуткой искренности он будет на седьмом небе. И она, так внезапно, так неожиданно влюбившаяся девушка, обязательно расскажет ему, почему после бессонной ночи с ним она стала совсем другой и от любви к нему в ее сердце проснулось необыкновенное чувство, дающее ей теперь столько ни с чем не сравнимой энергии, радости, блаженства.
Не помня себя от счастья, Вера почти пролетела больше километра скорым шагом и вдруг вспомнила, что забыла подтянуть свою хрупкую, слегка ноющую талию и привести в порядок воспаленные, заметно искусанные губы. «Боже! Я даже забыла в заиндевевшую грудь вогнать силиконовые наполнители!» Она замедлила шаг, хотела вернуться обратно в дом за шприцами, но часовня, сиявшая от луны на фоне фиолетового звездного неба, уже светилась вдалеке своими божественными красками и манила Веру, словно спасительная ворожея безнадежно грешную падшую женщину.
«Как хорошо, что я надела свое новое французское белье, которое так здорово пахнет альпийскими лугами и подтягивает фигуру», – переведя дыхание, подумала она и еще быстрее пошла в сторону кладбища.
У ворот кладбища Вера остановилась и, достав дамскую барсетку, огляделась по сторонам. Белые ночи постепенно набирали силу, но этой ночью было намного темнее, чем прошлой, потому что с юга двигались черные тучи и старая часовня, в которой давно не было службы, напоминала огромное безмолвное надгробье.
Вера достала из барсетки маленькое зеркальце в виде сердечка, потом крохотный японский фонарик и, глянув в зеркальце, не узнала себя.
В зеркале она увидела женщину, глаза которой излучали неиссякаемый яркий свет, как будто внутри их горели праздничные пасхальные свечи. А искусанные губы, – обратила она внимание, – хотя и не обработаны силиконом, но тоже словно горят в ночи.
«В Москве меня окружают люди, чтобы утолить свои сексуальные потребности или встречаются со мной ради штучных деловых тусовок, чтобы расслабиться по возможности и оттянуться, – опять почему-то подумала она, разглядывая свои глаза и губы. – Но сегодня я поняла, что там никто не любит меня и не ждет, прекрасно зная, что за паровозом я бегу в полном одиночестве. У меня нет другой опоры. Значит, человек, идущий от Солнца, мне просто необходим, как воздух, как свет, как сама жизнь. Ведь он предлагает мне свою любовь, свое сердце, в котором и страсть, и мощная энергия добра, радости, сострадания… А там, чего греха таить, почти у всех на уме одно „бабло“ да процветание за счет обмана или жестокости, да еще под крышей праздного господства, лжепатриотизма, а иногда и христианства, дарующего блаженство и высоту духа при помощи дорогих освященных лакомств или немыслимых жертвоприношений, а хуже того, под крышей тупых чиновников, стоящих у власти, с барскими замашками и цинизмом».
Вера выключила фонарик, хотя было уже довольно темно, холодно, и где-то вдали, несмотря на раннюю весну, горели сполохи северного сияния – предвестники стужи, заморозка. «Удивительно, даже забавно, – неожиданно прошептала она, разглядывая могилы. – Вчера здесь было намного светлее и приветливее, но я шарахалась из стороны в сторону и сгорала от страха… А когда я увидела лохматых собак, сердце ушло в пятки. Сегодня намного темнее и жуткий холод стягивает лицо и руки, а мне нисколько не холодно, не страшно и даже празднично на душе. Мне даже кажется, что многие похороненные здесь люди наверняка живые. Только я не знаю, где они сейчас находятся и какому Богу молятся. Может, они, так же, как Иван, прячутся в таежных лесах и болотных лывах по всей России от „элитных“ домов, рабства, жестокости. А почему они прячутся и почему любят родную землю больше, чем собственную жизнь, теперь я начинаю догадываться».
Иван ждал свою невесту на старой звоннице покосившейся колокольни, и, как ей казалось, одежда его, глаза, лицо, руки светились всеми цветами радуги.
Сначала Вера увидела его белоснежную рубашку, потом загорелые руки с букетом полевых цветов, потом теплый вязаный жилет, такой же нарядный, как ее французская кофта из белой пряжи, а потом его огромный картуз, из-под которого улыбалось озаренное северным сиянием строгое русское лицо.
«Да он и в самом деле солнечный человек, иначе его и не назовешь», – почему-то подумала она и пошла к нему навстречу еще быстрей.
– Верушка, моя милая Верушка, – сразу услышала она его приглушенный, низкий, как шум сосен, голос. – Ты прости меня за все страдания, за все муки, которыми я растревожил тебя в первый же день нашей встречи.
Иван, словно разбуженный весенними запахами белый медведь, спустился с колокольни, и лицо его засияло еще шире, радостней.
– Я твой… Делай со мной что хочешь, но я твой, – тихо произнес он. – Пусть это кажется навязчивым, но это так. Я теперь твой до гробовой доски. Я понял, Верушка, что ты можешь любить, а это для меня все! Ты богиня моя. Звезды светят только тем, кто может любить. как ты, сказка моя неповторимая. В любую пору, в любую беду, в любое ненастье. Ты пришла ко мне, несмотря ни на что. Ведь я, прости меня, был уже похоронен не один раз и не на одном кладбище. Но я жив, Верушка, жив! Потому что бескорыстная любовь всегда удивительна и вечна, как наши ночные звезды. Не те звезды, которые «впариваются» нам круглые сутки по телевидению и радио, а те, что даны Млечным путем, самой природой. Они, словно Солнце, озаряют нашу дорогу и стараются изо всех сил продлить нашу грешную безумную жизнь, которая существует не только на Земле, но и на других планетах. Они помогают нам бороться за счастье. Сегодня, Верушка, мы отправимся с тобой туда, где пахнет вереском, багульником и каждая живая тварь имеет свою неоспоримую ценность. Туда, где еще не ступала нога ни одного, обалдевшего от свободы и беспредела гадкого, алчного мерзавца по прозвищу «крутой и продвинутый». Там нет «элитных» домов и райских фонтанов, так же, как и дикого бизнеса, от которого разит глупостью, невежеством. Но там есть дух России, и в лесах токуют не электронные голуби и кукушки, а настоящие живые глухари, тетерева. А теперь позволь обнять тебя, ягодка моя пропащая. Я не видел тебя целый день. – не найдя больше слов, Иван Петрович с какой-то необъяснимой дрожью в голосе, робко, словно взрослый напроказничавший ребенок, подошел к Вере и обнял ее так, что она сразу поняла, что нет управы на его разнеженные чувства и неистовую страсть.
– Пойдем, Верушка. Скоро совсем стемнеет. Впереди у нас три дня и три ночи волшебного пути.
– Куда, Ваня?
– В мое брусничное суземье.
– Пешком?
– Сегодня – на лошади, а завтра – посмотрим… Розвальни ждут нас у кладбища. Пойдем. – Он также робко и с какой-то удивительной теплотой посмотрел на могилы, огляделся по сторонам и, резко сняв картуз, трижды перекрестился.
– До нового свидания, землячки, – тихо сказал он. – Простите, что я опять жив остался, а вы нет. – И они пошли к упряжке.