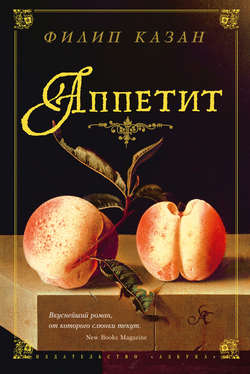Читать книгу Аппетит - Филип Казан - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Второй поворот колеса Фортуны:
«Regno» – «Я царствую»
Оглавление9
Флоренция, 1471 год
Некоторые люди любят кухни, когда в них все бурлит и пышет, гудит от голосов и жара, когда в воздухе повисает некая ярость и туман из раскаленного масла и пара, а стены будто потеют луковым соком. Но для меня кухня прекрасна, когда пуста. Когда все тихо, только потрескивает огонь, и я могу перемещаться по ней, не сталкиваясь плечами с дюжиной потных мужчин. Когда есть тишина и время, потому что время для повара драгоценней шафрана.
Пару раз я приходил в таверну «Поросенок» после полуночи. Шум на улице будил меня, и я начинал беспокоиться из-за крестьянина, который должен был доставить партию провизии на день, и понимал, что уже не засну. Я заходил, снова оживлял кухонный очаг и какое-то время сидел, глядя на пламя. Потом приступал к работе: резал лук, крошил чеснок, отделял хорошие травы от тех, что успели загнить. Это было немного, но все же лучше, чем ничего. Ночная работа должна была убедить моего дядю Терино, опять и снова, что его племянник ставит готовку превыше всего. Вот уже пять лет я пытался ему это доказать, и все пять лет он меня игнорировал.
Разумеется, и другие события произошли в нашей жизни, как и в нашем городе. Флоренция подобна сковороде, поставленной на слишком большой для ее содержимого огонь. Люди возвышаются и терпят крах. Великий триумф – а потом они уходят навсегда. Вечно что-нибудь ужасное маячит на горизонте. Все взболтано, поджарено и выброшено. Пьеро де Медичи разгромил своего могучего соперника Луку Питти, и этого напыщенного петушка, разряженного в красный шелк и вечно кукарекающего со своей груды золота, почти позабыли. Теперь нами правил сын Пьеро, молодой Лоренцо, чудо нашего века. Жизнь хороша, если ты друг Медичи. Флоренция чувствовала себя новой, словно только что выскользнула из литейной формы ювелира. Казалось, Лоренцо научил нас всех сиять, если только вы не скучали по прежней Флоренции, где хорошие манеры ценились превыше денег и мастерства. Или, к примеру, вы были семьей вроде Пацци, из знати, которая жаловалась, что Пьеро, а теперь Лоренцо покончили с республикой и правят Флоренцией, словно князья. Или если вы сделали «Popolo e Libertà» – «Народ и свобода» – своим боевым кличем и восстали против могущественного «Palle!». Все, однако, понимали, что когда Франческо Пацци говорит о свободе, он имеет в виду свободу на благо семьи Пацци. Со старинными фамилиями в любом случае было покончено. В них больше не нуждались. У нас был золотой Лоренцо, и мы являлись золотым центром всего белого света. А «Palle» всякий раз пересиливало «Libertà».
Если бы Терино узнал, что я провел на кухне бóльшую часть ночи, стал бы он платить мне больше за все отданное ему время? Да черта с два! Брат моего отца держался за кошелек хваткой, подобной rigor mortis[8], и я начинал думать, что трубы Страшного суда вострубят прежде, чем он повысит мне жалованье. Наше родство он считал поводом нагружать меня работой без всяких ограничений. Если я поднимал вопрос оплаты, Терино рявкал, что делает мне огромное одолжение, позволяя болтаться по своей кухне. А если я жаловался, он шел прямиком к папе и давал понять, что брату своему он делает еще большее одолжение. Проблема – по крайней мере, для меня – заключалась в том, что он был прав. Он дал мне шанс, он платил мне достаточно, чтобы я мог одеваться по моде, и отпускал свободного времени ровно столько, чтобы я успевал помогать Верроккьо и Сандро, который теперь обзавелся собственной студией, смешивать краски и проклеивать доски под картины. А как только Терино понял, что я свое дело знаю, он предоставил мне полную свободу действий.
Поначалу я трудился под руководством человека, который управлял кухней пятнадцать лет: Роберто, бывший солдат, в итоге научил меня, как вести кухонное хозяйство. Мне уже исполнилось девятнадцать, и теперь я отвечал за еду в таверне «Поросенок», что было совсем не маленькой ответственностью. Наконец Роберто по горло пресытился обществом Терино и в один прекрасный день ушел. Посреди хаоса, который за этим последовал, я сказал дяде, что могу занять место Роберто. Узрев возможность сберечь несколько монет, он скрепя сердце согласился дать мне шанс. Потребовалось около двух месяцев ошеломительно тяжелой работы, чтобы убедить других поваров, что я теперь их начальник, но в конце концов мне это удалось. Надеюсь, это моя уверенность произвела на них такое впечатление, но подозреваю, что они попросту побаивались меня. То, как я чувствовал вкусы, было обычным талантом, но кухонный народ – суеверные ребята. Уверен, они гадали, достался мне этот дар с небес или из ада. Пока я делал так, чтобы им платили, и пока еда, которую они готовили, слыла лучшей на рыночной площади, они дарили меня своей преданностью. А если они еще и показывали за моей спиной «козу» – ну, я всегда был слишком измотан, чтобы обращать на это внимание.
Таверна «Поросенок» стоит прямо на рыночной площади. Мой дядя создал ей репутацию места с приличной едой и разумными ценами – в такое вы можете отправиться поесть и выпить, и вас при этом не будут беспокоить шлюхи и сводники, потому что «Поросенок» был одним из немногих заведений на рынке, которое не подрабатывало еще и в качестве борделя. Я так никогда и не узнал, почему мой дядя упорно не желал разместить наверху пару-тройку девиц или мальчиков. Похоть приносит больше денег, чем еда, и я сомневался, что репутация сводника сильно огорчила бы дядю Терино. Но какова бы ни была причина, «Поросенок» оставался честной таверной, и потому наши завсегдатаи были людьми непростыми. К нам захаживали ученые мужи, наиболее успешные художники, даже банкиры. Всем им вроде бы нравилась моя стряпня, так что Терино поднял цены, и, к нашему удивлению, заведение стало даже еще более популярным. Это означало больше работы для меня, в то время как Терино только крепче затягивал кошелек.
Но на кой черт такие обязанности мальчишке, которому почти двадцати лет. Во Флоренции ты не считаешься мужчиной, пока не приблизишься к тридцати, если, конечно, ты не бедняк, а в этом случае тебя назовут мужчиной и приставят к делу, как только ты научишься стоять на ногах. Мой отец был не особенно богат, но все же достаточно зажиточен, чтобы позволить сыну прожигать жизнь в том возрасте, когда все это делают. Я знал: он бы это и предпочел, потому что сын-бездельник представлял отца в выгодном свете. Думаю, будущее, которое он для меня воображал, состояло из кутежей ночь напролет, игорных долгов – Бог даст, небольших – и любовниц, пока мне не стукнет тридцать: тогда я женюсь на наследнице приличного состояния и примусь за настоящую работу по продвижению рода Латини в первые ряды флорентийского общества. Но я не желал быть мясником, да и прожигателем жизни стать не стремился.
Я вообще не хотел ничего делать после того, как Альбицци вырвали Тессину из моей жизни. Рынок казался опустевшим и бесцветным. Сначала, когда Филиппо уехал, я все время торчал на кухне, в некоем неистовстве готовя все, до чего мог дотянуться, а Каренца смотрела на меня со все большей тревогой. Некоторые блюда выходили хорошо, некоторые оказывались несъедобны для всех, кроме меня. Выбросив уж слишком много еды, Каренца потеряла терпение и изгнала меня из кухни. После этого я утратил аппетит и проводил время, пробуя на вкус вещи, которые обычно не пробуют: железную задвижку на своем окне, мебельный лак на спинке кровати, паутину. Я лежал на полу посреди комнаты, зарисовывая то, как выглядят вещи и их вкусы. Сперва мама, а теперь Тессина покинули меня, и не осталось никого, с кем я мог поговорить о картинах и цветах, которые возникали у меня на языке. Я писал Тессине длинные письма, полные странных образов и ощущений. После того как первые два вернулись нераспечатанными, я продолжал писать, но письма отправлялись в огонь. В конце концов я забросил и письма и просто сидел часами, слизывая чернила с пера, ощущая, как черные слова бьются у меня во рту. Папа начал тревожиться, что, едва утратив жену, потеряет и сына. Я никогда не говорил с ним о Тессине, и мне бы в голову не пришло довериться ему сейчас. Он бы не понял. Я и сам себя не понимал. Но папа, встретившись с проблемой, стремился ее решить. Другой человек, возможно, пошел бы к священнику. Наверное, тут проявился здравый смысл мясника, заставивший моего отца поговорить с Каренцей, или, может, просто счастливое стечение обстоятельств, но, как бы там ни было, однажды вечером они загнали меня в угол на кухне.
– Как думаешь, твоя мать одобрила бы твое уныние, а? – спросила Каренца. – Нет, уж точно тебе скажу, не одобрила бы. И ты провел с ней целых четырнадцать лет, так что будь за это благодарен. Я потеряла маму, когда мне было два года. Да и к тому же ты вроде как не один в мире.
Я хотел сказать ей, что никогда не бываю один, что каждый запах, влетающий в мое окно, оживает передо мной, словно картина, которая не исчезает, если я закрываю глаза. Что я знаю, какое блюдо каждый житель нашей улицы ест на завтрак, обед и ужин. Что вишни синие, а кусок запеченной говядины – это замок с зубчатыми стенами из соли и перца, с башнями жженого сахара.
– Я бы отдала золотую монету, лишь бы увидеть, что творится у тебя в голове, мой мальчик, – продолжила Каренца. – Пока ты тут все время готовил, у тебя хоть бывала улыбка на лице.
– Потому что, когда я готовлю, все хорошо, – буркнул я. – Если бы ты просто позволила мне делать то, что я хочу, здесь, внизу…
– В каком смысле «все хорошо»? – спросил папа.
Я посмотрел на него. Его лицо было бледным, и я заметил, что левая рука у него изменилась. Мизинец был замотан грязной повязкой, и от него остался лишь обрубок.
– Ты отрезал себе палец? – спросил я.
Он кивнул. Я взял его руку и на миг неловко прижал к себе. Она была тяжелая и лихорадочно горячая. Я знал, что должен что-то сделать для него, но не понимал, что именно.
– Тогда почему ты не оставил Джованни работать и не пришел домой?
– Потому что мне нужно делать это самому, – ответил он, как будто это была очевиднейшая вещь в мире.
– Но не ослиную же работу!
– Нино, здесь нет ослиной работы! Я научился всему от отца, а он от своего отца. Если это здесь… – он ударил в грудь покалеченной рукой и скривился, – если это здесь, то вся работа – радость. Это то, что я делаю. Это то, кто я есть.
– Вот поэтому мне нужно готовить, – сказал я.
Каренца шумно вздохнула и покачала головой. Но отец только наморщил лоб.
– Папа, почему тебе нужно продолжать работать в лавке, даже когда ты отрезал себе палец? Там Джованни. Там Пьеро.
– Джованни умеет продавать, но не умеет резать. Пьеро едва отличает овцу от… верблюда. Ни один из них не умеет видеть, Нино. Они не чувствуют. Ты что, не слушал? Это же не просто мясо – это целый мир.
– Именно об этом я и пытаюсь тебе сказать: кухня – тоже мир! – Мой голос звучал громче, чем я намеревался. – Это место, где живу я, единственное место, где я хочу жить!
Тут, побежденный смущением и стыдом, я выбежал вон.
Папа пришел ко мне в комнату позже. Начинало смеркаться, и я сидел посреди пола на своем вытертом турецком половике, стараясь не думать о запахах, наплывающих из окна: внизу, у Берарди, готовился кусок баранины, пролежавший в кладовой дня на два дольше нужного, а через улицу тушилась вяленая рыба, и в нее нужно было положить побольше чеснока и поменьше розмарина.
– Каренца говорит, ты весьма хорошо готовишь, – сообщил отец, подходя к окну.
Я знал, что он не может ощущать запахи вещей так же, как я, что он просто смотрит на голубей на крыше напротив.
– Похоже, ты можешь приготовить любое блюдо, которое умеет делать она. Я и понятия не имел. На самом деле она говорит, что никогда не пробовала такой еды, как твоя.
– Скажи ей, что я извиняюсь. Я больше не побеспокою ее.
– Нет-нет. Каренца полагает, что у тебя настоящий талант. Твоя мать тоже так думала.
– Правда?
– Не удивляйся. Мы разговаривали, я и твоя мать. Довольно часто. – Он выдавил слабую улыбку, и вот тогда я впервые осознал: он действительно любил ее. – Ты не хочешь поработать со мной в лавке?
– Что, сейчас?
– Нет, я имею в виду – каждый день. Я валандаюсь с Пьеро, как с мешком репы. А от тебя был бы толк.
– Не думаю, что мне стоит этим заниматься.
– Ты хочешь сказать: «Я не хочу».
Я пнул складку вытертого коврика:
– Нет, папа. Я буду хуже, чем Пьеро. Если я тебе кое-что скажу, обещаешь, что не будешь сердиться?
– Ладно.
– Мне нравится в лавке. Мне нравится работа…
– И ты хорошо ее делаешь, Нино. Честно. Ты же знаешь, я не говорю неправды.
– Спасибо, папа. Но я бы действительно стал плохим мясником.
– Я так не думаю! Почему бы?
– Потому что меня занимает только то, что происходит с мясом, когда его готовят! – выпалил я. – А работа мясника, она вся про… Ты имеешь дело только с продуктами!
– Конечно, Нино! И ничего в этом плохого нет.
– Да, но когда ты продаешь кому-то кусок мяса – телячью грудинку, скажем, – ты же, наверное, думаешь: «Какой отличный кусок мяса я тебе продаю, везунчик. И ты, конечно же, придешь еще».
– Ну, наверное, как-то так я и думаю. А почему нет? Я выбрал теленка. Отвел его на бойню. Подвесил и разделал. Кому, как не мне, знать, что он будет вкусным, так?
– Да, но как этот парень его приготовит?
– А это уж не мое дело.
– Я знаю. Но я-то смогу думать только об этом, – едва дыша, заявил я. – И ни о чем больше. Мне будет очень нужно узнать! Его сварят, нарежут и поджарят с луком и вержусом?[9] Сделают мортаделлу? Сосиски? Сопадо?
– Ради всего святого, какое еще сопадо?! – раздраженно воскликнул папа.
– Вот такое! Это мясо, тушенное с мускатным орехом, и медом, и красным вином… корицей, гвоздикой.
Вкусы на мгновение захватили меня, и я сглотнул. Не так давно я обнаружил еврейский квартал к западу от рынка и проводил многие часы, исследуя новые вкусы и странные незнакомые ингредиенты – странные для меня, конечно. Владельцы маленьких харчевен терпели мои расспросы, потому, возможно, что я был так очарован их едой, а вопрос религии ни разу мне и в голову не пришел.
– Понимаешь, папа? Я бы всегда хотел оказаться по другую сторону прилавка.
– Так ты хочешь стать поваром? – вздохнул папа.
– Мне нужно готовить! Если я не на кухне, то тоскую по ней. Я не могу это переносить. Знаю, это чушь.
– Вовсе нет, – тихо возразил он.
– Каренца права, называя меня чокнутым.
– Нет, не права! Но в любом случае она это не всерьез. Не думай о Каренце плохо. Она мне даже головомойку устроила, когда ты унесся.
– Мне жаль.
– Не надо меня так уж жалеть. Она рассказала, какая у нее появилась идея – ну, Каренца есть Каренца. Но в кои-то веки, эта идея хороша.
– Правда? Значит, мне опять можно пользоваться кухней?
– Нет. Она думает, мне стоит поговорить с твоим дядей Терино. И я сказал, что так и сделаю.
– О чем?
– У него есть кухня, так?
– Конечно есть. Но «Поросенок» – это же настоящее заведение. Ну то есть люди платят деньги, чтобы там поесть.
– И что? Моя лавка – тоже настоящее заведение. Если ты достаточно хорош, чтобы работать там, а я говорю, что так и есть, то ты и для «Поросенка» достаточно хорош. Тебе нужно работать, Нино. Или иди туда, или успокойся и занимайся тем, чем балуются мальчишки твоего возраста. Выходи на улицу и бегай там с друзьями.
– Мой лучший друг ушел, – горько сказал я.
– Арриго?
– Нет! Кое-кто другой.
– Уехал из города?
– Нет. Ушел.
– А-а. – Папа перекрестился, и я не нашел в себе сил объяснить, как все обстоит на самом деле. – Тогда, наверное, работа лучше всего. Возможно, только на время. У Терино хорошее заведение, ты многому научишься. Или, может, он тебя вовсе от этого дела отвадит, – с надеждой добавил он.
– Я… я подумаю.
– Так что, идем говорить с твоим дядей?
С минуту я кусал губы, потом кивнул.
– Наверное, я буду горшки отскребать, – сказал я.
– Нет, не будешь. Я об этом позабочусь. Ведь он мой младший брат, так? И мой клиент. Если не сделает, как я скажу, я уж постараюсь, чтобы ему вместо мяса одни хрящи доставались.
– Ладно, – кивнул я.
– Вот и хорошо!
Папа подошел и взъерошил мне волосы, осторожно, как будто боялся мозги поцарапать. Потом легонько дернул меня за мочку уха.
– Мне очень жаль твоего друга, – сказал он.
– Наверное… это все воля Божья, да? Мы же не можем с Ним спорить?
– Нет, – тихо ответил он. – Не можем.
10
За пределами рыночной площади едва светало. Коппо, мой главный помощник, явился чуть раньше вечернего звона. Поскольку я был совсем юнцом, да к тому же племянником хозяина, мне приходилось держаться заносчиво, дабы остальные повара начали уважать меня, и в любом случае для работы кухни в полную силу требуется, чтобы ею управлял кровожадный великан-людоед. Но сегодня утром у меня не было настроения, и я приставил Коппо толочь перец, поскольку знал, что сам он не удосужился бы сделать это. Когда пришли остальные работники, мы уже разложили все необходимое для обеда.
Теперь нам нужно было приготовить блюда, которые мы подавали всегда: суп цанцарелли с миндальными клецками; похлебки из рубца, зеленых бобов, телятины, фенхеля; жаренные на вертеле голуби, цыплята, зайцы, кролики, перепела, дрозды, миноги, угри; макароны по-римски, приготовленные в нежном, сдобренном салом бульоне; рыбный пирог; оладьи с турецким горохом, зеленью и рисом. Будет еще фруктовый пирог и торт с заварным кремом на десерт. Только я раздал всем указания, как в дверях вновь нарисовался дядя Терино. Вид кухни, где на заре кипит работа, вся подготовка закончена, все уже булькает над огнем, должен был бы восхитить его скаредные, всегда жалеющие времени глазенки, но он все это проигнорировал.
– На вечер, – сказал он, – есть особые заказы. Четыре жареных козленка. Два молочных поросенка. Телячья голова…
Я прибавил это все к тому, что уже мысленно готовил. Козлят надо будет отварить, нашпиговать салом, потом нафаршировать… Поросят…
– Для кого это? – спросил я, утирая пот со лба.
Господи, надо было поспать хоть пару часов, если я собираюсь наделать такое количество еды.
– Какое твое дело, для кого это?!
Лицо Терино надулось и покраснело от гнева, глаза, и в лучшие времена не слишком большие, будто и вовсе утонули в черепе. Такой уж между нами сложился ритуал: дядя был дурак, и я уже давно выучился не обращать на него внимания. Однако сегодня утром ощущение было такое, будто он закатил мне пощечину. Я стиснул зубы.
– Эта телячья голова… Ее надо приготовить каким-нибудь особенным образом?
– Особенным образом? Особенным образом? Ни в коем случае, юный мастер! Лучше просто подадим благородным господам на обед тарелку тепленького дерьмеца! Принесем сырую голову! Если ты думаешь приготовить что-то, кроме особенной телячьей головы, я отправлю тебя отскребать…
– Извини, дядя, – выдавил я, чувствуя, что мышцы моих челюстей вот-вот лопнут – так я их сжимал. – Как именно господа желают, чтобы им приготовили телячью голову?
– Ты что, дерзишь мне, племянник? – Он знал, что я ненавижу, когда он так меня называет перед работниками.
– Нет, вовсе нет. Но мне нужно начинать…
– Тебе нужно начинать прямо сейчас. Давай вытаскивай палец из задницы и займись настоящей работой! Стоишь без дела, когда все эти взрослые мужчины вокруг тебя…
– А пошел ты в жопу, дядя! – пробормотал я.
Терино наклонил голову, словно бойцовый петух:
– Что ты сказал?
– Я сказал…
Ложь, которую следовало произнести, всплыла у меня во рту: «Я сказал, дядя, как тебе угодно». Но я уже четыре года проглатывал слова, которые по-настоящему хотел высказать, – слова, которые, видит Бог, этому жадному до денег, чванливому засранцу необходимо услышать. И внезапно они выскочили, а с ними огромное облегчение, словно выдернул гнилой зуб.
– Я сказал: пойди и сам себя поимей.
В кухне стало так тихо, будто наступили мертвые ночные часы. Даже кипящий бульон и жарящийся лук словно примолкли в ожидании. Если так, они не разочаровались.
– Матерь Божия! – Терино тоже дошел до кипения. – Ма-терь Бо-жи-я!!! Ублюдок! Вон! Выметайся отсюда, ты, мелкий хрен! Никто не смеет совать задницу мне в лицо! Никто!
– Да неужели?
Коппо и остальные вытаращились на меня, застыв от предвкушения. Целая жизнь развернулась передо мной – целая жизнь выковыривания крошек похвалы из куч дерьма, пока этот самозваный тиран тут надувает щеки и кукарекает…
– Тогда ты, наверное, глуховат, – отчетливо произнес я, не вполне веря в то, что делаю это. – Потому что весь город за твоей спиной зовет тебя жуликом.
– Я тебя убью!
– Ой, даже палец не поднимай, жирная свинья. Я уже ухожу. Сам фаршируй эту телячью голову. А лучше – свою задницу.
И я направился к выходу. Прямо-таки гордо прошествовал. И взгляды всех, кто был в кухне, прожигали мне спину. Проходя мимо дяди, я посмотрел ему прямо в лицо. Его глаза на желчной физиономии выпучились, как у рыбы, губы шевелились. Наконец, когда я уже почти дошел до задней двери, что-то промелькнуло в его взгляде.
– Нино, стой!
Я обернулся. Пару секунд назад я трепетал от ужаса, но теперь мне стало все равно.
– Иди в жопу!
– Не говори так со своим дядей! – У Терино проступили вены, на шее они практически звенели от старания взять себя в руки. – Давай прекращай эту ерунду и возвращайся.
– Ты шутишь, что ли?
– Нет, не шучу! Возвращайся.
Я показал ему «козу» и отвернулся к двери.
– Погоди, я… – Он схватил себя за волосы и дернул посильнее. – Прости меня, Нино. Ты мне нужен в кухне сегодня вечером.
– Зачем? – огрызнулся я, кладя руку на задвижку двери.
– Потому что я окажусь в дерьме без тебя, доволен? Толстосумы будут там сидеть и ждать еды, а мне что делать, а? Бог мой, да без тебя на кухне что случится вечером? Нино… пожалуйста!
– Я хочу больше денег.
– Мы можем поговорить об этом позже.
– Ты, наверное, шутишь.
– Ладно! Хорошо! Больше денег! Все, что захочешь! Только вернись!
Я вернулся. А что мне еще было делать?
Как только закончился обед, я вышел на рыночную площадь и сунул голову под насос. Было пасмурно и влажно: ближе к вечеру грянет гроза. Я помахал Уголино, стоящему в своем углу и мешающему в горшках, как он неукоснительно делал каждый день, кроме воскресенья. Он, как обычно, меня проигнорировал. Голуби дрались за лучшее место на колонне Изобилия. По старой привычке я поискал глазами мягкое сияние волос Тессины в толпе у подножия колонны, но, конечно же, моей подруги там не оказалось. С того дня я больше не видел ее, даже в церкви. Она не умерла, иначе я бы услышал об этом, и не вышла замуж, потому что об этом знала бы вся Флоренция. Бартоло Барони я встречал один или два раза, пока он еще не уехал во Фландрию. Он прокатывался по гонфалону Черного Льва, словно говяжий бок, установленный на тощие ноги, раздавая милости и разрешая споры. Одни говорили, что он залез в карман к Медичи, другие – что Медичи к нему. Я обходил Бартоло десятой дорогой, а его сына и дальше, и, когда папа хвалил Барони за хорошую службу общине, я молчал.
Достаточно остынув, я вернулся готовить особые заказы Терино к ужину. Нафаршировал молочных поросят их собственными нарубленными внутренностями, вареными яйцами, салом, сыром пекорино, хорошенько приправил перцем, шафраном, чесноком, петрушкой и шалфеем. Они отправились на вертел медленно прожариваться, мальчик при них получил указание сбрызгивать тушки маринадом из уксуса, перца, шафрана и лаврового листа. Коппо было поручено обдирать голову теленка, которую я собирался сварить и подать с зеленым соусом. Я решил, что козлята, отваренные в молоке, выйдут слишком жирными, поэтому четвертовал их, нафаршировал целыми головками чеснока, черносливом и цветами тимьяна и поставил их в печь, пока готовится соус.
Терино предпочел бы что-нибудь традиционное, но я не собирался уступать ему ни пяди. Козлята были маленькие и нежные, первые этой весны, и мне представились желтые от дрока холмы, где они родились. Так что я решил сделать желтый соус, используя шафран – что было дорого и расстроило бы Терино, – миндаль и яичный желток. Все это отправилось в ступку вместе с вержусом и доброй щепотью имбиря, а потом в сито. Цвет получился не совсем таким, как нужно, и я добавил еще шафрана, хотя сработал бы и яичный желток.
Был уже довольно поздний вечер. Все получилось вполне удовлетворительно, хотя я аж голос сорвал, вопя на парня, крутившего вертел и чуть не спалившего поросенка. Куски козленка, зажаренные в подливе с шафраном и вержусом, яркие, как солнце, в своих одеяниях из соуса цвета дрока и украшенные настоящими веточками дрока с рынка, рагу из дичи… После того как последний поросенок был возложен на блюдо и унесен в зал, я сел на табурет мальчика при вертеле и понял, что совершенно вымотался. Я уставился в потолок, дыша словно карп, выброшенный на берег. Тут Терино просунул голову в дверь и кивнул мне, подзывая. Его пухлое лицо больше обычного побагровело от волнения.
– Выйди, Нино! Тут кое-кто хочет познакомиться с тобой.
– Ради Бога, дядя. У меня уже сил нет.
– Когда ты вернешься, мы обсудим твою пла…
– Господи!
Я с трудом выпрямился и проковылял мимо него. Одежда прилипла к моему телу, пропитавшись пóтом, ее покрывали зеленые и ярко-желтые пятна. Платок вокруг головы, наверное, был еще хуже, так что я снял его, и мокрые волосы упали мне на плечи. Я плелся по коридору, соединявшему кухню с обеденным залом, а Терино тяжело дышал позади, поторапливая. Я ненавидел выходить в зал в рабочей одежде. На кухне я был главным, но здесь выглядел как мальчик на побегушках и, едва ступив в шумное помещение, таковым себя и ощутил. Клиенты окажутся снизошедшими до повара банкирами с жирными пятнами на дублетах, а дублеты эти будут стоить больше, чем папина лавка. Когда они увидят, что я еще мальчишка, то начнут надо мной смеяться. Так уже бывало раньше. Терино лучше бы приготовиться к тому, во что это ему обойдется.
Обеденный зал, длинный, с низким потолком, освещался рядами свечей. Огонь тлел в камине, хотя на улице было тепло: Терино нравился запах и от жара не отсыревали стены. Толпы едоков уже начали покидать зал, оставляя выпивох. Я обежал взглядом столы, ища несъеденный ужин, но глиняные подносы почти все стояли пустые. Хорошо. Я гадал, где же мои банкиры, но потом увидел, как кто-то машет мне из угла за камином. Конечно же, Терино и должен был посадить их туда: в самую уединенную часть зала. Я вздохнул, вытер руки о фартук и направился к камину, петляя между столами. Однако, подойдя ближе, разглядел, что машет мне не кто иной, как Сандро Боттичелли. Какое облегчение! Я замахал в ответ и поспешил к столу Сандро. Пятеро рядом с ним оказались незнакомцами – один походил на юриста, да и другие, судя по одежде, не испытывали недостатка во флоринах. Все-таки банкиры? Может, Сандро обсуждал заказ? Один из незнакомцев казался совсем мальчиком. Другой, одетый лучше всех, сидел спиной. Остальные над чем-то смеялись. Потом человек, сидевший спиной, повернулся ко мне и улыбнулся.
Издали я видел Лоренцо де Медичи много раз, но тут он сидел передо мной, в паре шагов, и я, хоть несколько стыжусь признаваться в этом, чуть не бухнулся на колени. Во всей Флоренции не было более известного человека, а может, и во всей Италии – и вот он смотрит на меня.
У него оказалось странное лицо, полное нескладных плоскостей и выпуклостей. С одной точки он был похож на красивую жабу, с другой – на римского сенатора. Фамильный клюв Медичи у Лоренцо выглядел так, словно он клевал печень титанов на завтрак. Рот был широким, но почти безгубым, а брови – тяжелыми и ярко-черными, как и волосы. На самом деле это лицо казалось прекрасным, потому что в нем вообще не было никаких компромиссов. Если бы у меня нашелся кусочек угля, я бы бросился рисовать его прямо тогда, на своем липком фартуке.
– Ты, должно быть, Латини, – произнес Лоренцо голосом тонким и резким, как будто кто-то недавно ударил его в горло. – Иди посиди с нами. Сюда, рядом с Анджело.
Мальчик отодвинул свой стул вбок, а я подтащил пустой и сел. Тот застенчиво кивнул мне.
– Анджело Полициано, – сказал он.
Ему было, пожалуй, года на три меньше, чем мне, и я внезапно ощутил благодарность к мальчику: в сравнении с ним я казался старше.
– Я слышал, ты племянник Филиппо Липпи? – спросил Лоренцо, и я кивнул. – Вот Сандро тут рассказывает, что ты можешь рисовать с некоторой долей таланта своего дяди?
– Не стану хвастаться, – осторожно сказал я. – Не из скромности, но из честности, господа. Я бы хотел стать художником, это правда, но я всегда буду бежать позади лучших, пытаясь их догнать. Правда, с корзиной миног и мускатным орехом…
– Хорошо сказано. Мы все получили большое удовольствие от сегодняшнего пира. Разве не так, друзья? – (Вокруг стола поднялись бокалы.) – Давай-ка я тебя представлю. Это Браччио Мартелли, Джованфранческо Вентура… – (Двое мужчин в дорогих шелках кивнули, все еще ухмыляясь той шутке, которую я прервал, и, похоже, не особенно мною интересуясь.) – С Полициано ты уже знаком, и с Сандро, конечно. А это Марсилио Фичино. – (Человек, которого я принял за юриста, церемонно кивнул.) – Я бы и сказал, что он тоже наслаждался ужином, но, увы, Орфей наших дней не ест мяса.
– И ничего вареного и жареного, – вставил Сандро. – По счастью, он знает толк в вине.
В нем и самом, похоже, было уже немало вина, поскольку лицо его покраснело.
– Добро пожаловать к нашему столу! – сказал Фичино.
Он был невысок и немного сутул, хотя и не стар, а его довольно длинное лицо выглядело нежным и кротким. Голубые глаза сияли мягким спокойствием. Я принял его руку и почувствовал себя гораздо увереннее. Конечно же, я знал, кто он, и был очень польщен.
– Сандро здесь рассказывал мне о вашей работе, господин, – сказал я. – Платон… – Я порылся в мусоре собственной головы в поисках чего-нибудь услышанного от Арриго. – Вроде бы Платон говорит, что обжорство делает людей неспособными к философии и музыке и глухими к тому в нас, что от Бога? Могу представить, что вы думаете о моей профессии!
– Ты слышишь, Фичино? – Лоренцо де Медичи хлопнул по столу и расхохотался. – В нашей Флоренции даже повара цитируют Платона!
– Значит, ты поощряешь именно обжорство? – спросил Фичино.
Это мог бы быть язвительный вопрос, но я понял, что он не пытается меня уколоть. Я позволил своему взгляду обежать стол со всеми пустыми блюдами и грудами костей.
– Если и так, то, кажется, я делаю это не слишком плохо. Но мой ответ таков: мне нравится готовить для обжор в той же степени, как нашему Боттичелли – писать для близоруких заказчиков.
– Ага. Интересно. Но ведь тебе постоянно приходится делать именно это. Разве не в этом суть мест, подобных этому? И спешу добавить, в «Поросенке» превосходный винный погреб, так что я нисколько не очерняю достойное заведение.
– Нет, нет, конечно, – поспешно отозвался я, скорее чувствуя, чем видя, как Терино у кухонной двери заламывает руки. – Это правда, моя кухня служит людям, чья главная забота – чтобы живот был полон, а не то, чем именно его наполняют. Я-то желал бы, чтобы мою еду вкушали, ощущали ее вкус, а не заглатывали. Еда может побуждать думать, так же как музыка или слова на бумаге. Я полагаю, мы этого не понимаем просто потому, что выбрали не понимать. Если человек глух или слеп, мы его жалеем. Если он не ощущает вкусов, то мы говорим, что ему, наверное, повезло, и шутим насчет стряпни его жены.
– Истинная правда! – воскликнул Вентура.
Теперь уже слушал весь стол, и мне надлежало бы смутиться, но присутствие Фичино позволяло мне сохранять непринужденность.
– Вот художники вроде Сандро или моего дяди Филиппо – они используют краски, чтобы создавать свет и движение… и даже звук! Я имею в виду, можно расслышать шум толпы, ропщущей на святого Петра на фресках Мазаччо, которые в церкви дель Кармине.
– Это верно, – сказал Сандро. – Я их слышал.
– Перебрав вина, я слышу, как стена жалуется, когда я на нее мочусь, – заявил Мартелли.
Остальные засмеялись – все, кроме Фичино, который подпер пальцем подбородок, даря меня вежливым вниманием.
– Ну так вот, вкусы тоже могут это делать, – упрямо продолжал я. – Мы думаем, что пользуемся только одним чувством зараз: уши слышат музыку, глаза видят картину, но это совсем не так. Почему мы видим в голове прелестное лицо, когда слышим любовную песню? Почему слышим толпу у Мазаччо? Еда, господа, ничем не хуже – мы ощущаем вкус не только языком. Я вот о чем: что вы подумали о козленке? – Я ткнул в блюдо, и кости на нем брякнули.
– Я подумал о козлятах, играющих на холмах этой прекрасной весной, и почувствовал некоторую меланхолию, – сказал Лоренцо. – Но только на мгновение. Полагаю, все дело в цветах дрока. Но вкус мяса был столь превосходен, что я совсем забыл об этом. В общем, я представил, как козлята едят все эти свежие растения и как хорошо, должно быть, бродить по холмам, ни о чем не заботясь. – Он вздохнул. – Дьявольская забава, мессер Нино, – шутить над человеком, пойманным в ловушку своей службы.
– Простите меня, господин! Но я должен признаться, что именно этого я и хотел добиться!
– Тогда ты должен прийти и приготовить что-нибудь для меня.
– Я… – У меня отвисла челюсть, будто мышцы превратились в желе.
– Уверен, он скажет «да», Лоренцо. – Сандро наполнил кубок темным красным вином и подтолкнул его ко мне. – Однако я бы не давал ему думать слишком долго. Он к этому делу склонен, и на пользу оно ему не идет.
– Тогда решено.
Остаток вечера не помню, только взлеты и затихания слов и смеха. Когда я слишком вымотался, чтобы поддерживать беседу, я неловко поклонился компании и ушел спать под кухонный стол. И все это могло показаться сном, если бы мальчик в красно-зелено-белой ливрее Медичи не принес мне на той же неделе письмо – простой лист сложенной бумаги, на котором было написано:
Марсилио утверждает, что Сократ сказал: «Люди дурные живут для того, чтобы есть и пить, люди добродетельные едят и пьют для того, чтобы жить».
Я всегда полагал, что он все понимал неправильно. Спасибо тебе, что превратил меня, пусть на краткий миг, в горного козленка.
И под этими строками – колючая подпись самого Лоренцо Великолепного.
11
Прошла еще неделя. Как-то утром я скоблил на кухне свиную голову, когда кто-то вошел через заднюю дверь.
– Положи рядом с тем большим кувшином! – крикнул я, думая, что это принесли заказанное.
Но ответом было молчание. Тогда я поднял голову и увидел коренастого смуглого мужчину, с густейшими бровями и изборожденным морщинами лицом. Одна нога у него была немного кривовата.
– Ты Нино Латини? – резко спросил он. Выговор был иноземный.
– А кто спрашивает?
– Зохан ди Феррара.
Я выронил разделочный нож.
– Ты не он, – сказал я.
– Думай что хочешь. Тебе разве некому поручить эту ерунду?
– Мы… У нас сегодня на пару человек меньше.
– Гхм! – негодующе хмыкнул он. – Завтра вечером. Ты работаешь?
– У меня выходной.
– Жалко. Ты, похоже, сможешь это сделать.
– Что сделать?
– Палаццо Медичи. Пир на пятьдесят гостей. Только один вечер, так что не питай никаких таких идей. Если ты годишься только головы скоблить, то не трудись даже приходить. Но если у тебя есть кое-что в штанах, то увидимся на кухне за час до рассвета.
И с этим он ушел. Я плюхнулся на стул. Зохан ди Феррара был самым знаменитым поваром во Флоренции. Разумеется, он работал на Медичи – никто другой не мог себе его позволить. Повара болтали о нем, словно о Мерлине.
Я не сказал об этом Терино. Он повысил мне плату, но по своему разумению, а не по моему. До меня начинало доходить, что мое время в «Поросенке», пожалуй, приближается к концу. Я не должен оскребывать свиные головы, не так ли? С другой стороны, Терино – семья, и папа все еще думал, что дядя может когда-нибудь оставить таверну мне. Но опять же – Терино вовсе не так стар, его, может, еще лет на двадцать хватит. Двадцать лет он будет гадить мне на голову и вести себя так, словно купил меня на рынке рабов… Я не знал, к чему маэстро Зохан хочет меня приставить на своем пиру, но решил, что буду хоть тухлых фазанов ощипывать день и ночь, если смогу чему-нибудь у него научиться.
Так что на следующий день я проснулся очень рано, хотя едва смог уснуть, и ускользнул из спящего дома. Улицы были почти пусты. Я прошел по краю Пьяцца делла Синьория, повернул на север через округ Дракона. Дворец Медичи стоит в округе Золотого Льва, недалеко от собора Сан-Марко. Я не слишком часто забредал сюда: последний раз – год назад, когда умер Пьеро де Медичи и папа взял меня постоять у дворца вместе с толпой флорентийцев, пришедших отдать последнюю дань и показать молодому Лоренцо, что они на его стороне.
Я прошел следом за какими-то людьми, похожими на слуг, и они привели меня к черному входу. Дворец только начинал просыпаться, сонные мужчины и женщины, пошатываясь, брели по коридорам, приступая к первым утренним делам. Нос привел меня на кухню, где огонь горел всю ночь, и мальчик, ответственный за него, таращился на угли стеклянными глазами, покачиваясь на своем каменном сиденье. Масляные лампы горели на подставках, и еще здесь стояли дорогие свечи, сделанные из настоящего воска. Маэстро Зохан пока не пришел, и кухня вся была моя – огромная, повсюду мрамор, белый и блестящий, как будто его только что откололи от скал Колоннаты. Медных котлов и сковородок висело множество. Содрогнувшись при мысли о том, как это все оттирают и полируют, я выбрал уголок у огня и переоделся в рабочую одежду, а потом принялся раскладывать свои инструменты.
Вскоре ввалился маэстро Зохан, ведя за собой целую свиту других поваров и помощников. Начали подтягиваться и личные слуги Медичи, и помещения кухни чуть ли не мгновенно заполнились шумом. Великие персоны хозяйства тоже собирались: буфетчик, чьей вотчиной была вторая кухня дворца, где готовились сладкие блюда, и особенно огромные сахарные скульптуры, украшавшие каждый пир; закупщик, ответственный за закупку еды и ведущий учетные книги; виночерпий, выбирающий и подающий вино; ключник, распоряжающийся ключами от всех кладовых, погребов, клетей и буфетов; пекарь, закупавший зерно, надзиравший за качеством хлеба и отмерявший его всем в хозяйстве, кто имел на это право; нарезатель мяса за столом, поражавший гостей хозяина своим искусством и ловкостью; чашник, держащий ключи от винных погребов. И все они подчинялись стольнику мессера Лоренцо, уже совсем важной персоне, который следил за всеми и каждой сторонами развлечений своего нанимателя, был опытным поваром, мастером этикета, танца и режиссером-постановщиком. Я не помню стольника Медичи сейчас, только то, что он был старым и свирепым, настоящим дворянином из древнейших фамилий города – Перуцци или, может, Бранкаччи, – и я делал все возможное, чтобы избежать его взгляда. Как главный повар, маэстро Зохан отвечал только перед стольником, и сейчас они пребывали глубоко погруженными в тихое, но напряженное обсуждение. Когда мне наконец удалось привлечь внимание маэстро, он выдал неловко длинную паузу, прежде чем узнал меня.
– А, мальчик с рыночной площади, – наконец произнес он. – Я слышал, ты предложил своему дяде поиметь самого себя. Попробуй сделать так со мной, и от Шотландии до Китая не найдется ни одной кухни, которая тебя наймет. Ясно?
Я хмуро кивнул. Неужели уже весь мир знает, что я сказал своему дяде? Или так очевидно, что я хочу другую работу?
– Хорошо, – продолжал маэстро, топорща брови. – Что ты можешь делать?
Он взял со стола рядом длинную деревянную ложку и начал постукивать ею мне по грудине – рассеянно, но довольно сильно.
– Я могу делать все, маэстро, – быстро ответил я.
– Все? Это хорошо. Почисти тех миног. – И он махнул ложкой на три корзины переплетенных спутанных рыб.
На кухне мало более отвратительных работ, чем разделка миног, но именно к этому склизкому, вонючему чистилищу привел меня мой язык. Я нарушил два непреложных правила: изменил собственной семье и проявил непочтительность к старшим. Новости быстро разносятся в сообществе поваров – теневом мирке предрассветных сплетен и беспробудного пьянства, – а я привлек к себе внимание наихудшим образом из всех возможных. Единственное, что мне оставалось делать, – погрязнуть в работе, и я сделал это в самом буквальном смысле. Потому что разделать миногу – значит удалить ее чудовищное кольцо зубов, засунуть деревянный вертел ей в задницу и вытащить кишки, не повредив их – в противном случае вся рыба окажется испоганена мерзостными жидкостями, – но при этом обязательно нужно собрать вытекающую кровь, поскольку она идет в соус. После всего этого ты должен с величайшей осторожностью соскрести всю до капельки густую липкую слизь со шкуры. Я показал себя идиотом, но, по крайней мере, понял: маэстро Зохан ждет, что я пошлю его на хрен, чтобы вышвырнуть меня прочь. Так что я закатал рукава и приступил к работе.
Время скользило мимо, растворяясь в вонючем оцепенении, но в итоге у меня остались три пустые корзины и бóльшая часть миног, выпотрошенных и без слизи. Передняя часть моей котты превратилась в нечто отвратное, а руки будут пахнуть еще несколько дней, но я пошел и сказал маэстро, так скромно, как только мог, что работа закончена, зная: он просто обязан дать мне какое-то новое мерзкое задание. Но вместо этого Зохан, прищурясь, смерил меня взглядом с головы до ног и, кажется, нашел мой тошнотворно-грязный вид вполне удовлетворительным. Потом постучал меня по руке ложкой, которую носил с собой, словно командирский жезл:
– Теперь приготовь их.
И он развернулся и направился прочь, туда, где пекари раскатывали тесто для пирога.
Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой, но я понимал: меня ждет еще одна проверка, куда более опасная, потому что выглядит наградой. К счастью, я умел готовить миног. Я пробежался по кухне в поисках ингредиентов, вымаливая их, если приходилось. Миноги – роскошное блюдо как по вкусу и аромату, так и по цене, и испортить его – все равно что швырнуть кошель серебра в реку. Каждая рыбина получила в рот кусочек мускатного ореха величиной примерно с семечко апельсина, и гвоздику во все дырки по обе стороны головы – их там четырнадцать, как я намертво затвердил тем утром. Потом я скатал каждую миногу от хвоста к голове в плотный рулет и разместил на противне. Когда один противень заполнился и рыбы оказались уложены достаточно плотно, чтобы не развернуться, я налил оливкового масла, вержуса и какого-то хорошего пряного белого вина из Лигурии, чуть припорошил солью и поставил противень в прохладное место. Изысканное нежное мясо следует готовить в последнюю минуту. Я меж тем принялся делать соус: грецкие орехи – я предполагал миндаль, но грецкие выглядели такими сочными и вкусными – отправились к огню подрумяниваться, потом в ступку с изюмом, хлебом, вержусом и тем же лигурийским вином, чтобы превратиться в кашицу. Когда миноги уже готовились, я добавил в соус их кровь и немного сока с противня, щепотку имбиря, много корицы, еще несколько гвоздичин и выпарил все это. Внезапно рядом со мной возник маэстро Зохан, понюхал соус и противни с миногами и коротко кивнул:
– Хорошо. Теперь прекрати валять дурака и займись делом.
До сих пор у меня не нашлось времени поболтать хоть с кем-нибудь. Я, в общем-то, едва голову поднимал с тех пор, как пришел маэстро, а это случилось за несколько часов до рассвета. Теперь я оказался вместе с парой помощников Зохана перед горой из пятидесяти, по меньшей мере, овечьих ног, которые надо было почистить, вынуть кости и замочить для заливного. Как и Зохан, парни были родом из Феррары, но уже много лет жили во Флоренции и утратили заметный чужеземный акцент своего начальника. Это должен быть настоящий пир, сказали они. Прибудут неаполитанский посол с супругой и еще посол Милана.
После этого началась трепотня о менее благородных вещах, и к тому времени, как ножки были готовы, мы уже более-менее определились, что́ каждый из кухонных работников любит делать в спальне и с людьми какого пола. Мы приготовили заливное, и вскоре после обеда, который прошел мимо меня, поскольку я трудился слишком яростно, чтобы проголодаться, человек, отвечавший за мясо, получил противень кипятка на ногу от неловкого мальчишки, и его, охающего от боли, пришлось унести. Как наемник, которым я тут и был, я бросил новых приятелей, подхватил свои ножи и поспешил туда, где маэстро бесновался перед кучкой молочных поросят.
– Я мясник. Что вам требуется? – спросил я.
– Я думал, ты повар, – огрызнулся Зохан.
– Родился мясником, маэстро, – заверил я его. – Это в крови.
Я дал ему попробовать остроту одного моего ножа и вроде бы убедил.
– Но ты можешь это сделать? – с сомнением спросил он. – Их надо вывернуть наизнанку и нафаршировать.
Такова уж была моя кара: блюдо, в котором я пытался отказать своему дяде, вернулось ко мне в восьмикратном размере.
– Конечно могу, – ответил я.
Еще никогда я не работал так тяжело и много. В этот душный, безветренный день огонь в печах превратил кухню в Везувий, пышущий жаром столь сильным, что ты чувствовал его при всяком движении. Создавалось ощущение, что на каждом шагу ты проталкиваешься сквозь тяжелые плотные бархатные занавеси. Воздух был прямо-таки нафарширован запахами. Нос мой наполняла перечная пыль, глаза слезились. Я приготовил поросят, но уже с трудом. И все это огромное количество еды предназначалось лишь для одной части пира. Повсюду вокруг меня обретали форму другие блюда: первую перемену группа молоденьких девушек украшала засахаренными сливами, фигами, апельсинами и абрикосами, а также тонким золотым листом. Еще больше золота было налеплено на сладкое печенье из жареного теста, нарезанного замысловатыми фигурами и пропитанного пряным сиропом и розовой водой. Здесь имелись пироги всевозможных видов: наполненные свиными потрохами и тыквой; пироги в болонском стиле, с начинкой из сыра и перца, и пироги с каплунами и голубями. Были сосиски, целые окорока со всего севера Италии. Мои молочные поросята входили во вторую перемену блюд, как и миноги, лимоны, засахаренные и завернутые в тончайшую серебряную фольгу, гигантский осетр в имбирном соусе, зажаренная целиком косуля с позолоченными рогами, каракатицы в собственных чернилах. Трепещущее бланманже всех цветов вытряхивали из форм на серебряные тарелочки. Это было слишком даже для глаз, не говоря о желудке.
Я правил лезвие своего ножа, когда по моему темени постучала ложка Зохана.
– Вон там, – сказал он. – Твои миноги вот-вот будут готовы. Я поручил Чино закончить соус. Но это нужно сделать сейчас.
Я проследил взглядом за ложкой, и сердце мое упало. Группа измотанных пекарей, все в муке – от волос, бровей и ресниц до одежды, – собирала корку пирога шириной с мои раскинутые руки, испеченную частями и достаточно большую, чтобы накрыть ею стоящее рядом на полу медное блюдо почти с ванну величиной. А возле ванны только что поставили шесть плетеных клеток. Каждая клетка была полна серых черноголовых птичек, истошно верещащих, но в кухне стоял такой гвалт, что я даже не заметил, как их принесли.
– Поди помоги с «летучим пирогом», – сообщил Зохан и отправился осматривать опавшее бланманже.
Никакой большой пир не может считаться идеальным без «летучего пирога», но я терпеть не мог эти дурацкие штуковины. Печеная крышка скрывает блюдо, полное живых певчих птиц. Наверное, однажды, давным-давно, это кого-то удивило, но теперь во всем христианском мире не нашлось бы ни одного кутилы, который испустил бы что-то, кроме вздоха полнейшей скуки, когда корочку разрезают и птицы – те, что еще живы, – вылетают, чтобы биться в окна, пока не расшибутся до смерти, или рассесться на потолочных балках и оттуда капать на гостей пометом. Единственной сто́ящей частью этого блюда была съедобная сердцевина – обычно пирог, куда меньший, чем главный поднос, – но и та практически всегда оказывалась покрыта птичьим пометом и перьями. Как ни посмотри, одна потеря времени. Тем не менее следующие полчаса я вытаскивал перепуганных славок-черноголовок из клеток и запихивал под крышку пирога. Когда я закончил, мои руки покрылись царапинами от их клювов и когтей, а сам я чувствовал себя палачом. Я всегда питал слабость к святому Франциску, которого моя мать страстно обожала. Есть птиц – одно дело, но мучить их ради удовольствия богатеев – совсем другое.
Птицы в ужасе кричали под печеной крышкой, животные разлеглись на своих блюдах, золотую фольгу протерли до блеска, и Зохан суетился, бегая туда-сюда и разбрасывая специи и сахарную пудру направо и налево, словно какой-то языческий жрец. Он сунул палец в каждое блюдо, облизнул его и вытер о котту, оставляя влажную темную радугу жира, которая изгибалась от грудины до правого бедра. Только одно касание пальца – и кивок, а раз или два ругательство, и блюдо возвращалось, чтобы быть заново приправленным или выброшенным. Подавальщики и подавальщицы вбегали и выбегали, потные, бранящиеся и бранимые, забирали блюда и уносили. Маленький человечек в ливрее, который оказался мажордомом, выскочил из дверей и начал орать на Зохана. Зохан и все помощники окатили его потоком феррарской ругани, и он вновь ускакал.
Мои миноги проплывали мимо, возлежа на блюде с двумя ручками. Едва засунув последнюю птичку в «летучий пирог», я подбежал так, чтобы Зохан заметил это, и закончил соус сам. Зохан остановил женщин, которые их несли, сунул палец, облизнул, кивнул. И вместо того чтобы вытереть палец, улыбнулся, вновь макнул его, облизнул и махнул, чтобы блюдо несли дальше. Я отправился искать посуду, в которой миноги готовились. Там осталось немного хлопьев белого мяса, а одна рыба развалилась, и ее не взяли. Я подобрал пару кусочков и сунул в рот. Мясо получилось сладкое, совсем непохожее на рыбу, а текстура слегка напоминала молодого кролика. Кислота вержуса вошла в землистую пряность корицы, как меч в ножны. Такое блюдо могло вызвать у маэстро довольную улыбку. Я прислонился к столу и обмяк от облегчения.
В кухне царило теперь еще большее безумие, если такое возможно, но повара первой и второй перемены закончили работу, а подогревать и раскладывать можно было доверить слугам и помощникам. Все мы были голодны, но от бесконечной вереницы блюд, прошедших через наши руки, нас уже тошнило до невозможности хоть что-нибудь съесть.
Я снял свою пропотевшую липкую одежду и встал обнаженный посреди кухни; от моей кожи шли струйки пара. Повсюду вокруг меня мужчины делали то же самое. Служанки поглядывали на нас от дверей, их лица казались гирляндами роз. Меня всего трясло, и ощущение было такое, словно мускулы разжимались один за другим. Однако в голове шумело, и кровь в моих жилах пульсировала, горячая и готовая ко всему. Я справился. Я победил. Стоя здесь, под взглядами этих женщин, я ощущал себя не мужчиной, а здоровенным резвым сатиром, с густой, пропитанной подливкой шерстью на ляжках. А потом я посмотрел вниз, на себя. Мои снасти, которые несколько часов подряд парились в промокшей, горячей набедренной повязке, сморщились и стали похожи на жалкую кучку очищенных перепелиных яиц. Я поспешно отвернулся от двери и поддернул белье.
Посудная тряпка, более-менее чистая, – вот все, что мне удалось найти, чтобы вытереться досуха. Потом я натянул узкие штаны, невыносимо колющие разгоряченную кожу, рубашку и дублет. Затем подобрал рабочую одежду и выжал ее – потекла струйка темно-бурой жидкости. Теперь, когда огонь в печах погас, в кухне быстро становилось зябко и затхло. Влага, которую я выжал из своей одежды, осталась на руках: пот, слизь миног и тухлятина. Та же прогорклость поднималась от пола, от столов и немытых горшков, от мужчин и мальчишек, которые стояли рядом, почесываясь, моргая и зевая.
Все кухонные работники будто стали одним огромным, вонючим, шатающимся зверем, и теперь наконец-то зверь проголодался. Мы шарили по столам и пожирали все, что там валялось. То, что съесть не могли, заворачивали и совали в сумки. Я видел, как один повар сгребал себе в кошель мускатный орех из ящика, а другой набивал рукава своего фарсетто[10] палочками корицы. На одном столе стоял мешочек шафрана, полускрытый забытым куском корки для «летучего пирога», и я быстро сунул его себе в исподнее, потому что люди, как правило, не любят обыскивать нижнее белье. Весь этот грабеж происходил под снисходительным взором Зохана, который вершил правосудие в дальнем конце помещения. Одного за другим он подзывал к себе поваров, и они становились на колени на мраморные плиты, а маэстро наклонялся и что-то шептал им на ухо. Иногда это была похвала, потому что вызванный улыбался, а иногда порицание или увольнение, и тогда человек резко вставал и уходил, не встречаясь ни с кем взглядом. Потом пришел и мой черед. Я прошел и опустился на корточки у стула маэстро, а он легонько похлопал меня по плечу:
– Ты справился хорошо, и я доволен. Но никогда не говори таких дерзких слов своим начальникам, ага? Если ты когда-нибудь решишь покинуть своего дядю – но, конечно же, ты ни за что не сделаешь такой ужасной вещи, – приходи ко мне поговорить, ладно?
– Да, маэстро, – ответил я, чувствуя, как от облегчения у меня кружится голова. – А кто мне заплатит за сегодня?
– У тебя, парень, между яйцами шафрана на флорин, не меньше. Решим, что мы в расчете, правда?
Он потрепал меня по голове и отослал. Я взял ломоть панчетты и кусок сахара размером с кулак, попрощался с людьми, с которыми работал, и ушел.
Уже почти наступила полночь, а я так устал, как будто не спал полжизни. Соборная площадь была пуста, не считая человека, тайком беседующего в тени с парой юнцов. «Фико» должен быть открыт, и какие-нибудь друзья просто обязаны там сидеть. Возможно, я найду там кого-нибудь, кто купит мой шафран. Я шел медленно, воображая, что покинул Флоренцию и, взлетев высоко в ночное небо, плыву среди незнакомых созвездий.
12
Если бы я знал, что произойдет, то, наверное, не согласился бы в тот день играть в кальчо за команду Санта-Кроче. Впрочем, скорее всего, я сказал бы «да» в любом случае. Но единственное, что я мог предвидеть перед началом игры, – это некоторую потерю крови: стоящий напротив меня ублюдок с кабаньим лицом отличался такими широкими плечами, что наверняка с трудом проходил по половине улиц города, и всем обликом излучал злобу и враждебность.
Ночью прошел дождь, и мокрый песок под нашими босыми ногами был холодным и вязким. Но теперь стало солнечно – так тонко, по-апрельски, когда на свету тепло, а в тени холодно. Мы стояли, пятнадцать против пятнадцати, и рыли ногами песок, словно разъяренные бычки; нас омывал рев множества людей, наполняющих пьяццу, что понукали нас – или соперников через наши головы. «Черный Лев продает своих сестер!», «Драконы – сволочи и потаскухи!», «Парни Колеса…». А потом одинокий голос выкрикнул в момент почти полного затишья: «Popolo e Libertà!»
Я безотчетно оглянулся. Та сторона моей души, которую заполняла Флоренция, и ничто больше, выскочила на передний план, как и у всех в огромной толпе, кто услышал эти три слова. Не многие осмеливались бросить вызов Медичи таким кличем – только не после того, как Лука Питти пытался свалить Пьеро Подагрика в тот год, когда умерла моя мать. Теперь все кричали «Palle!» – в честь восьми золотых шаров на гербе Медичи. Не многие оспаривали власть «Palle», только парочка упрямцев из Ольтрарно да несколько старинных фамилий вроде Пацци, все еще болтающих, будто хотят вернуть прежнюю республику, когда все понимали, что они просто завидуют «Palle».
Как бы там ни было, на выкрик никто не обратил внимания. Человек, на которого мы все смотрели, с правой стороны трибуны для первых лиц, установленной на ступенях Санта-Кроче, не шевельнул и мускулом. Теперь «Popolo e Libertà!» утонули в «Palle! Palle!», и толпа радостно вопила и указывала на людей на помосте. Медичи. Они все собрались здесь, величайшие люди нашего города. Там был мессер Лоренцо Великолепный, прямой и надменный в роскошных одеждах. Рядом с ним стоял его младший брат, золотой Джулиано, а также глава банка Медичи, мессер Франческо Сассетти, державший руку на плече Джулиано. И союзники Медичи: Содерини, Торнабуони; миланский посол Никодемо Транкедини. И еще там были видные люди из квартала Черного Льва, упивающиеся восхищением домашних.
А на поле стоял я, глядя на линию здоровенных взвинченных парней, и особенно на одного, сложенного как бык, с яростным лицом, похожим на голову дикого вепря, лежащую на блюде. Можно было сразу распознать сынков богачей – ведь кальчо для богатых, или так считается, – по надменным ртам и идеальным прическам. Однако этот парень выглядел так, словно его только что оторвали от усердной работы на бойне. Без сомнения, и он сразу понял, что я такой же самозванец. Я свирепо уставился на него и сплюнул, подумав: «Ты прав, дружок».
Вбросили мяч, но мы уже атаковали команду Санто-Спирито. На рыхлом песке мои ноги двигались медлительно и неуклюже. Как и следовало ожидать, огромный ученик забойщика рванулся прямиком ко мне, с изяществом и грацией грозовой тучи. В кальчо нет правил. Ты забрасываешь мяч в сетку другой команды, а как ты это сделаешь – вообще не важно, если только успеваешь остановиться за миг до убийства. Одна тактика – если у вас хватит смелости это так назвать – состоит в том, что в самом начале игры другой команде наносятся такие повреждения, чтобы она не мешала вам набивать очки в дальнейшем. Именно это тупорылый хряк передо мной и держал в своем крошечном умишке, но вместо того, чтобы позволить ему оторвать мне руки, я нырнул вбок и подрезал его ногами. Он рухнул, как срубленный дуб, а я вскочил и нырнул в бушующую драку, которая уже каталась туда-сюда над мячом. Потом времени думать не осталось. Я несколько раз получал мяч, отправлял его в нужную сторону, и тут же меня роняли и пинали враги – самыми настоящими врагами они и были. Но в основном я просто нападал на любого игрока Санто-Спирито, который не дрался уже с кем-нибудь другим.
В нашем городе частенько бывает ощущение, что никаких совпадений не существует, что чих позади Палаццо Веккьо сшибет с ног девчонку в Сан-Фредиано. Когда Паоло Содерини резко сунул локтем мне в лицо и моя переносица лопнула со звуком вареного яйца, упавшего на плиту мостовой, первым делом я подумал: «Конечно, ведь его брат должен мне шесть сольдо с той жульнической игры в таверне „Бертучче“». Я дал себе минуту полежать на песке, потому что он был прохладным, а я все равно ничего не видел. Между моими пальцами струилась кровь. Я зажал нос большим и указательным пальцем, чтобы выправить его, и взглянул вверх, смаргивая слезы, кровь и песок с глаз. «Вставай давай, парень», – сказал я себе. Сломанный нос в кальчо – это ерунда. Если ты не можешь наплевать на такую мелочь, то нечего тебе здесь делать.
Товарищ по команде поставил меня на ноги, я сорвал со спины то, что осталось от моей рубашки, и обмотал лицо. Содерини уже исчез в толчее вопящих потных тел дальше по полю. Как только моя голова прочистилась, я нырнул за ним. И вот так я запнулся о мяч, и так, в свою очередь, мне удалось забить последний из восьми голов Санта-Кроче, когда я прорвался к сетке – обезумевший, спотыкающийся, захлебывающийся собственной кровью.
После этого наступил хаос. Я схватил мяч и поднял его, вопя, словно душа в аду, и рассыпая кровавые брызги. Надо мной на помосте Лоренцо и остальные аплодировали. Я снова заорал, заботясь только о том, чтобы самое сердце нашего города увидело сделанное мной. Лоренцо повернулся и что-то шепнул человеку позади; возможно, он запомнил мое имя. В любом случае он с достоинством мне помахал. Парень из другой команды ухватился за мяч, и я крепко двинул ему в лицо под крики толпы. А потом меня затянуло под яростный вал тел.
Поскольку мы наконец-то разгромили Санто-Спирито со счетом восемь к семи, в квартале Санта-Кроче я стал знаменитостью и гордостью соседей. Когда герольды объявили об окончании игры, мужчины из нашего округа подняли меня и стали бегом носить на плечах вокруг пьяццы. Я блаженствовал, пролетая мимо размытых лиц, которые едва мог разглядеть, визжащих девиц и ревущих мужчин.
Появилась здоровенная фляга с вином, и только я собрался наполнить глиняную чашку, как мое плечо стиснула чья-то рука. Я обернулся, ожидая увидеть еще одного восхищенного поклонника, но вместо этого обнаружил хмурую Каренцу.
– Идиот, что ты делаешь?! – рявкнула она.
– Извини, Каренца… – начал я, но она уже выхватила чашку из моей руки и вручила ее изумленному зеваке.
– Ты погляди на себя! Весь в крови – вылитый святой Варфоломей. – Она перекрестилась крепкой заскорузлой ручищей.
– Я знаю! Я забил гол, Каренца, ты видела?
– Иди домой! Сейчас же! Для этого балагана будет предостаточно времени, когда у тебя нос придет в порядок. Ты дышать-то можешь, осел? А?
Я пошел с ней. Моя энергия иссякла, и, кроме того, Каренца не потерпела бы никаких глупостей ни от кого, не говоря уже обо мне. Она окатила меня ледяной колодезной водой, смазала ссадины целебной мазью и приказала сесть за кухонный стол, где меня ждала горячая миска супа. Это была риболлита – я определил по виду, потому что нюхать не мог совершенно. Каренца взирала на меня, сложив руки на груди, так что я послушно сунул ложку в суп и зачерпнул капусты, бульона и хлеба. Вдохнул пар, но аромата никакого не ощутил, зато мой нос начал гадко пульсировать. Я сунул ложку в рот, ожидая прямых цельных вкусов супа Каренцы, но с тем же успехом можно было хлебать просто горячую воду. Я поспешно глотнул еще, жидкость потекла по моему подбородку. Каренца наконец просияла, но я-то был в панике. Я не чувствовал вообще ничего: ни запаха, ни вкуса. Мой язык умер. Я взглянул вокруг, думая, что сам мир мог измениться, но все было прежним. Попытался продуть нос, но единственной наградой мне стал огромный сгусток крови, забрызгавший стол, отчего Каренца налетела на меня с новым полотенцем. Я схватил тряпку и спрятал в ней лицо, потому что в тот момент не представлял, как мне жить дальше. Никакого вкуса… Так вот что я получил за уступку гордости, когда богатенькие парни попросили меня поиграть за них в кальчо. Без языка, без носа у меня не было ничего, совсем ничего.
Иному это не покажется большим неудобством. У меня ведь оставались глаза, уши, конечности, прочее хозяйство – чего еще мужчине в полном расцвете юности желать от жизни? Пусть я не могу ощутить вкус риболлиты, но разве я не знаю, какой у нее должен быть вкус? Я что, вспомнить не могу? Ответ на это был «да» – я мог вспомнить, потому что помню почти все, что когда-либо пробовал. Не мимолетные впечатления или полузабытые «нравится – не нравится», но образы подробные и яркие, как только что написанная фреска. Свежая буханка хлеба, прямо из печи, которую я съел на ярмарке пятнадцать лет назад. Моя первая устрица. Разница между мясом откормленного голубенка и взрослого, уличного – откровение, явившееся мне, словно глас Божий Моисею… Но все ушло, все исчезло. Я уронил голову на руки и зарыдал, пятная кровью стол. Прекрасная риболлита Каренцы остывала – ее простые радости оказались заперты за дверью, от которой я только что потерял единственный ключ.
13
Кого-то казнили в Палаццо делла Синьория, повесили его из верхнего окна так, что он болтался спиной к стене. Удавленник обделался, как они всегда делают, и далеко внизу под его ногами уличные мальчишки пытались столкнуть друг друга в жалкую маленькую лужицу.
Как только я вышел из дому и город сомкнулся вокруг меня, в воздухе чем-то повеяло. Просто полоса синего неба над головой, в которой парили два красных коршуна, уплывая из поля зрения и возвращаясь. Я проходил через то, что должно было быть завесами, слоями ароматов и вони: свежий хлеб, полная корзина лилий, которые несут в церковь, запах изгаженных детских пеленок. Давленые головки чеснока, тлеющий уголь, подмышки, дерьмо мужчин, женщин, собак, кошек, голубей, крыс, летучих мышей и мух. Скользкий запашок свежей рыбы. Человек, возвращающийся домой из борделей, напитанный томным духом трудов плоти на другой плоти. Я, однако, не чувствовал ничего, как будто шел по заднему фону картины.
Пара подростков, одетых в застиранные и залатанные тряпки, модные года два назад, бросали кости на ступеньках часовни Сан-Фьоренцо. Вдалеке что-то нарастало, словно рев Арно, когда он приходил весной, бурный и бурый, и набрасывался на мосты и берега. Мужчины бежали по Виа деи Гонди, а женщины из окон надо мной тянули шеи, глядя на большую площадь в центре нашего мира. Было понятно по лицам – по косым плотоядным взглядам, полупристыженным-полусвирепым, – что происходит. Я поначалу решил обойти пьяццу длинным путем, но на узкой улочке скопилось слишком много народу, а кулаками прокладывать себе путь против потока не особенно хотелось. Боязнь карманников вынудила меня, помятого и раздраженного, чуть замешкаться. Люди столпились, чтобы посмотреть на повешенных воров, – и теперь другим ворам легче их обобрать. Каждый щипач Флоренции должен быть здесь сегодня, и я хотел убедиться, что ощипанными уйдут деревенские простофили и пузатые моралисты, а не я. Люди уже потихоньку расходились, потому что один мертвец не может долго развлекать толпу.
Я шел в «Поросенок»: надо было сообщить дяде Терино о моей беде и невозможности работать, пока мои чувства не восстановятся, если это вообще когда-нибудь произойдет. Он пребывал в хорошем расположении духа – возможно, сходил посмотреть на казнь – и отпустил меня с парой нечленораздельных угроз: ведь сейчас я считался героем кальчо и люди приходили в таверну уже только ради того, что я его племянник.
Я был свободен: нечего делать, никаких обязанностей. Я мечтал о таких временах, когда утопал по локти в луке или свиных кишках, Терино пытался на мне ездить, а клиенты что-нибудь выпрашивали или жаловались, как жадные птенцы. Но, лишившись носа и языка, я обнаружил, что мне некуда идти. Я никогда не понимал, насколько вся моя жизнь строится вокруг трех чувств: вкуса, обоняния и зрения. Без первых двух рынок оказался пустым и унылым. Я был голоден, но выложенные на прилавках товары оставались лишь формами. Это была пытка.
За Порта Санта-Тринитá, на расстоянии недлинной прогулки к югу, стоит церковь Санто-Спирито. Это обширное прекрасное здание, построенное маэстро Брунеллески и потому всего лишь на волосок отстоящее от совершенства, а совершенство, как говорят турки, – удел одного лишь Господа. Я вступил в длинный, окаймленный колоннами неф, и мгновенно жара и шум Флоренции превратились в быстро блекнущее воспоминание. Я почувствовал себя лучше. Всё потихоньку успокаивалось: мои оставшиеся чувства, которые бешено трудились, чтобы заменить испорченный нос, начали расслабляться. Я слышал стук своих башмаков по плиткам пола. В часовне Сан-Фредиано кто-то оставил пару свечей. Я зажег еще одну – за Каренцу, потому что Фредиано был ее святым-покровителем, – и произнес молитву самому Фредиано, в красном одеянии, который наверху, над алтарем, стоял, преклонив колена, перед Богоматерью и младенцем Христом.
Филиппо создал эти панели за десять или больше лет до моего рождения, и я все еще помнил, как мама приводила меня взглянуть на них, когда я был совсем крошкой. Хотя не думаю, что она приходила именно для этого – скорее за благословением Фредиано на что-либо.
Я сел и отпустил взгляд блуждать по картине. Сцена была многолюдная: Филиппо вообразил или увидел – лучшее искусство запечатлевает вещи, увиденные ясно и как наяву, в неком пространстве между сном и явью – комнату, до отказа набитую мебелью и фигурами. Здесь были двое святых, Мария с Сыном, и по меньшей мере шесть ангелов, чьи толстые мягкие крылья стараются никому не помешать. По обеим сторонам картины – загородки из резного дерева, из-за которых несколько расстроенных детей пытаются хоть одним глазком увидеть чудо. А там, в тенях слева, виднеется лицо: молодое, круглощекое и смуглое, с двухдневной щетиной на подбородке, беззаботно лежащее на резном поручне; с куцым ореолом курчавых темных волос и широко расставленными миндалевидными глазами – они, единственные из всех на этой заполненной фигурами картине, смотрят прямо на тебя.
На меня. «Привет, дядя», – прошептал я. Глаза подмигнули: чем бы ни пользовался Филиппо для связывания пигментов, оно сохраняло почти влажную свежесть и живость. Я не совсем узнавал лицо, написанное дядей: знакомый мне Филиппо уже достиг зрелости. Но эти глаза я знал. В последний раз я видел их, когда дядя склонился со своего седла, сразу за Порта аль Прато, провел большой широкой ладонью по моему затылку и поцеловал меня в лоб. Потом он поскакал прочь, и больше я его никогда не видел. Той зимой он поехал в Сполето, а через два года умер. Я все время собирался съездить навестить его, но так этого и не сделал, а потом стало уже слишком поздно.
По крайней мере, дядя оставил немного себя здесь и еще в одном месте: на «Короновании Богородицы», написанном для Сант-Амброджо, он стоит на коленях слева, подперев рукой голову, утомленный действом, или рисованием, или – куда более вероятно – ночью со златовласой девой, на которую он смотрит. Девой, чье лицо будто светится и тает, и это заставляет нас увидеть ее глазами самого Филиппо, увидеть то, что видит он: любовь, конечно, но также и желание, и преданность. Я пойду туда после, добреду до Сант-Амброджо и побуду со своим дядей, смотрящим на красоту.
Первым делом я пришел в Санто-Спирито, потому что, как сказала бы без всяких колебаний Каренца, я чокнутый. Я и сам понимал, что обезумел, а как иначе, ведь у меня возникла смутная идея, что я смогу ощутить вкус одеяния Богоматери, как тогда, давным-давно. Но теперь, глядя на него, я не чувствовал никакого вкуса. Я по-прежнему ощущал, что падаю вглубь этой синевы, что сердце мое поднимается к горлу, что воздух в церкви движется и собирается, как будто вот-вот что-то возвестит. Но я не ощущал благовоний, которые наверняка должны были пахнуть, или вкуса пылинок – церковная пыль, напа́давшая, обшелушившаяся со всех прихожан, всех этих золотых облачений, всего гробового дерева, свечного воска и надежды. Я не чувствовал вообще никаких вкусов и запахов. А передо мной сидел Филиппо и смотрел, как я пытаюсь найти свой мир в его картине. Он-то все понимал. «Следуй велениям сердца, не головы». Если бы дядя оказался здесь во плоти, я бы спросил, можно ли мне лизнуть доску. И он бы, возможно, ответил «да». Но он был краской, маслом и яичным желтком, и лицо, оставленное здесь, говорило: «Жизнь продолжается. Девы рождают младенцев, святые встают на колени, ангелы толпятся вокруг, и все чихают от их пыльных крыльев. Пальцы на кисти сводит судорогой, глаза блекнут. Но даже так все – чудо».
Дядин сын, Филиппино, рассказал мне много лет спустя, что его отец написал меня на одной фреске в кафедральном соборе Сполето. По памяти, конечно, – наверняка он запомнил мое лицо, каким оно было в день нашего последнего свидания. Мазаччо научил Филиппо всему, подарил цвет, свет, но по какой-то причине не передал свой дар показывать боль. Мой дядя впитал и усвоил от учителя только красоту. Ему оказывалось трудно писать жестоких людей или грубые лица – каким-то образом под его кистью все становились ангелами. И то же самое он проделал со мной. Филиппино показал мне наброски: вот он я, затесавшийся в толпу на «Короновании Богородицы», белокурый кудрявый ангел, хотя волосы у меня черные и почти не вьются. Но я полагаю, на небесах у всех золотые волосы. А кроме того, мне нравится думать, что Филиппо написал то, чего желал своему племяннику, а не мальчишку, болезненно входящего в возмужание, которого запомнил.
Филиппино показал, где, ниже на картине, его отец написал себя – в кармелитской рясе, приземленного и житейского, старающегося не смотреть, как умирает Богоматерь. А она чуть-чуть похожа на мою мать. Я тогда закрыл глаза и попытался вообразить себя в том далеком месте, где умер Филиппо, стоящим у его могилы. Я хотел сказать ему что-то, но единственное, что смог найти в голове, было следующее: «Ты прав, я действительно кончил так же, как и ты, вернулся вниз на землю, так и не обвыкшись со святостью, зная, что ангелы не одобряют нас, когда мы следуем своему сердцу и чувствам. Потому что единственное, что ангелам неведомо, – это аппетит».
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
8
Трупное окоченение (лат.).
9
Вержус – кислый сок, который делают, отжимая недозрелый виноград, традиционный ингредиент французских соусов.
10
Фарсетто – узкая короткая курточка-жилет с возможностью пристегнуть любые рукава.