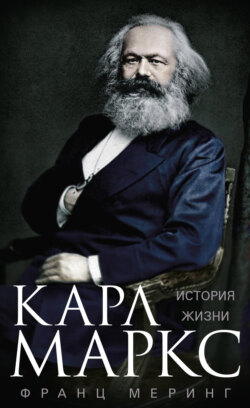Читать книгу Карл Маркс. История жизни - Франц Меринг - Страница 14
Глава 3. Парижское изгнание
«Немецко-французские ежегодники»
ОглавлениеНовый журнал родился не под счастливой звездой: только один двойной выпуск его вышел в конце февраля 1844 г.
«Галло-германский принцип», или, как его переименовал Руге, «интеллектуальный союз между немцами и французами», не осуществлялся на деле; «политический принцип Франции» пренебрегал немецким приданым, «логической проницательностью» гегелевской философии, вместо того чтобы пользоваться ею, как надежным компасом в сферах метафизики, и Руге видел, как французы носились по ним без руля, по воле ветра и волн.
Правда, если, по свидетельству Руге, предполагалось привлечь прежде всего Ламартина, Ламенэ, Луи Блана, Леру и Прудона, то уже этот список был сам по себе достаточно пестрый. Некоторое представление о немецкой философии имели из них только Леру и Прудон, из которых первый жил в провинции, а второй временно забросил писательство и углубился в изобретение наборной машины. Другие же отказались от сотрудничества по тем или иным религиозным соображениям. Отказался даже Луи Блан, считая, что атеизм в философии порождает анархизм в политике.
Зато журнал приобрел видный штаб немецких сотрудников; вместе с издателями в него вошли Гейне, Гервег, Иоганн Якоби из имен первого ранга, а затем заметные люди из числа менее известных, как, например, Мозес Гесс и Ф.К. Бернайс, молодой пфальцский юрист, не говоря о самом молодом из сотрудников, Фридрихе Энгельсе. После многократных литературных разбегов он вышел здесь впервые в бой с открытым забралом и в сверкающих доспехах. Но и эта группа была достаточно пестрая; многие из сотрудников весьма мало смыслили в гегелевской философии и еще менее в ее «логической проницательности». И прежде всего между двумя издателями вскоре произошел раскол, сделавший невозможной всякую дальнейшую совместную работу.
Первый двойной выпуск журнала, оставшийся единственным, открылся «Перепиской» между Марксом, Руге, Фейербахом и Бакуниным, молодым русским, который примкнул в Дрездене к Руге и поместил в «Немецком ежегоднике» статью, обратившую на себя большое внимание. Переписка состояла из восьми писем, подписанных инициалами авторов; из них три письма были Маркса, три Руге и по одному Фейербаха и Бакунина. Руге назвал впоследствии эту «Переписку» драматической сценой своего сочинения, добавив, что он пользовался для нее «отчасти отрывками подлинных писем». Он включил «Переписку» в собрание своих сочинений, но с весьма характерными большими искажениями и опустив последнее письмо за подписью Маркса, хотя в нем смысл всей «Переписки». Содержание писем не оставляет никаких сомнений в подлинном авторстве тех, чьи инициалы значатся в подписях, и, поскольку «Переписка» представляет собой нечто цельное, первая скрипка в этом концерте принадлежала Марксу; бесспорно, однако, что Руге обработал по-своему и его письма, как и письма Бакунина и Фейербаха.
Марксу принадлежит в «Переписке» заключительное слово, и он же начинает ее очень внушительным аккордом. Романтическая реакция, говорит он, ведет к революции; государство – нечто слишком значительное, чтобы превращать его в арлекинаду. Корабль, нагруженный глупцами, быть может, и продержится некоторое время, предоставленный воле ветра, но будет неизбежно настигнут своей судьбой, именно потому, что глупцы об этом не думают. Руге ответил ему длинной иеремиадой о неизбытном овечьем терпении немецких филистеров; письмо его «полно обвинений и безнадежности», как он сам потом говорил о нем или как ему более вежливо тотчас же ответил Маркс: «Ваше письмо – прекрасная элегия, захватывающая дух похоронная песнь, но оно совершенно не политическое». Если филистеру принадлежит мир, то стоит изучить этого господина мира. Филистер, однако, лишь постольку господин мира, поскольку он заполняет его своим присутствием, как черви заполняют труп; и до тех пор, пока филистеры определяют собою состав монархии, и монарх тоже лишь король филистеров. Новый прусский король, более развитой и живой, чем его отец, хотел поднять филистерское государство, не меняя его основу; но пока пруссаки оставались такими же, какими были, ему не удавалось превратить ни себя, ни своих подданных в настоящих свободных людей. Это вызвало возврат к старому окостенелому государству слуг и рабов. Но столь отчаянное положение рождает новые надежды. Маркс указывает на неспособность господ и на инертность слуг и подданных, которые предоставили все на волю Божию, хотя одних этих данных достаточно, чтобы вызвать катастрофу. Он указывает на врагов филистерства, на всех мыслящих и страдающих людей, которые пришли к соглашению между собой, и даже на пассивное размножение подданных старого образца, так как оно вербует с каждым днем рекрутов для нового человечества. Еще быстрее приводит система наживы и торговли, собственности и эксплуатации к ломке внутри современного общества, и старый строй не имеет возможности оздоровить жизнь, ибо он вообще не исцеляет и не созидает, а только существует и пользуется всем. И задача сводится к тому, чтобы окончательно обличить старый мир и созидать новый.
Бакунин и Фейербах писали Руге тоже каждый по-своему в ободряющем тоне. Руге заявляет в ответном письме, что «Новый Анахарзис и новые философы» убедили его. Фейербах сравнил гибель «Немецких ежегодников» с падением Польши, когда усилия немногих были тщетны в трясине разлагавшейся национальной жизни; в ответ на это Руге говорит в одном письме к Марксу: «Да! Подобно тому, как не спасает Польшу католическая вера и дворянская свобода, и нас не могла освободить богословская философия и аристократическая наука. Мы не можем продолжать наше прошлое иным путем, кроме решительного разрыва с ним. «Ежегодники» погибли, гегелевская философия принадлежит прошлому. Мы хотим основать свой орган в Париже и будем судить в нем самих себя и всю Германию с полной свободой и неумолимой искренностью». Он обещает позаботиться о материальной стороне издания и просит Маркса высказаться о плане журнала.
Марксу принадлежит как первое, так и последнее слово в «Переписке». Совершенно ясно, говорит он, что нужно создать новый сборный пункт для действительно мыслящих и независимых людей. Но если для всех очевидно, откуда идет движение, то тем больше недоумений относительно того, куда оно направляется. «Не в том только дело, что началась общая анархия среди реформаторов, но каждый должен сознаться и перед самим собой, что не имеет точного представления о том, к чему следует стремиться. В том, однако, и заключается преимущество нового направления, что у нас нет догматических предрешений о мире, и мы хотим обрести новый мир путем критики старого. До сих пор разрешение всех загадок лежало в портфелях у философов, и глупому эзотерическому миру стоило только разинуть пасть, чтобы ему летели в рот жареные утки абсолютного знания. Философия приобщилась к миру; это наиболее убедительно явствует из того, что философское сознание не только внешним образом, но и внутренне по существу втянуто в муку борьбы.
Если не наше дело – сооружать будущее и решать все на вечные времена, то тем определеннее наша непосредственная задача. Она заключается в беспощадной критике всего существующего, беспощадной в том смысле, что она не должна бояться конечных выводов, к которым приходит, так же как не должна страшиться и столкновений с существующими властями».
Маркс не намеревался водружать никакой догматический стяг, и коммунизм в том смысле, как его излагали Кабе, Дезами, Вейтлинг, был тоже догматической абстракцией в его глазах. Главный интерес современной Германии, по его словам, заключается в религии и затем в политике, и не следует противопоставлять им вымышленный строй, как в «Путешествии в Икарию», а нужно исходить из них, каковы они ни на есть.
Маркс опровергает «рьяных социалистов», которые считают политические вопросы совершенно ничтожными. Из столкновений политической государственности, из противоречия между идеальным назначением государства и его реальными предпосылками и вырабатывается всюду социальная истина. «Ничто поэтому не мешает нам исходить в нашей критике из критики политической, из партийности в политике, и тем самым примкнуть к подлинной борьбе. Тогда мы выступим не как доктринеры, предлагающие миру новый принцип: „Вот, мол, истина, и преклони перед нею колени“. Мы раскрываем миру новые принципы исходя из принципов существующего. Мы не говорим миру: „Оставь свою борьбу – она ни к чему не ведет; мы дадим тебе истинные лозунги борьбы“. Вместо того мы показываем миру, из-за чего он, в сущности, борется, а сознание есть нечто такое, что неизбежно усваивается, хотя бы против желания». Маркс сводит таким образом программу нового журнала к следующей формуле: самовразумление (критическая философия) времени для уяснения своих стремлений и желаний.
К «самовразумлению» пришел, однако, только Маркс, а не Руге. Уже «Переписка» показала, что вожаком был Маркс, а Руге только шел, куда его вели. К тому же Руге заболел, приехав в Париж, и не мог принимать деятельного участия в редактировании журнала. Это парализовало его редакторские способности, наиболее нужные, по его мнению, для дела, так как Маркса он считал слишком «обходительным» для редакторства. Руге не имел возможности придать журналу тот вид и то направление, которое считал наиболее подходящим, и даже не мог поместить в нем свою статью. Все же при выходе первого выпуска он еще не относился к журналу вполне отрицательно. Он находил, что «многое в нем замечательно и наверно вызовет большой интерес в Германии», но прибавлял с упреком, что «наряду с этим преподнесено несколько „необтесанных вещей“; он бы непременно внес в них поправки, а их взяли впопыхах, без всяких изменений. Журнал, по всей верояти, продолжал бы выходить, если бы этому не помешали внешние обстоятельства.
Прежде всего очень быстро истощились средства Литературного бюро, и Фребель заявил, что не может продолжать дело. Затем, при первом известии о выходе в свет «Немецко-французских ежегодников», прусское правительство начало поход против журнала. Оно, правда, не встретило при этом сочувствия даже у Меттерниха, не говоря о Гизо, и вынуждено было ограничиться оповещением обер-президентов всех провинций циркуляром от 18 апреля 1844 г., что «Ежегодники» представляют собою покушение на государственную измену и оскорбление величества; обер-президентам предписывалось отдать конфиденциальные распоряжения полицейским властям, чтобы они задержали Руге, Маркса, Гейне и Бернайса при их вступлении на прусскую территорию и захватили их бумаги. Это было еще довольно невинно, ибо нюрнбергцы никого не вешают, прежде чем не захватят его в свои руки. Но нечистая совесть прусского короля была опасна тем, что со злобным страхом охраняла границы. На одном рейнском пароходе захвачено было сто экземпляров «Ежегодников», у Бергцаберна на французско-пфальцской границе значительно более двухсот. Это были очень чувствительные подзатыльники при сравнительно ограниченном числе экземпляров, имевшихся в распоряжении.
При возникновении внутренних трений они всегда легко обостряются из-за внешних осложнений. По свидетельству Руге, внешние затруднения и ускорили или даже вызвали его разрыв с Марксом. Это вполне допустимо ввиду того, что Маркс отличался величественным равнодушием к денежным вопросам, а Руге был подозрителен, как лавочник. Он не стеснялся выплачивать Марксу жалованье, которое ему полагалось, по меновой системе – экземплярами «Ежегодников», но сам приходил в величайшее волнение при одном только мнившемся ему предположении, что он пожелает рисковать своим состоянием и возьмет на себя дальнейшее издание журнала, несмотря на свою неопытность в книжном деле. К самому себе Маркс действительно предъявил такое требование в подобных обстоятельствах, но от Руге он едва ли этого ожидал. Возможно, что он советовал не бросать ружье в кусты после первого же промаха; но Руге, который уже выходил из себя, когда предполагали, что он пожертвует пару франков на издание сочинений Вейтлинга, увидел в совете Маркса опасное посягательство на свой кошелек.
Кроме того, Руге выяснил сам главную причину разрыва, указав, что непосредственным поводом послужил спор о Гервеге. Руге, «быть может, действительно, с излишней горячностью», по его словам, назвал Гервега «негодяем», а Маркс настойчиво говорил о «великом будущем» Гервега. Руге оказался прав; «великого будущего» Гервег не достиг, а его тогдашний образ жизни в Париже был, несомненно, предосудительный; даже Гейне очень резко его осуждал, и Руге признает, что Марксу он тоже не доставлял большой радости. Все же лучше ошибаться в благородном смысле, как «запальчивый» и «едкий» Маркс, нежели гордиться своей жуткой инстинктивной подозрительностью, как «добродетельный» Руге; для Маркса дело шло о революционном поэте, а для Руге – о мещанской безупречности.
Такова была более глубокая основа незначительного инцидента, навсегда разъединившего этих двух людей. Для Маркса разрыв с Руге не имел такого существенного значения, как, например, его позднейшие разногласия с Бруно Бауэром или Прудоном. Как революционер, он, вероятно, еще задолго до того был раздражен против Руге, а спор о Гервеге, если он был действительно таков, как описывает Руге, окончательно вывел его из терпения.
Для того чтобы ознакомиться с тем, что было самого лучшего в Руге, следует прочесть его «Воспоминания», изданные им двадцать лет спустя. Четыре тома их доходят до гибели «Немецких ежегодников», до того времени, когда жизнь Руге была образцом для литературного авангарда школьных учителей и студентов, представителей буржуазии, жившей мелким торгашеством и большими иллюзиями. «Воспоминания» содержат много очаровательных жанровых картинок детских лет Руге, выросшего в равнинах Рюгена и передней Померании; они воссоздают также бодрое время студенческих союзов и время жестокой травли демагогов и описывают это время с живостью, не превзойденной в немецкой литературе. Но, к несчастию для Руге, «Воспоминания» его вышли в свет уже тогда, когда немецкая буржуазия отбросила высокие иллюзии и занялась крупным торгашеством. Книга Руге прошла поэтому почти незамеченной, в то время как другое произведение в том же роде, но гораздо менее значительное не только в историческом, но и в литературном отношении, «Ut mine Festungstid» Рейтера, вызвало бурные восторги. Руге был подлинный участник студенческих союзов, а Рейтер лишь случайно затесался туда в качестве весельчака бурша; но буржуазия уже заигрывала в то время с прусскими штыками, и ей поэтому чрезвычайно нравился «золотой юмор» рейтеровских шуток о гнусном произволе в травле демагогов. Она предпочитала шутки Рейтера «дерзкому юмору» Руге, который, по меткому выражению Фрейлиграда, доказывал, что негодяи не одолели его, а казематы дали ему свободу.
Но именно в живых описаниях Руге и чувствуется, что предмартовский либерализм, несмотря на высокие фразы, был все же чистым филистерством, и глашатаи его в конце концов оставались филистерами. Руге еще наиболее пылкий среди них, и в пределах чисто идеологических он боролся с достаточным мужеством. Но именно его пылкость и была причиной резкого поворота назад, когда в Париже перед ним предстали великие противоречия современной жизни.
Если он и примирялся с социализмом, поскольку видел в нем забаву человеколюбивых философов, то коммунизм парижских ремесленников вызвал в нем панический буржуазный ужас – даже не за свою шкуру, а за свой кошелек. В «Немецко-французских ежегодниках» он прочел отходную философии Гегеля, а в течение того же еще 1844 г. приветствовал самое причудливое порождение этой философии, книгу Штирнера, как освобождение от коммунизма, глупейшей из всех глупостей нового христианства, проповедуемого глупцами, осуществление которого привело бы к гнусной жизни в овечьих загонах.
Маркс и Руге расстались навсегда.