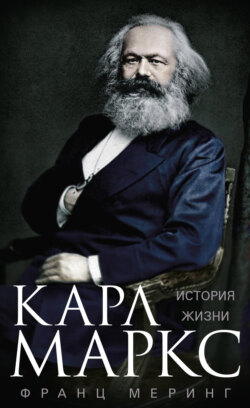Читать книгу Карл Маркс. История жизни - Франц Меринг - Страница 7
Глава 2. Ученик Гегеля
Философия самосознания
ОглавлениеПодлинным главой берлинских младогегельянцев был, однако, не Кеппен, а Бруно Бауэр. Как самый выдающийся ученик Гегеля, он пользовался соответственным почетом, особенно когда, с высокомерием умозрительного философа, ополчился на штраусовскую «Жизнь Иисуса» и получил от Штрауса резкий отпор. Министр народного просвещения Альтенштейн взял под свою защиту его многообещавший талант.
При всем том Бруно Бауэр не был честолюбцем, и Штраус ошибался, пророча ему, что он кончит «окостенелой схоластикой» ортодоксального вождя Генгстенберга. Напротив того, летом 1839 г. у Бруно Бауэра завязалась литературная полемика с Генгстенбергом, который хотел возвести ветхозаветного Бога мести и гнева в Бога христиан. Спор их, правда, не выходил за пределы академической полемики; ослабевал под старость, и запуганный Альтенштейн предпочел все же убрать своего любимца подальше от подозрительности столь же мстительных, как и правоверных ортодоксов. Осенью 1839 г. он послал Бруно Бауэра в Боннский университет приват-доцентом, с намерением не далее чем через год произвести его в профессора.
Но Бруно Бауэр, как это видно из его писем к Марксу, переживал в то время идейную эволюцию, которая завела его гораздо дальше Штрауса. Он приступил к критике Евангелия и разрушил последние остатки здания, еще сохраненные Штраусом. Бруно Бауэр доказывал, что во всех четырех Евангелиях нет ни единого атома исторической правды и все описанное в них – вольный литературный вымысел евангелистов; он доказывал, что христианство не было навязано в качестве мировой религии древнему греко-римскому миру, а вышло из этого мира, было подлинным его созданием. Этим Бауэр наметил единственный путь, на котором возможно научное исследование источников христианства. Недаром модный и салонный придворный богослов Гарнак, восстанавливая в настоящее время Евангелие в интересах правящих классов, обозвал недавно «жалкими людишками» идущих по пути Бруно Бауэра.
В то время как такие мысли созревали в голове Бруно Бауэра, Карл Маркс был его неразлучным спутником; и сам Бауэр видел в друге, который был моложе его на девять лет, на редкость даровитого боевого товарища. Не успел он обжиться в Бонне, как начал настойчиво звать туда и Маркса. Профессорский клуб в Бонне, писал Бауэр, «чистейшей воды филистерия» в сравнении с берлинским докторским клубом, в котором все же больше духовных интересов. И в Бонне он много смеется, но еще ни разу не смеялся так, как в Берлине, когда просто ходил с Марксом по улицам. Бауэр торопил Маркса сдать скорее свой «несчастный экзамен», для которого нужно только прочесть Аристотеля, Спинозу, Лейбница и больше ничего; не стоит долго возиться с такими пустяками и относиться серьезно к сущей комедии. С боннскими философами, писал он, Маркс справится шутя, а главное – необходимо теперь же, не откладывая, начать издавать вдвоем радикальный журнал. Берлинское пустословие и пресность «Галльских ежегодников» становятся невыносимы; жаль Руге, но почему он не вышвырнет из своего журнала всю эту нечисть?
Тон этих писем иногда довольно революционный, но Бауэр имел всегда в виду только философскую революцию и рассчитывал скорее на содействие, нежели противодействие государственной власти. Еще в декабре 1839 г. он писал Марксу, что Пруссии, по-видимому, суждено идти вперед лишь при помощи Иенских битв, причем таковые не должны непременно происходить на полях сражений; а несколько месяцев спустя, когда умер его покровитель Альтенштейн и почти одновременно с ним старый король, Бауэр стал взывать к высшей идее германской государственности, к семейным традициям Гогенцоллернов, которые в течение уже четырех столетий, не щадя сил, стараются установить надлежащие отношения между церковью и государством. И в то же время Бауэр заявлял, что наука будет неустанно отстаивать идею государства от посягательств церкви: государство иногда заблуждается и относится к науке подозрительно, даже прибегает к насильственным мерам, но ему присуще быть разумным, и заблуждения его длятся недолго. На это изъявление преданности новый король ответил тем, что назначил преемником Альтенштейна правоверного реакционера Эйхгорна, а тот поспешил пожертвовать свободой науки, поскольку она связана с идеей государства, то есть академической свободой, чтобы удовлетворить домогательства церкви.
Политическое легкомыслие было гораздо более присуще Бауэру, чем Кеппену, который ошибался относительно одного Гогенцоллерна, переросшего мерку своей семьи, но никак не относительно «семейных традиций» этой династии. Кеппен не завяз так глубоко в гегелевской идеологии, как Бауэр. Не следует, однако, упускать из виду, что политическая близорукость Бауэра является лишь оборотной стороной его философской дальнозоркости. Он видел в Евангелии духовный осадок той эпохи, в которую оно возникло. С чисто идеологической точки зрения он был не так не прав, полагая, что если христианство с его мутной смесью греческой и римской философии могло преодолеть античную культуру, то тем легче будет ясным и свободным критическим методом новейшей диалектики стряхнуть с себя бремя христианско-германской культуры.
Эту внушительную уверенность в себе давала ему философия самосознания. Под этим именем сплотились некогда греческие философские школы, которые возникли в период национального упадка Греции и наиболее способствовали оплодотворению христианской религии: скептики, эпикурейцы и стоики. По умозрительной глубине они не могли равняться с Платоном, а по универсальности с Аристотелем и Гегель относился к ним свысока. Их общей целью было освободить единичную личность, оторванную катастрофой от всего, что ее раньше связывало и поддерживало, дать ей независимость и от всего внешнего и сосредоточить ее интересы на собственной внутренней жизни, научить ее искать счастья в умственном и душевном спокойствии, незыблемом, даже если целый мир обрушится ей на голову.
Но на развалинах разрушенного мира, говорит Бауэр, измученное «я», видя себя единственной силой, испугалось само себя и выделило свое самосознание, противопоставив его себе, как чуждое всемогущество. Властителю вселенной в Риме, присвоившему себе все права, властелину жизни и смерти, оно дало брата, правда враждебного, в евангелическом Господе, который одним дуновением своим побеждает законы природы и уже на земле провозглашает себя царем и судией мира. Однако человечество воспиталось под игом христианства лишь затем, чтобы еще основательнее уготовить путь свободе и глубже принять ее душой, когда она наконец будет завоевана: вернувшееся к самому себе, само себя понявшее и постигшее свою сущность бесконечное самосознание имеет власть над созданиями своего самоотчуждения.
Отбросив иносказательность тогдашней философской речи, можно понятнее и проще сказать, что именно привлекало Бауэра, Кеппена и Маркса в греческой философии самосознания. В сущности, они примыкали через нее к буржуазному просвещению. Старогреческие школы самосознания имели далеко не таких гениальных представителей, как древнейшие натурфилософы в лице Демокрита и Гераклита или позднее представители философии понятия в Аристотеле и Платоне; но все же они сыграли крупную историческую роль. Они открыли человеческому духу новые горизонты, сломали национальные рамки эллинизма, разбили социальные грани рабства, от которых еще не могли освободиться ни Аристотель, ни Платон; они оплодотворили начатки христианства, религии страдающих и угнетенных, которая лишь тогда перешла к Аристотелю и Платону, когда сделалась эксплуатирующей и угнетающей господствующей церковью. При всем недружелюбном отношении Гегеля к философии самосознания и он признавал большое значение внутренней свободы, личности среди несчастия римского мирового владычества, когда грубой рукой стирали все прекрасное и благородное в духовной индивидуальности. Таким образом, уже буржуазное просвещение XVIII в. пустило в оборот греческую философию самосознания, сомнения скептиков, вражду к религии эпикурейцев и республиканские взгляды стоиков.
Кеппен берет ту же ноту, говоря о своем герое просветительной эпохи, короле Фридрихе: «Эпикурейство, стоицизм и скептицизм – нервы, мускулы и внутренности античного организма; их естественная, непосредственная цельность обусловливала красоту и нравственность древности, и они распались, когда распался этот организм. Все эти три учения Фридрих воспринял и претворил в себе с изумительною силой. Они легли в основу его мировоззрения, его характера и жизни». И тому, что Кеппен говорит здесь о связи этих трех философских систем с греческой жизнью, Маркс придавал «более глубокий смысл».
Правда, сам он иначе подходил к проблеме, занимавшей его не меньше, чем его старших друзей. Он не искал «человеческого самосознания, как верховного божества», кроме же его да не будет иного, ни в искажающем вогнутом зеркале религии, ни в досужем философствовании деспота, а предпочел обратиться к историческим источникам этой философии, в которой и он видел ключ к подлинной истории греческого духа.