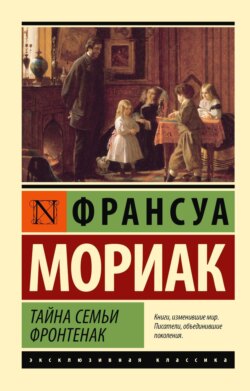Читать книгу Тайна семьи Фронтенак - Франсуа Мориак - Страница 4
Часть первая
III
ОглавлениеКаждые две недели по воскресеньям являлся дядя Ксавье, а сноха его так ни на щелочку и не приоткрыла его секрет. Он приходил к детям, как выходной в первый четверг месяца, как еженедельное причащение, как школьное сочинение с объявлением отметок по пятницам; он был созвездием на их небе, частью того налаженного механизма, в котором, казалось, никаким неожиданностям места нет. Бланш ни о чем другом и мечтать бы не приходилось, если бы только деверь вдруг не замолкал, не расхаживал взад-вперед, не глядел потерянным взором, если бы его круглое лицо не хмурилось от какой-то неотвязной мысли: все это напоминало ей времена, когда она сама чуть не впала в уныние. Да, она, христианка, обнаруживала в этом равнодушном признаки той же болезни, от которой ее исцелил отец де Ноль. В этом она понимала – ей бы хотелось его утешить. Но он не давался. Что ж, она обрела хотя бы ту благодать – и никакой своей заслуги в том не чувствовала, – что уже на него не сердилась, реже искала с ним ссоры. Вот только обращал ли он на усилия Бланш внимание? Прежде она так ревниво относилась к своему авторитету – теперь спрашивала у него совета обо всем, что касалось детей. Согласен ли он, чтобы она купила Жан-Луи – лучшему наезднику в коллеже – верховую лошадь? Нужно ли учить верховой езде Ива, несмотря на то что он лошадей боится? Не выйдет ли больше толка, если Жозе поместить в пансион?
Зажигать камин или даже лампу надобности больше не было. Темно было только в коридоре, по которому Бланш ходила несколько минут перед ужином, читая молитвы по четкам, и тут же Ив, держась двумя пальцами за ее платье, весь предавался великолепным мечтам, в которые никого не впускал. Кричали стрижи. Конка на Эльзасской аллее грохотала так, что ничего не было слышно. Выли сирены в порту, и тот казался ближе, чем на самом деле. Бланш говорила, что от жары дети становятся слабоумными. Они придумывали дурацкие игры: например, оставшись в столовой после обеда, обматывали головы салфетками, а потом забирались в какой-нибудь темный уголок и терли друг другу носы. Они это называли «играть в общежительство».
В июне, в субботу, секрет дяди Ксавье, о котором Бланш уже и думать забыла, внезапно открылся ей, и она бы ни за что не подумала, кто именно его раскроет. Когда дети легли спать, она, по обыкновению, сошла вниз, к матери. В столовой там со стола еще не убрали, пахло клубникой; Бланш прошла через эту комнату и открыла дверь малой гостиной. Госпожа Арно-Микё заполняла собой всю ширину кожаного кресла. Она притянула дочь к себе и жадно, по своему обыкновению, расцеловала ее. На балконе Бланш увидела своего зятя Коссада, свою сестру и большой турнюр тети Адилы – золовки госпожи Арно-Микё. Все они хохотали, громко говорили; их бы слышали все соседи, если бы и те все не кричали во все горло. На улице мальчишки распевали песенку. Тетя Адила увидала Бланш:
– Племянница! Привет, милая!
Коссад прокричал, перекрикивая конку:
– А я вас ждал… у меня для вас новость… Только не падайте. Или сами догадайтесь.
– Да что ты, Альфред! – возразила его жена. – Ей можно сразу сдаваться.
– Так вот, дорогая моя, вчера я был на одном процессе в Ангулеме и там узнал, что господин Ксавье Фронтенак на виду у всего города содержит некую девицу… А? Что скажете?
Жена опять его перебила, этак он напугает Бланш, Бог знает, что она возьмет себе в голову…
– Ну нет, уж это не тревожьтесь: племянников он не разорит. Маслом булки он ей не мажет.
Бланш оборвала его: на этот счет она спокойна совершенно. И вообще личная жизнь Ксавье Фронтенака здесь никого не касается.
– Видишь, ее уже понесло – я же говорила…
– Она любит его отчитывать сама, а другим не позволяет…
Бланш возразила, что вовсе ее не понесло. Ксавье, к своему несчастью, веры не имеет, а как человека, на ее взгляд, ничто не может его сдерживать. Заговорили тише. Чтобы успокоить свояченицу, Альфред Коссад рассказал, что Ксавье Фронтенак в Ангулеме – притча во языцех; все смеются, до чего он скуп со своей подругой. Бланш может спать спокойно. Он не дает бедняжке оставить ремесло белошвейки-надомницы. Кое-как обставил ей квартирку, платит за нее – и только-то. Смех один… Тут Альфред в недоуменье умолк: Бланш, не чуравшаяся театральных сцен, убрала свое вязанье и встала с места. Поцеловав мать, она вышла, не сказав ни слова обескураженным родственникам. Дух Фронтенаков полностью овладел ей. Он дурманил ее, как пифию, и на своем этаже Бланш не сразу попала в замочную скважину ключом в дрожащей руке.
Она вернулась на два часа раньше обычного: было еще светло, и в своей комнате она застала трех мальчиков в ночных рубашках; они занимались тем, что плевали на подоконник и терли о мокрый камень абрикосовую косточку: надо было с каждой стороны протереть ее насквозь. Ядрышко после этого вынимали иголкой. Так, натерпевшись, можно было сделать свисток, который, правда, все равно не свистел, а под конец всегда проглатывался. Мальчики очень удивились, что их почти не стали ругать, и улепетнули, как зайчики. Бланш Фронтенак думала о Ксавье: он казался ей теперь человечнее, ближе, хоть она и запрещала себе так думать. Завтра вечером она его увидит: будет как раз его воскресенье. Она представляла себе, каково ему сейчас одному в вымершем доме в Преньяке…
А Ксавье Фронтенак в это самое время сперва сидел в винограднике под маркизой, но там было слишком жарко, и он побоялся перегреться. Он немного походил по прихожей, потом решился подняться наверх. Его не так страшили дождливые зимние вечера, когда камин, как верный товарищ, приглашал его почитать, как эти июньские – «вечера Мишеля». Когда-то Ксавье смеялся над Мишелем за его манеру по всякому поводу цитировать Гюго. Сам Ксавье стихов терпеть не мог. Но иные теперь припоминались ему: они хранили интонации любимого голоса. Надо их найти, чтобы с ними воскресло глухое, монотонное чтение Мишеля. И вот этим вечером Ксавье, сидя у открытого окна, выходившего на невидимую вдалеке реку, на разные голоса повторял, словно подыскивая нужную ноту или аккорд: «Природа светлая, как все забыла ты![1]» Луга всплескивались звуками: то лягушки, то лай, то смех – как всегда. А стряпчий из Ангулема, опершись на подоконник, повторял, словно каждое слово ему кто-то подсказывал:
«Тихо-тихо вдали колесница несется…
Все почило и спит – только с дерева льется…
Под ночным ветерком прах недвижного дня…»[2]
Он повернулся к окну спиной, закурил дешевую сигарку и зашаркал по своей привычке по комнате, наступая пятками на панталоны. «Я предаю Мишеля, обижаю его детей», – повторял он старые упреки самому себе. В тот год, когда Ксавье получил в Бордо степень доктора права, он познакомился с этой девицей – уже не первой свежести, ненамного моложе его, – и попал под ее власть, даже не пытаясь понять почему. Кто-то должен был проникнуть в тайну его робости, его страхов, его промахов, его навязчивых тревог. А она была как добрая матушка и не смеялась над ним: в том, должно быть, и состоял секрет ее власти.
Даже при жизни Мишеля Ксавье относился к своему неподобающему положению не легкомысленно. У Фронтенаков в традиции была строгая нравственность – не религиозной природы, а республиканской и крестьянской. И отец, и дед Ксавье не выносили непристойных речей, а невенчанный брак дядюшки Пелуейра – старого холостяка, брата госпожи Фронтенак, от которого к семье перешло по наследству Буриде, имение в ландах, – был стыдом семьи. Рассказывали: он принимал эту тварь у себя в Буриде, в доме, где скончались его родители, и она смела являться в одиннадцать часов утра на пороге в розовом халате, туфлях на босу ногу и простоволосая! Дядюшка Пелуейр умер в Бордо у этой девицы, как раз приехав к ней составить завещание в ее пользу. Ксавье с ужасом думал, что и он пошел по той же дорожке, что, сам того не желая, живет по заветам развратного старого холостяка. Только бы родные не узнали, только бы не открылся этот позор! Страх перед разоблачением внушил ему мысль купить контору не в самом Бордо, а поблизости: он думал, что в ангулемской тишине канет его личная жизнь.
После смерти Мишеля семья не дала ему времени отойти от горя. Родители, тогда еще живые, и Бланш вывели его из оцепенения и указали: «само собой разумеется», он должен продать контору, уехать из Ангулема в Бордо и занять оставленное Мишелем место в фирме по торговле деревом для клепок. Напрасно Ксавье возражал, что ничего не понимает в торговле; ему твердо говорили, что он может опереться на компаньона – Артюра Дюссоля. Но он отбивался. Расстаться с Жозефой? – это выше его сил. Поселиться в Бордо? – его положение раскроется через неделю. Он может повстречать Бланш и ее детей, идя под руку с этой женщиной… Только представив это себе, он холодел. Теперь, став опекуном своих племянников, он больше, чем когда-либо должен был таить, скрывать свой позор. Собственно, при Дюссоле как управляющим, интересам детей, кажется, ничего не угрожало: контрольный пакет акций оставался у Фронтенаков. И только одно было важно для Ксавье: чтобы из его личной жизни ничего не вышло наружу. Он выдержал – в первый раз устоял перед волей отца, а тому уже недолго оставалось жить.
Все дела наконец уладились, но Ксавье не обрел покоя. Он не мог спокойно предаваться своему горю; его грызла совесть – то самое, из-за чего он сегодня кружил по комнате своего детства, между своей кроватью и той, на которой ему и сейчас мерещился лежащий Мишель. Наследство должно было достаться детям Мишеля; растратить из него хоть одно су, полагал он, – значит обокрасть семью Фронтенак. Между тем у них с Жозефой было условлено, что он каждый год первого января в течение десяти лет будет переводить на ее имя десять тысяч франков, после чего, по условию, она от Ксавье ничего уже не могла требовать, кроме квартирной платы и ежемесячного пособия в триста франков. Во всем себе отказывая (над его скупостью потешался весь Ангулем), Ксавье мог накопить двадцать пять тысяч франков в год, но из этой суммы племянники получали только пятнадцать тысяч. Он крадет у них каждый год десять тысяч, твердил он себе – не считая того, что прямо тратит на Жозефу. Само собой, от своей доли в имениях он отказался в их пользу, а собственными доходами каждый волен располагать как угодно. Но Ксавье знал тайный, никому не известный закон Фронтенаков и покорялся только ему. Он был старый холостяк – хранитель семейного наследия и управлял им в пользу священных маленьких существ, родившихся от Мишеля, разделивших между собой черты Мишеля – ведь Жан-Луи взял от него черные глаза, ведь у Даниэль была такая же маленькая черная родинка под левым ухом, у Ива – припухшее веко…
Иногда он усыплял угрызения совести и неделями не думал об этом. Но забота о том, как не выдать себя, не покидала его никогда. Он хотел бы умереть прежде, чем его семья что-либо заподозрит о его конкубинате. Тем вечером он и не подозревал, что в тот же самый час на большой постели, где испустил дух его брат, Бланш лежала с открытыми глазами, объятая душной тенью бордосских ночей, и зачинала на его счет самый странный замысел: она должна заставить Ксавье жениться, даже если ее дети на этом потеряют состояние. Мало было не делать ничего такого, что могло бы сбить Ксавье с пути, не дать ему определить свое положение: его надо было всеми способами склонять к этому. Да, это был бы подвиг!
А вот как раз… Завтра же она постарается завести речь на эту горячую тему, завтра же перейдет в наступление.
Он не поддался. За ужином Бланш к случаю вспомнила, как Жан-Луи, задумавшись, говорил, что дядя Ксавье может еще завести семью, иметь детей: «Надеюсь, он еще не решил этого не делать…» Ксавье подумал, что это просто шутка, поддержал игру и не без пыла, на который был иногда способен, к великой радости детей, описал свою суженую.
Когда они улеглись, а деверь с невесткой остались стоять у открытого окна, она пересилила себя:
– Я говорила серьезно, Ксавье, и хочу, чтобы вы это знали; я совершенно искренне обрадуюсь в тот день, когда узнаю, что вы решили жениться – хоть вы уже и припозднились…
Он холодно, наотрез сказал, предупреждая спор, что никогда не женится. Впрочем, рассуждения невестки ничуть не пробудили в нем подозрений: ведь мысль о женитьбе на Жозефе даже не могла ему прийти на ум. Дать фамилию Фронтенак какой-то бабенке, бывшей потаскушке, ввести ее в дом своих родителей, а главное: представить ее жене Мишеля, детям Мишеля – такого кощунства и вообразить нельзя. Так что он ни на секунду не подумал, что Бланш узнала его секрет. В раздражении, но нисколько не нервничая, он отошел от окна и попросил разрешения удалиться к себе в спальню.
1
Из стихотворения В. Гюго «Печаль Олимпио».
2
Из его же стихотворения «Молитва обо всем мире».