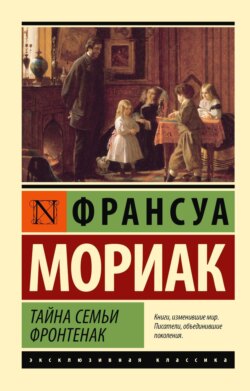Читать книгу Тайна семьи Фронтенак - Франсуа Мориак - Страница 5
Часть первая
IV
ОглавлениеНеторопливо тянулось детство, и в этой жизни, казалось, не было места никаким случайностям, никаким чрезвычайным происшествиям. Каждый час был наполнен трудом, приводил с собой завтрак, учебу, возвращение в омнибусе, скачки через ступеньки лестницы, запах ужина, маму, «Таинственный остров», сон. Даже болезнь (ложный круп у Ива, тифозная лихорадка у Жозе, скарлатина у Даниэль) находила свое место, сообразовывалась с остальным, давала больше радостей, чем горя, была событием, служила ориентиром для воспоминаний: «А в тот год, когда у тебя была скарлатина…» Каникулы ровной чередой открывались видом на колоннаду сосен в Буриде – в очищенном от скверны доме дядюшки Пелуейра. Те же ли самые цикады пели там в прошлом году? С виноградников в Респиде привозили корзины ренклодов и персиков. Ничего не менялось, лишь панталоны у Жан-Луи и Жозе становились длиннее. Бланш Фронтенак, прежде такая худая, теперь все полнела, беспокоилась о здоровье, считала, что у нее рак, и, сходя с ума от этого страха, думала, что будет с детьми, когда ее не станет. Теперь она первая заключала Ива в объятья, а он, бывало, и не давался. Ей приходилось пить много микстур до и после обеда, ни на миг не прекращая школить Даниэль и Мари. У девочек уже видны были сильные ноги, низкий широкий зад: теперь так оно и останется. Хорошенькие кобылки, уже взнузданные, до поры пускались вперегонки с детьми поденщиц и прачек.
В тот год Пасха была такая ранняя, что дети семьи Фронтенак оказались на каникулах в Буриде уже в конце марта. Пахло весной, но ее еще не было видно. В старой летней листве дубы стояли как мертвые. Кукушка звала вдаль, по ту сторону лугов. Жан-Луи с берданкой на плече думал, что охотится на белок, а сам выслеживал весну. В неверном зимнем свете весна рыскала, словно дичь, которую чуешь где-то совсем рядом, но видеть не видишь. Мальчику уже казалось, что он слышит ее дыхание – но вот снова холод, и все. В четыре часа дня свет на краткий миг ласкал деревья, сосновая кора блестела, как чешуя, заходящее солнце прилипало к клейким ранам стволов. И вдруг все гасло: западный ветер приносил тяжелые тучи, проползавшие по вершинам холмов и жалобно стонавшие на этом ветру.
Подходя к заливным лугам по берегам Юры, Жан-Луи поймал наконец весну: он ее собирал по ручью, в уже подросшей траве; она рассыпалась клейкими, чуть распустившимися ольховыми почками. Мальчишка склонился над ручьем поглядеть на длинные живые волосы мха. Волосы… а лица, должно быть, от сотворения мира погребены потоком чистой воды в морщинистом песке. Опять показалось солнце. Жан-Луи прислонился к ольхе, достал из кармана «Рассуждение о методе» в школьном издании, так что минут на десять видеть весну перестал.
Он отвлекся от книги, увидев разломанный барьер: это препятствие он устроил здесь в августе, когда тренировал Бурю – свою кобылу. Надо будет сказать Бюрту, чтоб починил. Завтра поутру он сядет верхом… Поедет в Леожа, повидается с Мадлен Казавьей… Ветер менялся на восточный и доносил деревенские запахи: скипидар, свежий хлеб, дым от очагов, на которых готовился скудный ужин. Деревня пахла хорошей погодой, и мальчик всем существом обрадовался. Он шел по уже повлажневшей траве. На холмике, окаймлявшем луг с запада, сверкали первоцветы. Жан-Луи перешел через него, пошел вдоль недавно сгладившейся ланды и спустился к дубовой роще, через которую течет Юра выше мельницы; вдруг он остановился и чуть было не расхохотался: под сосновым пнем сидел какой-то чудной монашек в капюшоне и нараспев бормотал вполголоса, а в руке держал школьную тетрадку. Это был Ив; он низко опустил капюшон и сидел, выпрямив спину, весь таинственный; он был убежден, что один; словно ангелы служили ему. Жан-Луи расхотелось смеяться: всегда страшно смотреть на человека, уверенного, что никто не видит его. И Жан-Луи испугался, словно его застигло некое запретное чудо. Его первое движение было – уйти прочь, оставить братца наедине со своими заклинаниями. Но любовь к болтовне, всемогущая в эти годы, подхватила его и понесла к Иву, который под своим капюшоном был глух и ничего не подозревал. Старший брат спрятался за дубом, на расстоянии брошенного камня от пня, под которым восседал Ив, но смысла его слов не мог разобрать: их уносил ветер. Одним прыжком он кинулся на жертву; малыш и вскрикнуть не успел, а старший уже со всех ног мчался к дому, унося вырванную из рук тетрадь.
Мы никогда не соразмеряем того, как поступаем с другими. Жан-Луи сам сошел бы с ума, если бы видел, что случилось с его братиком. Ив окаменел; отчаяние швырнуло его оземь; он прижался лицом к песку, чтобы заглушить крик, рвавшийся с губ. То, что он писал по секрету от всех остальных, что принадлежало только ему, было тайной между ним и Богом, ныне предано им на потеху, на посмеяние… Он пустился бежать в сторону мельницы. Уж не вспомнил ли он про омут, где когда-то утонул один мальчик? Да нет – он просто, как часто уже бывало, бежал куда глаза глядят, лишь бы никогда не вернуться домой… Но он выдохся – еле-еле двигался, потому что песок набивался в ботинки и еще потому, что верное дитя всегда носимо ангелами: «Яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возьмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою…»[3] Вдруг пришла к нему утешительная мысль: никто на свете, даже и Жан-Луи, не разберет его тайного почерка – он даже хуже того, каким Ив пишет в коллеже. А что и разберут, покажется им совсем непонятно. И глупо брать в голову: что они смогут уразуметь на том языке, от которого у него самого не всегда найдется ключ?
Песчаная дорога привела к мосту у входа на мельницу. Луга скрывались под паром собственного дыхания. Старое сердце мельницы в вечерних сумерках еще билось. Встрепанная лошадь высунула голову из окошка конюшни. Вросшие в землю лачуги с дымящимися трубами, ручей, луга сливались вместе в ореол зелени, воды и невидимой жизни, со всех сторон окружавших старые сосны крестьянского леса. Ив понял все: в этот час нельзя поругаться над тайной мельницы. Он пошел назад. Раздался первый удар колокола к ужину. Через лес пронесся дикий вопль пастуха. Ива накрыло мощной волной запаха шерсти и грязного пота: он не видел, но чуял овец. Пастух не ответил ему на поклон, и у мальчика от этого защемило сердце.
В конце аллеи у большого дуба его поджидал Жан-Луи. В руках он держал тетрадку. Ив в нерешительности остановился. Злиться ли? Со стороны Уртина в последний раз прокуковала кукушка. Они неподвижно стояли в паре шагов друг от друга. Жан-Луи первый шагнул вперед и спросил:
– Ты не очень рассердился?
Ив никогда не мог устоять перед ласковым словом, даже перед голосом чуть более нежным, чем обычно. Жан-Луи с ним был постоянно груб, часто ворчал: «Пинка б тебе хорошего!», а главное, от чего Ив приходил в ужас: «Вот в армию пойдешь…» А сегодня он только твердил:
– Не очень рассердился, да?
Малыш ничего не мог ответить, только обнял брата за шею; тот снял его руку, но осторожно.
– А знаешь, – сказал он, – это очень здорово.
Малыш поднял голову и спросил:
– Что здорово?
– То, что ты написал… лучше, чем здорово, – с жаром ответил брат.
Они шли рядом по светлой еще аллее меж черных сосен.
– Издеваешься, Жан-Луи? Разыграть хочешь, да?
Второго удара колокола они не слышали. Госпожа Фронтенак вышла на крыльцо и позвала:
– Мальчики!
– Вот что, Ив, сегодня после ужина пошли вдвоем гулять в парк, я с тобой поговорю. На вот, тетрадку возьми.
За столом Жозе (мать всегда говорила, что он не умеет вести себя за столом, слишком жадно ест и садится, не вымыв рук) рассказывал, как ходил сегодня с Бюртом по ландам: управляющий наставлял мальчика, чтобы тот знал границы своего имения. Жозе ни о чем другом и не помышлял, как только «сесть на земле» для своего семейства, но теперь ему казалось, что он ни за что не научится находить межевые камни. Бюрт считал сосны в посадке, раздвигал траву, копал – и вдруг являлся вросший в землю камень, много веков назад поставленный там прежними пастухами. Эти скрытые, но неисчезающие камни были стражами права и, очевидно, внушали Жозе некое религиозное чувство, пробившееся из недр его породы. Ив даже есть не мог, в упор глядел на Жана-Луи и тоже думал об этих таинственных межах: в его сердце они оживали, внедрялись в тот потаенный мир, который его поэзия извлекала из тьмы.
Выйти они хотели незаметно, но мать перехватила их:
– С ручья сыростью тянет; вы пелеринки хотя бы накинули? И ни в коем случае не стойте на месте.
Луна еще не вставала. От ледяного ручья и с лугов дышало зимой. Сперва мальчики озирались, не находя аллею, но затем их глаза привыкли к темноте. В безупречно ровной струе неба над соснами звезды казались ближе: они спускались и плавали меж берегов, означенных черными вершинами. Ив шел, освободившись сам не зная от чего – как будто старший брат вытащил у него из души огромный камень. Жан-Луи говорил с ним отрывистыми фразами, смущенно. «Я, – говорил он, – боюсь, как бы ты не начал слишком умничать. Боюсь замутить источник…» Но Ив отвечал: «Не бойся; это от меня не зависит; это как поток лавы, и сперва я сам не мог с этим совладать». Потом, когда лава застывала, Ив начинал работать, без колебаний выковыривал из нее эпитеты и прочий застрявший там мелкий мусор. Уверенность мальчика в себе покорила Жан-Луи. Ему самому теперь было семнадцать – а сколько же Иву? Только-только пятнадцатый пошел… Переживет ли его гениальность детство?
– Послушай, Жан-Луи, а что тебе больше всего понравилось?
Писательский вопрос: вот и родился писатель…
– Разное… Очень понравилось, как сосны освобождают тебя от страданья, кровью вместо тебя исходят, и как тебе ночью кажется, что они ослабели и плачут, но не от них этот плач исходит: то дуновенье моря в стиснутых кронах… О! А особенно это место…
– Смотри-ка, луна! – перебил Ив.
Они не знали, что мартовским вечером 67-го или 68-го года Мишель и Ксавье Фронтенаки шли по той же самой аллее. Ксавье тогда тоже сказал: «Луна!», а Мишель прочитал стих: «Встает – и стелется ее дремотный луч…»[4] И в такой же точно тишине текла тогда Юра. Через тридцать с лишним лет вода в ней была другая, но так же точно журчала, а под этими соснами другие братья так же точно любили друг друга.
– Не показать ли их кому-нибудь? – спросил Жан-Луи. – Я подумал, может быть, аббату Пакийону (то был учитель риторики, которого он почитал и любил). Но даже он, боюсь, не поймет: скажет, что это не стихи, а это ведь и вправду не стихи… Я никогда ничего подобного не читал. Они тебя смутят, ты начнешь что-то править… Словом, я подумаю.
Ив целиком предался своему доверию к брату. Мнения Жан-Луи было ему достаточно: он совершенно полагался на него. И вдруг ему стало стыдно, что они говорят только про его стихи:
– А ты как, Жан-Луи? Не станешь торговать досками? Не дашь это над собой сотворить?
– Я все решил: Нормаль… степень по философии… непременно по философии… Кто там в аллее – не мама?
Ей стало страшно, что Ив замерзнет; она принесла ему теплое пальто. Мальчики взяли ее под руки.
– Тяжела я стала на ходу, – сказала она. – А ты в самом деле не кашляешь? Жан-Луи, он при тебе не кашлял?
Их шаги на крыльце разбудили девочек в спальне у террасы. Лампа в бильярдной ударила им в глаза; они заморгали глазами.
Ив, раздеваясь, глядел на луну над неподвижными сосредоточенными соснами. Не было соловья, которого отец Ива слушал в его годы, свесившись из окна над садом в Преньяке. Но здесь, быть может, у совы на сухом суку голос был еще звонче.
3
Псалом 90.
4
Из сборника В. Гюго «Созерцания».