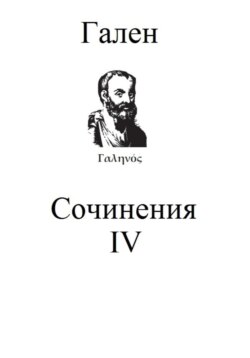Читать книгу Сочинения. Том 4 - Гален - Страница 3
О телеологическом принципе, научном методе и управляющих силах души в медицине Галена
К седьмой книге: вынужденное продолжение трактата
ОглавлениеГален начинает седьмую книгу трактата «Об учениях Гиппократа и Платона» с упоминания о дискуссии, последовавшей за написанием первых книг, которые могли распространяться как отдельные, самостоятельные произведения. Это вполне вероятно, учитывая, что излюбленным жанром Галена были полемические сочинения в форме писем. В данном случае он указывает на мнение многих своих друзей, уговоривших его «расширить это сочинение», включив дополнительные опровержения аргументов, возникших у его оппонентов после того, как стало широко известным содержание первых книг «Об учениях Гиппократа и Платона» (фрг. 7.1.1–7.1.3). Казалось бы, какая необходимость «расширять сочинение», рискуя сделать его «непомерно длинным»? Великий врач превосходно осознавал нежелательность этого. Некоторые оппоненты, не соглашаясь с ним, «имели дерзость утверждать», что доводы Хрисиппа были правильными. Это означало бессмысленность дальнейшей дискуссии: в предшествующих книгах Гален уже привел свои доводы, опровергающие основные положения учения Хрисиппа и других представителей Ранней Стои[13]. Из других трактатов становится ясно, что Гален, убедившись в том, что к нему не прислушиваются, мог резко прервать спор и удалиться, даже не попрощавшись[14].
По-видимому, дело не столько в упорствовавших в своих заблуждениях оппонентах, сколько в сомневающихся врачах и философах, принимавших суждения Галена частично или с оговорками. Он полагал, что за их симпатии следовало бороться и далее. На вероятность такой мотивации Галена указывают фрагменты, где речь идет о философах-стоиках, философах-перипатетиках и врачах, которые уже «не столь дерзки, как прежде», а некоторые «даже открыто изменили свое мнение и признали истину» (фрг. 7.1.4–7.1.10). Некоторые из них отвергли ряд суждений Хрисиппа, в особенности те, которые опровергаются с помощью анатомических вскрытий. При этом у некоторых читателей сочинений Галена оставались сомнения в возможности совмещать медицинские и общефилософские аргументы в исследовании природы человека.
Гален указывает на необходимость однозначно оценивать единство духовного и телесного. Именно с этим связано указание на одно «руководящее начало», управляющее и мыслями, и соматическими проявлениями:
7.1.7. Ведь сама природа, или сущность, – называй, как хочешь, – исследуемого предмета явила доказательства того, что руководящее начало, управляющее всеми мыслями и словами, совпадает с началом ощущения и произвольного движения.
В этом контексте представляется неслучайным, что Гален довольно подробно останавливается на проблеме добродетели (фрг. 7.1.9–7.3.1). Во многом именно здесь обнаруживается сходство его взглядов со взглядами Платона. Например, в диалоге «Теэтет» исследуется сущность знания. Платон утверждает, что познание невозможно без всеобщностей, в которых синтезировались бы данные разных чувств (в таком предмете, как, например, сахар, органы наших чувств фиксируют: белизну, сладость, определенный запах и т. д.), на основании чего отдельные взаимно различные качества составляют одну вещь, один предмет, в котором все они образуют некое единство. Ответ Платона таков: многообразие данностей сводится к единству благодаря действиям души (здесь душа – синоним разума, сознания)[15]. «Душа сама по себе наблюдает общее во всех вещах», оперируя универсальными категориями бытие—небытие, подобие—неподобие, тождество—различие, число и т. д.[16] Эта проблема кажется на первый взгляд сугубо умозрительной, этической, не имеющей отношения к физиологии и анатомии. Если разумная и бессмертная часть души находится в головном мозге и управляет произвольными движениями частей тела, то, следуя Галену, она должна быть ответственна и за проявления духовной деятельности человека. С точки зрения современной медицины, подобное единство обнаруживается в рамках учения о высшей нервной деятельности. Врач, работающий в XXI веке, не сомневается в том, что именно нейрофизиологические процессы, происходящие в тканях головного мозга, обеспечивают управление произвольными движениями и определяют психотип человека. Во времена Галена возможность такого единства еще только предстояло утвердить. Значение суждения Галена о физиологическом единстве ощущений и умозрений нельзя переоценить. Данный вопрос был предметом его дискуссий с оппонентами:
7.2.11. Ведь как говорящий, что у нас есть глаза, имеет в виду то же самое, что и говорящий, что у нас есть очи, или что мы имеем оптический орган, или орган зрения, или природное приспособление, предназначенное для зрения, так и тот, кто говорит, что мы имеем знание о добре и зле, говорит то же самое, что и говорящий, что мы имеем знание о том, что следует, а чего не следует предпочитать, или о том, что следует, а чего не следует делать, или о том, к чему следует, а к чему не следует стремиться.
Гален предпринимает попытку связать психические и физиологические проявления деятельности живого организма (фрг. 7.3.2–7.3.5). Он начинает с соотношения проявлений деятельности частей души и заканчивает анатомией нервов. Гален отмечает, что у руководящего начала души живого существа есть две функции: первая – умозрительная, включающая в себя «представления, память, <воспоминание, знание>, умозрение и мышление», а также вторая, производная от первой, которая управляет ощущением и движением частей тела. Другая часть души помещается в сердце, ее функции – это «напряжение (τὁνος) души, верность и упорство в том, что повелевает разум», и «кипение природного жара», то есть гнев. По Галену, она связана со взаимодействием с другими частями тела и служит источником «жара» для них и «пульсирующего движения» в артериях. Есть и третье начало, которое находится в печени, и оно отвечает за питание существа, в том числе и за кроветворение, и за стремление к удовольствиям (фрг. 7.3.2–7.3.4). Далее Гален говорит о «явлениях», обнаруженных при вскрытиях и свидетельствующих в пользу его теории о том, что источник нервов находится в головном мозге, а сами нервы имеют троякую сущность:
7.3.4. …Так вот, эти явления, при аккуратном проведении эксперимента, указывают на ту часть головы, в которой находится начало нервов, и это не мозговые оболочки, а головной мозг.
7.3.5. Ведь каждый из вырастающих нервов имеет тройную сущность: его глубокая, средняя часть, аналогичная сердцевине деревьев, имеет источник и происхождение в головном мозге и окружена сначала тем, что произрастает из мягкой оболочки, а во вторую очередь – тем, что произрастает из твердой.
Гален абсолютно точно определил микроанатомию нерва, подметив, что «как бы сердцевина нервов растет из головного мозга». Здесь он не упускает случая покритиковать Эрасистрата, который «в течение длительного времени видел только наружную часть нерва, произрастающую из твердой оболочки, думал, что из нее же произрастает весь нерв, и большинство его сочинений полны рассуждениями о том, что нервы растут из оболочки, окружающей головной мозг» (фрг. 7.3.6). Гален приводит длинную цитату из Эрасистрата (фрг. 7.3.6–7.3.7), которая является достоверным источником, позволяющим судить о взглядах знаменитого александрийца на анатомию нервов и головного мозга. Учитывая скептическое отношение Галена к Эрасистрату, можно определенно считать, что последний, по крайней мере к концу своей жизни, имел совершенно верные представления об этом разделе анатомии. Гален с удовольствием и при каждом удобном случае критикует Эрасистрата и его последователей, порой посвящая этому отдельные (пусть и не очень большие по объему) сочинения. Похвала Галена в адрес Эрасистрата – явление настолько редкое, насколько бесспорными должны были быть достижения александрийского врача в том или ином разделе медицины. Вместе с тем Гален немедленно приводит критические замечания в адрес Эрасистрата, подмечая его недостаточный опыт в области анатомических вскрытий и физиологических экспериментов. Этот недостаток очевиден на фоне успехов самого Галена:
7.3.15. Когда удалена кость головы, но животное еще живо, и твердая оболочка оказывается обнаженной, то если потянуть эту оболочку посредством крючков, или разрезать, или полностью вырезать с обеих сторон средней линии, вдоль которой она, разделенная на две части, спускается в головной мозг, животное не лишится ни способности ощущать, ни способности двигаться, как этого не произойдет и при разрезании или удалении части оболочки, служащей защитой головного мозга сзади.
7.3.16. Даже если каким-либо образом вырезать сам головной мозг, животное не лишается способности двигаться и ощущать, прежде чем разрез дойдет до одного из желудочков мозга.
7.3.17. Наибольший вред наносит животному разрез заднего желудочка, затем – разрез среднего желудочка, разрез же любого из передних желудочков наносит наименьший вред, и этот вред бывает большим у более старых животных и меньшим – у молодых.
7.3.18. Сжатия желудочков вызывает то же действие, что и их разрезы; такие сжатия мы наблюдали, не намеренно, но всеми силами пытаясь избежать их, у людей, которые подвергались трепанации черепа при переломе его костей.
Действительно, Гален описывает очень трудный опыт, требующий (даже в настоящее время) филигранной техники. Он демонстрирует не только владение техникой анатомического эксперимента, но и глубину сформулированных на его основе выводов:
7.3.19. Благодаря этим явлениям также можно сделать одно из двух предположений о пневме, содержащейся в желудочках головного мозга: если душа бесплотна, то эта пневма является, так сказать, ее первым жилищем, если же душа телесна, то эта самая пневма и есть душа.
7.3.20. Но когда, после соединения желудочков, животное вновь начинает обретать способность чувствовать и двигаться, становится ясно, что и то, и другое предположение относительно пневмы неверно.
7.3.21. Итак, лучше принять, что душа обитает в самом теле головного мозга, чем бы она ни была по своей сущности – ведь не об этом сейчас идет речь, – а первым ее инструментом по отношению ко всем ощущениям и произвольным движениям живого существа является пневма. Поэтому, когда живое существо лишено пневмы, вплоть до того момента, как пневма снова собирается в нем, оно не лишается жизни, но теряет способность чувствовать и двигаться.
7.3.22. Однако если бы пневма была материей души, то, лишившись ее, живое существо тотчас погибло бы.
Гален считает, что следует принять факт присутствия души в головном мозге, который определяет наличие в организме чувствительных и двигательных реакций. Современному врачу ясно, что наблюдавшиеся Галеном реакции, по-видимому, определялись целостностью центральной нервной системы либо ее нарушением и сопутствующим этому повреждением механизмов проводимости. Гален строил свои рассуждения в рамках гипотетической модели целесообразного функционирования человеческого организма. Психическая пневма, по мнению Галена, образовывалась в желудочках головного мозга: при их повреждении она исчезала, после соединения возникала вновь (именно возникала, а не постоянно находилась). Психический (или животный) дух образовывался из жизненной пневмы, «выдыхаемой» через артерии в желудочки мозга, – особую роль в этом, по мнению великого пергамца, играла rete mirabile (фрг. 7.3.21–7.3.26).
Закончив вполне логичное изложение схемы циркуляции и превращения пневмы в сосудах и желудочках головного мозга, Гален еще раз заявляет:
7.3.27. Итак, пневма, содержащаяся в артериях, является и называется жизненной пневмой, а пневма, содержащаяся в головном мозге, – психической пневмой; это не материя души, но как бы первый ее инструмент, находящийся в головном мозге, какова бы ни была ее сущность.
Этот момент настолько для него важен, что Гален даже отводит значительную часть седьмой книги подробному разбору механизма нервного импульса на примере функции зрения (фрг. 7.3.30–7.5.8). Он последовательно переходит от эксперимента на головном мозге животных к клиническому разбору реализации функции зрения в норме и при патологии, напоминает о целостности механизма обращения пневмы в организме человека, который, по его мнению, состоит в циркуляции трех духов эндогенного происхождения. Я неоднократно писал об этом ранее[17], здесь лишь хочу обратить внимание читателя на значимость фрагментов 7.3.27–7.3.29 для исчерпывающего прояснения точки зрения Галена по этому вопросу. Во-первых, он подчеркивает преобразование одного вида пневмы в другой, ведь психическая пневма «рождается в основном из переработанной жизненной пневмы» (фрг. 7.3.28). Во-вторых, организм человека понимается Галеном как целостная динамичная система, взаимодействующая с окружающей средой, ведь перерождение в сердце жизненной пневмы происходит, «получая вещество для образования из дыхания и испарения соков». В этом смысле жизненная пневма представляет собой продукт, возникающий как результат реализации функций дыхания и пищеварения: необходимые «соки» поступают к сердцу с венозной кровью. Вырабатываются они, в свою очередь, в печени из питательных веществ, поступающих в организм с пищей.
Психическая пневма осмысливается Галеном как медиатор, с помощью которого осуществляется функция нерва. Во время анатомических экспериментов, направленных на изучение функции зрения, Гален наблюдает и подробно описывает устройство нервов, соединяющих глаз и мозг (фрг. 7.4.4–7.4.10). По его мнению, на примере реализации функции глаза в норме может быть продемонстрировано, как именно происходит движение пневмы, обеспечивающее передачу зрительного импульса. При катаракте (заболевании, хорошо известном античным врачам) развивается патологическое состояние и «протоки зрительных нервов закрываются» (фрг. 7.4.16). Циркуляция пневмы при этом прекращается, функция зрения нарушается. Патологический процесс может зайти настолько далеко, что анатомические структуры повреждаются и, «как бы хорошо ни прошла операция по удалению катаракты, зрение уже не восстановится» (фрг. 7.4.14). Гален, в отличие от врачей – приверженцев стоической натурфилософии прекрасно понимает функциональную целесообразность анатомического устройства живого организма и, соответственно, значение его повреждений при тех или иных заболеваниях. Он подкрепляет свои рассуждения аргументами (фрг. 7.4.17–7.5.4). На основании изложенного Гален делает важный вывод:
7.5.13. Итак, общая черта всех способностей к ощущениям, имеющих источник в головном мозге, – то, что они переносятся к соответствующим органам посредством нервов. Материя нерва принадлежит к тому же виду, что и материя головного мозга, за исключением того, что нерв сделан природой плотнее ради защиты от внешних воздействий. Именно в силу этого уплотнения и сдавливания материя нерва отличается от материи головного мозга, и из-за этого нерв нуждается в постоянной помощи мозга. Если бы он оставался подобным головному мозгу, он не нуждался бы в его помощи.
7.5.14. Ведь характерные свойства материи формируют и свойства соответствующих способностей. Итак, насколько каждый из так называемых чувствующих нервов отступил от природы головного мозга, настолько он отходит и от его способностей.
Основой исследовательской методологии Галена является телеологический принцип: в организме человека все целесообразно, все создано Демиургом в соответствии с единством замысла, все части тела имеют имманентно присущие им функции. Если ученый не понимает законов природной целесообразности, заложенных в функционировании всех частей тела, то это означает, что он не понимает предмета своего изучения и не может его корректно исследовать. Во вступительной статье к первым пяти книгам «Об учениях Гиппократа и Платона» я обращал внимание на особенности концепции пневмы у стоиков. При подготовке к изданию третьего тома «Сочинений» Галена наиболее удачным примером для анализа объяснительных возможностей стоического понимания пневмы мне показалась именно функция зрения. Я обратил внимание читателей на то, что стоическое объяснение этой функции предопределяет утрату врачом всякого внимания к прояснению устройства глаза и его соединения с головным мозгом. Напротив, Галена этот вопрос очень интересует: изложению результатов своих исследований анатомии глаза, зрительного нерва и механизма передачи импульса к головному мозгу он уделяет значительное внимание (фрг. 7.5.17– 7.5.40).
Завершая анатомо-физиологическое описание функции зрения, Гален соотносит свои представления об органах чувств с основой натурфилософии – теорией четырех первоэлементов (фрг. 7.5.41–7.5.44). Резюмирует он это следующим образом:
7.5.44. Ведь, действительно, тем органом чувств, который ближе всего к земле, то есть осязанием, мы ощущаем землеобразную природу в воспринимаемых объектах, самым блестящим органом, то есть органом зрения – природу блестящего, как и посредством воздушной субстанции, находящейся в органе слуха, происходит распознавание процессов, свойственных воздуху. Кроме того, при помощи органа вкуса, который является влажным и губкообразным по природе, происходит у нас различение вкусов.
Механизма реализации функции обоняния Гален касается очень кратко, объясняя это наличием специального сочинения, в котором он ранее уже разъяснил свои взгляды – «Об органе обоняния». К сожалению, этот текст не сохранился. Краткая цитата из диалога Платона «Тимей», приводимая Галеном в седьмой книге трактата «Об учениях Гиппократа и Платона», в сочетании с его развернутой аргументацией, приводимой ранее, помогает понять логику его рассуждений относительно функции обоняния (фрг. 7.5.45–7.6.1).
Гален считает необходимым указать на тот факт, что его представления о зрении основаны на учении Платона (фрг. 7.6.2–7.6.31). Для иллюстрации точки зрения Платона Гален цитирует значительные по объему фрагменты из диалогов «Тимей» и «Теэтет». Так, в приведенных Галеном отрывках из диалога «Тимей» Платон говорит о том, что внутри человека «обитает особенно чистый огонь», «изливающий мягкое свечение», которое исходит через глаза. Глазная ткань уплотнена, чтобы не пропускать ничего, кроме «чистого огня». Когда свет, исходящий из глаз, сталкивается с внешним потоком света, так как подобное устремляется к подобному, образуется особое однородное тело (фрг. 7.6.5–7.6.6, 7.6.8–7.6.10). Гален отмечает:
7.6.9. «А поскольку это тело благодаря своей однородности претерпевает все, что с ним ни случится, однородно, то стоит ему коснуться чего-либо или, наоборот, испытать какое-либо прикосновение, и движения эти передаются уже ему всему, доходя до души: отсюда возникает тот вид ощущения, который мы именуем зрением»[18].
7.6.10. В этих словах Платон говорит, что орган зрения излучает свет и что благодаря ему становится возможным ощущение процессов, происходящих со светом, как благодаря слуху возможно восприятие происходящего с воздухом, ведь подобное постигается подобным благодаря общности процессов.
Гален подчеркивает, что, согласно Платону, глаза и прочие органы чувств – «орудия» души. В качестве примера он приводит объемный отрывок из диалога «Теэтет», где Платон подробно на этом останавливается, и заключает, что каждый из органов чувств может воспринимать только такое воздействие, для которого он был создан. Различать и сравнивать получаемые ощущения может только разумная часть души, по Галену – головной мозг (фрг. 7.6.12–7.6.22). Гален отмечает:
7.6.22. Итак, в этих словах, как и в других, следующих за ними, и в некоторых других диалогах, Платон учит нас, что существует общая сила, которая поступает из головного мозга посредством нервов всем органам чувств и ощущает происходящие в них изменения; ведь, если бы было возможно, чтобы под действием процессов, происходящих со светом, изменялся какой-то другой, а не светоподобный орган, или под действием процессов, происходящих с испарениями, – какой-то другой, а не парообразный, или под действием процессов, происходящих с воздухом, – какой-то другой, а не воздухоподобный, или под действием процессов, происходящих с жидкостями, – какой-то другой, а не воспринимающий вкус и наполненный соками, органы чувств не возникли бы; однако в действительности дело обстоит иначе.
Гален в рассуждениях Платона находит основания для объяснения существования анатомических образований, целесообразно существующих в человеческом организме для реализации функции того или иного чувства. Нарушение этой функции определяется не чем иным как повреждением этого механизма вследствие развития каких-либо заболеваний:
7.6.27. Когда же происходит закупорка протоков носа, пропадает обоняние, так же как слух пропадает, если закупорились уши, так как соответствующее изменение не достигает того или другого органа: парообразного – изменение запахов, ведь испарение – их сущность, воздухообразного – изменение звуков, поскольку их сущность есть воздух.
7.6.28. Существует заболевание глаз, аналогичное этим закупоркам, которое называется катаракта. При этом загораживается проход света по увеальной оболочке, так что собственно орган зрения не соприкасается с окружающим весь глаз извне воздухом.
Далее Гален переходит к описанию органа осязания. Ссылаясь на Платона, который говорит о том, что видимое и осязаемое сотворены из огня и земли, он пишет, что орган осязания должен быть землеподобным. Кроме того, он утверждает, что само по себе изменение тел еще не ведет к ощущению, так как для ощущения необходимо участие нервов. Гален считает нужным уточнить мысль Гиппократа, который отклонение тел от естественного состояния называет страданием, а также настаивает, что необходимо различать само отклонение и ощущение этого отклонения (фрг. 7.6.29–7.6.34). Здесь вновь отмечается важное противоречие учению Аристотеля – казалось бы, Стагирит верно рассуждает о «мгновенном превращении того, что изменяется таким образом, – настолько быстром, что, кажется, оно не занимает вовсе никакого времени, и о том, по какой причине чистому воздуху по природе свойственно, изменяясь под действием цвета, передавать это изменение вплоть до органа зрения» (фрг. 7.7.4). Однако вопрос состоит не только в этом, а в моментальном определении целого комплекса сложных ощущений. В случае зрения – это положение в пространстве, размер и форма воспринимаемых предметов. Кроме того, орган зрения реализует сложную оптическую конструкцию, позволяющую человеку видеть в зеркале себя и предметы, находящиеся сбоку или сзади, что совершенно необъяснимо с помощью учения Аристотеля, так же как необъяснимо распознавание запахов и звуков (фрг. 7.7.5–7.7.12).
Гален описывает известный в современной медицине механизм периферической чувствительности, например, тактильной, когда боль ощущается непосредственно той частью тела, которая подвергается травмирующему воздействию:
7.7.18. Истина же противоположна их мнению. Ведь сам нерв есть часть головного мозга, как ветка или отросток – часть дерева, а член, в которой перерастает часть, принимает способности этой части, и поэтому нерв полностью получает способность распознавать предметы, которые дотрагиваются до него.
При реализации функции зрения работает схожий механизм, ясен и медиатор – движущаяся по нервам пневма. Здесь Гален вновь полемизирует со стоиками, описывая их объяснение механизма зрения язвительно и остроумно:
7.7.20. Итак, стоикам не следовало говорить, что мы видим посредством окружающего воздуха, пользуясь им, как посохом. Ведь такое распознавание происходит при столкновении тел, и еще в большей степени – вследствие умозаключения: ведь ощущение глаз не есть чувственное восприятие ни сжатия, ни твердости или мягкости, но цвета, размера и местоположения, которые никакой посох не может распознать.
Гален, разбирая учение Аристотеля о зрении, отмечает наличие здравых идей в модели Стагирита, согласно которой от видимых предметов до глаза доводится «не телесное подобие, но качества посредством изменения окружающего воздуха» (фрг. 7.7.22). Его изменения под влиянием сугубо физических факторов позволяют Галену «предположить существование чувственно воспринимающего луча, тем более что явно наблюдается, что так происходит с пневмой, попадающей в глаза из головного мозга. Ведь эта пневма подобна свету» (фрг. 7.7.24).
Гален дает разъяснение о сущности души: либо, в соответствии с мнением стоиков и Аристотеля, она предстает «как бы сияющим и эфироподобным», но телом; либо это «бестелесная сущность», и тело является ее первым носителем, посредством которого она устанавливает связь с другими телами:
7.7.26. Итак, нам следует сказать, что именно это тело распространяется через весь головной мозг и из-за общности с ним пневма в глазах является светоподобной.
Таким образом, функция зрения представляет собой физиологический процесс, определяющийся устройством глаза и его связью с мозгом, осуществляющейся с помощью нервов:
7.8.3. …это начало находится в головном мозге, от которого все части тела получают ощущение и движение, при том что одни нервы ведут в органы чувств для распознания чувственно воспринимаемых предметов, другие движут те из них, которые должны двигаться, например глаза, язык и уши, – ведь они у большинства животных движутся посредством мышц, которые охватывают их в голове, благодаря которым животные совершают все произвольные движения.
7.8.4. Все это свидетельствует о том, что мы правильно сказали, что головной мозг – начало всех чувств, а также всех произвольных движений живого существа.
Целесообразность функции мозга как «начала всех чувств» определяется и его анатомическим устройством: он прекрасно защищен, из него произрастают все нервы и спинной мозг. Более того, Гален, используя свой метод анатомирования, утверждает, что из мозга произрастают шестьдесят нервов (фрг. 7.8.6–7.8.11). К сожалению, он не уточняет свою мысль и не описывает эти нервы. Завершая седьмую книгу, Гален указывает на неполноту представлений Аристотеля о функции головного мозга. Таким образом, он предваряет содержание восьмой книги трактата «Об учениях Гиппократа и Платона».
13
Подробнее о критике Галеном стоиков см.: Балалыкин Д.А. Исследовательский метод Галена // Гален. Сочинения. Т. III. С. 5–119.
14
См., например: Гален. О вскрытии вен, против последователей Эрасистрата, живущих в Риме // Гален. Сочинения. Т. I. С. 427.
15
См.: Платон. Теэтет, 184d. Издание на русском языке: Платон. Собрание сочинений в 4 томах. Т. 2. М.: Мысль, 1993. С. 192–274.
16
См.: Платон. Теэтет, 185c-e.
17
Подробнее об этом см.: Балалыкин Д.А. Медицина Галена: традиция Гиппократа и рациональность античной натурфилософии // Гален. Сочинения. Т. II. С. 14–15.
18
Платон. Тимей, 45c2-d3. Перевод С.С. Аверинцева.