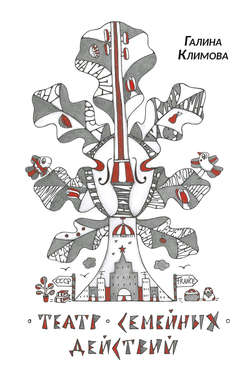Читать книгу Театр семейных действий (сборник) - Галина Климова - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Юрская глина
Путеводитель по семейному альбому в снах, стихах и прозе
ОглавлениеНастоящего болгарина я увидела впервые, когда была еще первокурсницей, полностью невменяемой от любви к Сашке. По законам жанра, похудела килограммов на десять. Ненавистные розовые щеки стали, наконец, впалыми и бледными, как у поэтесс Серебряного века, но я продолжала себе не нравиться, да и Сашка время от времени напоминал, что красоты и ума во мне – кот наплакал. Я смиренно соглашалась и от этого любила его еще сильней.
Однажды мама, поправляя новый парик, сказала:
– Из Варны прилетел мой коллега с сыном. Красивый мальчик, интеллигентный, не чета твоему обормоту! Покажи ему Москву, угости мороженым, я профинансирую. А вдруг он тебе понравится, начнете переписываться, потом ты в Болгарию, на Золотые Пески полетишь… Его отец вроде бы непрочь подыскать для сына русскую жену, у них это теперь модно.
– Фу, какая гадость! Я не собираюсь замуж за первого попавшегося болгарина. Я Сашку люблю, вот за Сашку и выйду. Зачем мне болгарин?
Разозлилась жутко, но маме отказать не посмела. Решила, что покажу этому красавчику Красную площадь, продемонстрирую русское гостеприимство, и – баста! Может, еще на свидание к Сашке успею. Он узнал меня по красному пальто с белым капюшоном:
– Привет! Я – Асен Маринов.
Протянув руку, похожую на тощую мороженую селедку, я что-то буркнула себе под нос и, не теряя ни минуты, потащила его на Красную площадь.
Болгарин выглядел настоящим иностранцем, хотя по-русски говорил почти без акцента. Никто из наших парней не носил шарфа поверх пальто. В ноябре от загара уже и следа не оставалось даже у тех, кто знал не понаслышке, что такое «бархатный сезон». А его лицо было как из шоколада, и глаза ореховые: стопроцентный натуральный шоколад с орехами. Собирался стать моряком, ну не простым, разумеется, а сразу капитаном корабля… Говорил без умолку, забегал вперед, брал под руку то справа, то слева, острил, угощал мороженым, но я была неприступна. И лишь поглядывала на часы, прикидывая, когда бы сбежать, чтобы не обидеть иностранного гостя.
И вдруг болгарин понял:
– У тебя, наверное, есть парень?
– Я не обязана тебе отвечать.
– Значит, есть, ты – красивая девушка…
– Красивая? Что ты вообще понимаешь в красоте? – покраснев до ушей, накинулась я.
– Может, не все понимаю, но красоту сразу чувствую и вижу. Не слепой. Вот и тебя сразу увидел. Зачем ты разозлилась?
Я растерялась.
Кто говорил правду: Сашка или этот смазливый болгарин?
Даже мама никогда не говорила, что я красивая.
С головной болью я приехала домой.
Мы с Асеном больше не виделись, но приезжая в Варну, я часто оглядываюсь вокруг: Асен Маринов, ты здесь?
Замуж за Сашку я не вышла.
Согласившись стать женой Юрия Михайловича Леснова, красавца с синими глазами и свободной улыбкой, жизнелюба, пижона и франкофона, старше ее почти на двадцать лет, Тася решила не экономить и сшила в ателье на Покровке длинное платье покроя «принцесса» из золотистой иранской парчи в белый горошек. В магазине для новобрачных «Весна», поставив штамп на спецприглашении «1 пара, туфли жен.», купила лаковые белые гэдээровские шпильки.
В середине декабря зима вошла в пору бесснежной лютости.
В день рожденья Брежнева, на зимнего Николу, во дворце бракосочетания «Аист» под шампанское и марш Мендельсона цвели букеты полуживых цветов. В этот вторник по сокращенному сценарию, без сантиментов расписывали новобрачных не первой свежести – разведенных или вдовцов.
Накануне приехала школьная подруга Таня, свидетельница ее завтрашнего официального счастья. Проболтали до двух ночи, но и потом сон не пришел. Утром из зеркала на Тасю выкатились больные глаза видавшего виды бассета. Таких глаз новобрачные обычно не носят. Кроме того, болела голова и спазмы бомбили где-то в области солнечного сплетения.
Пять лет назад, когда она впервые была невестой, ее жених – кабинетный московский мальчик, поэт и студент химфака так и не появился в назначенный свадебный день по вполне уважительной причине. Зато нашел в себе силы позвонить: вирус, страшный насморк, температура, мама не советует…
Натянув золотистую шкурку свадебного платья, как в сказке о царевне-лягушке, она будто защищалась и пряталась в этом блестящем камуфляже, чтобы не страшно было быть невестой, хотя бы в окружающей ее коммуналке. Посуетившись в парче на кухне, покрутившись на шпильках возле плиты, накормила горячим завтраком бабушку и Таню, сама – маковой росинки не взяла.
Время выезжать.
Жениха нет.
Телефон молчит.
Бабушка Феня, больная раком и облысевшая от химии, зная контекст предыдущего незамужества, не спускала с внучки мокрых глаз:
– Не психуй, Тасенька. Он, наверное, машину ловит.
– Что значит ловит? Это золотую рыбку старик для старухи ловит, да и то в сказке, а он должен был машину заранее заказать. Может, передумал? Или испугался? Третья жена все-таки, это вам не хухры-мухры… «Морально неустойчив, неразборчив в связях», международный отдел ЦК явно не одобрит, загранкомандировки зависнут, вся жизнь может пойти наперекосяк.
– Сикось-накось, – согласно кивнула Феня, двойным узлом для уверенности завязывая под подбородком шелковую косынку.
Время подпирало: двадцать пять минут опоздания. Сердце – в горле, и даже молчать невыносимо.
Перебил телефон:
– Не сердись, не мог поймать машину, все, как на зло, мимо. Вот сейчас уговорил одного хорошего мужика, объяснил ситуацию, минут через двадцать будем, я только еще цветочки подкуплю. Успеем, не волнуйся, а вы там времени зря не теряйте, спускайтесь и ждите.
Ждать на двадцатиградусном морозе в туфельках, с больной бабушкой, державшейся исключительно на положительном стрессе, было немилосердно.
Когда спустились, у подъезда, распуская бензиновый хвост, их поджидал раздолбанный белый «Москвич», на двери которого односложно синело: «СВЯЗЬ».
– Ой-ё… – И она поверила, что все всерьез.
Уже через час они – законные муж и жена при цветах и подарках. Он подарил нейлоновую японскую куртку цвета спелого апельсина, она – грузинскую чеканку с танцующими в хороводе узкобедрыми и широкоплечими мальчиками, почти как у Матисса.
Кто-то сострил:
– За здоровье дорогого Леонида Ильича! Зря, ребята, вы его не позвали на свадьбу, отбили бы правительственную телеграммку с приглашением, а он: благодарствую, дор-р-рогие товарищи, я бы с радостью, но государственные дела, сами понимаете, хотя вот вам подарочек… И чмок, чмок, чмок взасос!
Самым драгоценным подарком стал сын Ярослав, Ясенька, такой же красавец и трудоголик – весь в отца. Это был единственный шанс родить ребенка, главное событие ее жизни, потому что врачи и мама твердили: рожать нельзя, сердце не выдержит, и тогда либо ребенок останется сиротой, либо сама – инвалидом.
Но Леснов так хотел ребенка, так мечтал о дочке, которая вырастет, конечно, красавицей и умницей, а он – уже пожилой, но еще импозантный – будет прогуливаться с ней по улице Горького, и прохожие с восхищением и завистью будут на них оглядываться.
Тася и без ультразвука знала, что родится мальчик. Знала, что ей сделают кесарево сечение. Она с легкостью вспоминала ощущения после операции аппендицита и ничего не боялась. Чувствовала себя хорошо и расцвела во время беременности всем на удивление. Перед тем, как залечь в специальный роддом для сердечников на Карамышевской набережной, она вымыла в квартире полы, выстирала и выгладила мужу рубашки, наварила кастрюлю борща, нажарила два десятка котлет и в отличном настроении отправилась рожать.
Через пару дней ей сделали специальное обследование, расчертили живот какими-то радиусами, точками и прямыми, соединяющими эти точки. Утром приезжала мама, которую здесь знали как врача, поговорила с заведующей отделения, потом успокоила Тасю, что все идет по плану, через два-три дня будут кесарить. Но вечером начались схватки. Они нарастали в своей частоте и силе. Тася, вырвавшись из рук медсестры, дотащилась до телефона-автомата и позвонила маме. Та ушам своим не поверила, но обещала позвонить заведующей…
Кесарить опоздали, и Тасе дали наркоз. Роды длились почти сутки. Она помнила, как прокололи околоплодный пузырь, как хлынули горячие воды материнского моря, как она, вдруг придя в себя от боли, раздиравшей тело, увидела в окне низкое сизое небо и подумала, что готова умереть… Она опять провалилась в бессознание, пока ее не пробудило, не подняло с глубины страшное слово: «Щипцы!»
– Ой, открыла глаза! Может, и родит? Давайте скорей в родилку!
Палату заливало солнце. Вокруг Таси стояла группа врачей, и одна женщина была громче и решительней всех.
«Акушерка», – поняла Тася.
– Давайте, давайте, скоренько! Мы сейчас сами родим, без щипцов!
Тася, услышав еще раз это слово, мобилизовалась, попробовала даже приподняться, но на нее прикрикнули и повезли в родилку.
Через полчаса она родила. Мальчик! С длинными черными волосами! И у него по пять пальчиков на каждой руке и ноге! Он умел кричать, дышать и спать… Счастливая Таська!
Из родилки вывезли в коридор и забыли про нее до позднего вечера. Очень хотелось спать, очень хотелось пить. Мимо прошлепала старая нянечка:
– Что, милок, чайку?
– Нянечка, миленькая, конечно, чайку, покрепче и побольше, а себе возьмите шоколадку, в кармане халата.
Прошла вечность, пока нянечка принесла поллитровую эмалированную кружку крепкого горячего чая:
– Пей, мамочка, пей на здоровье, – ласково бормотала она, – «Синего слона» тебе заварила, не пожалела.
Воробьёв рассыпанная нонпарель.
В сноске март,
на сносях апрель.
И во весь рост человеческих прав,
как воли взыскующий ветр,
мой первенец,
сын,
мой князь Ярослав —
51 сантиметр!
Зачем измерять или взвешивать чудеса,
творя энергичный жест?
Если тесно под сердцем,
самый раз в небеса
под солнце
подсолнушком родимых мест.
И в страду материнства,
ломовую,
бедовую пору
загляни синеглазо домой на часок…
Мне под силу
тебя поднять и растить,
как волшебную гору,
на руках убаюкать,
провести через шаткий мосток.
Тасе мечталось вместе с мужем вырастить и воспитать этого малыша, этого Ясеньку… Может, так она хотела изжить свои детские комплексы, изводившие до бессонницы, до седых волос? Или реализовать инстинкт материнства, который сильнее комплексов?
Ведь Тася росла на бабушкиных руках, больших и заскорузлых от работы, и выросла под ее недреманным оком, пока родители ютились в московском общежитии, потом в коммуналке и уж только через пятнадцать лет получили двухкомнатную «хрущобу» на Таганке.
Она и сейчас носит фамилию первого мужа.
Иногда что-то просверкивает в небесах, подсказывая ориентир судьбы.
Однажды, прозревая будущее, нащупывая точку опоры или отсчета, она поняла, что неслучайно жила в Ногинске на улице Леснова, хотя и не знала, кто такой этот прославленный человек: революционер, писатель, передовик труда или народный артист? Так случилось, что она – пацанка, скрипачка, поэтка – жила на улице имени своего будущего мужа. Кто же знал, что она станет – Лесновой?
* * *
В понедельник ноябрьского утра девочка села в электричку. Точно в четвертый вагон от хвоста – место назначенных свиданий или встреч невзначай с бывшими одноклассниками, теперь уже московскими студентами.
Вагон был холоден и пуст. Все уехали ранними поездами, а ей в этот раз подфартило: прослушивание у знаменитого скрипача, старого профессора, назначено на час дня.
Она облюбовала местечко у окна. Уложила на полку скрипичный футляр, нотную папку прислонила к стене и облокотилась на нее в сомнениях: что лучше – дремать, читать или играть?
Вчерашние бывшие лужи наглухо задраены ледком. Никто не бежал, не опаздывал, будто бы местные граждане вдруг стали невыездными, – да и какая нужда уезжать от этой синевы небес, незатронутых ветрами, от несуетного, быстро сходящего на нет дня. На платформе скучала пара сторожевых дворняг. Может, кого-то проводили, а теперь ждут не дождутся… С ящиком мороженого к головному вагону направилась матрешечного вида продавщица в белом халате, натянутом поверх пальто.
Поезд очень мягко покатил. Девочка разложила на коленях ноты и начала их читать, как читают книгу: подробно – впереди полтора часа пути – вникая в смысл мелодии, отслеживая нюансы, интонацию, перемены ритма. Возвращаясь к технически трудным местам, она повторяла глазами такт за тактом: сначала медленно, как бы страхуя себя от ошибок и срывов, а потом – во всем блеске, раскованно, артистично. В голове бушевала музыка на полном форте, в подробностях вспыхивающих и угасающих страстей. Ей нравилось это звучание. Вот бы так сыграть на прослушивании, а лучше на концерте, при полном зале, в лучах юпитеров… Но сразу же вспомнилось, как на прошлом выступлении в городском театре прыгали ее коленные чашечки, не прикрытые школьным платьем и накрахмаленным белым передником. Она боялась, что все видят это волнение, эту полуобморочную трясучку. За кулисами ее расцеловали и учитель, и аккомпаниатор, но их заслонило расстроенное лицо мамы:
– Тебе нельзя играть, детка! Тебе противопоказаны выступления, концерты, конкурсы. Я это как врач говорю. У тебя дергается щека, ты вся в поту, а коленки… Куда это годится в пятнадцать лет? А дальше будет хуже. Ранний инсульт или инфаркт, и вся жизнь коту под хвост… Посчитай пульс. Наверняка за сто да еще с перебоями. Смотреть невозможно. Не надо строить больших планов, не надо связывать своего будущего с музыкой. Постарайся, дочура, это понять сейчас, когда ты на пороге выбора. Кем ты будешь, когда окончишь музучилище? Жалким преподавателем, как твой Георгий Афанасьевич, в задрипанном городишке? Или в оркестре? И не в Большом театре, а четвертой или пятой скрипкой в оркестровой яме, до пенсии. А зарплата? На что жить будешь?
Девочка снова погрузилась в музыку, хотя ноты закрыла. Это была «Импровизация» – эффектная концертная пьеса Кабалевского. Она решила повторить ее наизусть, как повторяют стихи: сначала нащупывая и называя единственно верные слова, выходя в стиховое пространство и дыша им в полную силу. Ничто не сковывало изнутри. Пальцы левой руки привычно обхватили запястье правой, реально изображавшей скрипичный гриф. Вены напряглись. А пальцы? Пальцы побежали сами: горячо, по памяти. Она играла, скользя из одной позиции в другую, мизинцем держала флажолетто, вытягивала трели, выверяла октавы.
Подошла продавщица мороженого. Прервавшись, как по звонку на перемену, девочка купила обсыпной сахарный рожок.
К поезду с обеих сторон выбегали облупившиеся деревянные домишки с кривыми серыми заборами и унылыми окнами. Иногда показывались люди, кошки, собаки. Как же им трудно, – подумалось ей, – вечно стучат поезда, один и тот же ритм, железнодорожный грохот. Громче жизни.
Вытерев рот и пальцы, она открыла ноты Концерта № 2 Шпора, совсем нелегкого, совсем не из школьной программы, как пояснил ей учитель. Именно Шпор заставил ее понять, что такое певучесть, длинный наполненный звук, из вибраций которого вырастает музыкальная мысль, фраза, монолог. Может, даже виртуозные технические пьесы в чем-то легче, а в адажио или в анданте столько созерцательной глубины, что надо дорасти до этого чистого звучания.
Проехали Храпуново. Смешное название: какие такие храпуны прославили эту станцию?
В вагон ввалилась компания парней. Их было трое. Одинаковые, как братья: все в куртках «болонья», все рослые, русые, еще не износившие летний загар, все навеселе. Они громко, но не зло переругивались, задирались, толкая друг друга, будто разминаясь на ринге. Оглядев вагон, где, кроме девочки, сидели поодиночке несколько пожилых женщин, влюбленная парочка и еще старушка со стариком-инвалидом, они без запинки двинулись к ней:
– Скучаем, чувиха? – спросил Первый.
– Да чё-то не похоже, – ответил Второй. – Она не одна, вон на полочке, смекай, скрипочка примостилась. Твоя скрипулька али чья?
– Ага, обнаженная со скрипкой, – догадался Первый. – Где же я это слышал? Или видел?
Они плюхнулись на сиденье напротив, вытянув огромные ножищи в кедах, и перегородили проход, заполнив воздух перегаром.
Девочка вжалась в угол. Ей осталось повторить последнюю пьесу, «Пчелку» Шуберта, быструю, очень техничную вещицу для левой руки. Она хорошо помнила ее, и не было нужды заглядывать в ноты, но хотелось повторить не спеша.
– Ты чё такая смурная? Кемаришь, что ли? Недоспала? – наконец, подал голос Третий.
– С кем недоспала, крошка? – ёрничал Первый. Он выдвинулся почти вплотную к ней, широко раздвинул вытянутые ноги, как бы обхватив ее и отрезав от остальных.
– Тормози, Костян, – предупредил Третий, – нутром чую, чувиха серьезная.
– Ясен пень, но мы ее развеселим!
– Чё, анекдоты начнешь травить? А, может, у нее с юмором не фонтан?
Девочка не отвечала.
– Во, гордая, да, Костян?
– Нет, она гордая и интеллигентная. И мы, рабочий класс, ей по фигу.
– Обхождение не то, чем-то мы ей, ё-моё, не близки, – напирал Второй.
– А ты бы ей сбацал, стишки почитал, цветочков с клумбы понадергал, – посоветовал Третий, – вот она с тобой, ремеслуха, и разговорилась бы по душам.
– И потискать бы себя дала… может, она еще целка? – решил Второй.
– Слышь, ты, о тебе разговор, не дошло еще? Голос-то подай, если есть! – крикнул Костян.
– Есть у меня голос, – очень тихо отозвалась девочка, – чего расхулиганились? Я же вам не мешаю, и вы не приставайте.
– А если ты мне приглянулась, если пондравилась с ходу-с лету? – обрадовался Костян. – Может, у нас с тобой любовь прям тут, в вагоне начнется? Как в кино. Может, я тебе предложение еще до Москвы сделаю?
– Если говорить не хочет, пусть споет, пусть чё-нить на скрипульке пиликнет, – предложил Второй. – Я, кажись, вспомнил, она в театре выступала перед Днем Победы, в белом фартуке. Нас тогда с занятий сняли и вместе с солдатней пригнали, чтоб мест свободных не было.
– Сыграни что-нибудь зажигательное, этого, как его, самого знаменитого, про него по радио часто передают…
– Паганини? – подсказала девочка.
– А ты догадливая, – обрадовался Костян. Он легко приподнялся и достал с полки скрипку.
– Не трогай, отдай инструмент, – испугалась девочка и хотела отобрать футляр.
– Да я токо зыркну. – И он легко отодвинул девочку плечом.
Обе защелки замка мгновенно открылись. В глубине футляра на зеленом сукне покоилась янтарного цвета скрипка, а на крышке дважды закреплен смычок. Девочка привстала и вытянула шею, будто впервые увидела свою скрипку.
– Чуваки, живая скрипка! – заорал Костян.
– Как в гробу лежит, мертвая, – отрезал Третий.
– А мы ее сейчас воскресим, вдохнем в нее жи-з-нь! Она нам и споет, и спляшет, – забавлялся Костян. Он скинул куртку, вскочил на сиденье, как на сцену, и, размахивая скрипкой и смычком, объявил дикторским голосом:
– Концерт по заявкам, товарищи!
– Ты что? – закричала девочка. – Тронулся, что ли? Совсем ку-ку? Это же старинная немецкая скрипка… ей почти сто лет, отдай, урод!
И она бросилась на Костяна, пытаясь вырвать инструмент. Ребята тут же вскочили и посадили девочку.
– Сиди и не обзывайся, а то больно будет, – успокоил Второй.
– Пусть отдаст скрипку, пусть вернет, нельзя так с инструментом, – кричала девочка.
Немногочисленные пассажиры стали оглядываться.
– Чего к девчонке пристали?
– Совсем расхулиганились, молодежь?
– Да мы не обидим, просто поиграем, – обнадежил Костян. И, обратившись к ней, спросил:
– Конфетки уважаешь? Небось, шоколадные мамка покупала? Помнишь «А ну-ка отними»? На фантике девочка с цуциком на задних лапах. Прикинь, ты очень похожа. Не на девочку – на цуцика… сейчас будешь прыгать… А ну-ка, отними!
Он отбежал вместе со скрипкой к дверям вагона, где не было никого. Дружки не отстали, и девочка тоже бросилась за ними, стараясь дотянуться до скрипки.
– А ну-ка, отними! Оп-ля! – дразнил Костян, бросая скрипку Второму, а Второй поймал ее и без слов перебросил Третьему. Начался баскетбол.
– Пас, еще разок! – кричал Костян, перебегая и, вытянув руки, как для мяча. – Бросок! Сильней!!! – И он выскочил со скрипкой в тамбур.
Девочка металась между ними на маленьком пятачке тамбура, подпрыгивала, пытаясь в воздухе перехватить инструмент. Она была неспортивной и совсем невысокого роста, хотя и на каблуках, но всем им до плеча. Ребята ее пихали, заталкивали обратно в вагон, захлопывая стеклянные двери тамбура, и уже оттуда корчили рожи, высовывали языки, дразнили скрипкой. Она теряла равновесие, несколько раз ушибалась, потом даже упала, но, поднявшись, снова бросалась в тамбур, где Костян пристроился играть, грубо используя скрипку как балалайку:
– Тренди-бренди, балалайка, балалаечка моя…
– Отдай, урод! – она почти повисла на нем.
– За «урода», паскуда, ответишь по полной. Как совершеннолетняя!
Костян размахивал скрипкой над головой. Держа за гриф, он закручивал ее, как пропеллер, все быстрей и быстрей, и вдруг со всего размаху запустил скрипку в вагон. Деревянной птицей она шарахнулась вдоль прохода между рядами. Где-то в середине вагона ударилась о жесткую спинку сиденья и упала замертво. Тут же на цыпочках подбежал Третий и стал правой ногой – щечкой справа – футболить ее к дверям.
Костян рванул девочку за волосы, развернул к себе спиной, и потащил к двери, открывшей перед ней тесное, ежеминутно готовое уйти из-под ног межвагонное пространство, глухое ко всему, что не было скрежещущим шумом, железным грохотом или тормозным ударом. Он поддал ей ногой в зад, и она осела на дергающийся узкий мостик сцепления. Костян толкнул дверь в соседний вагон, – заперта. Он высунул голову в тамбур и, длинно сплевывая, процедил:
– У нас любовь… по согласию. А вы на атасе!
Одной рукой он схватил девочку в охапку, поднял с пола, сильно встряхнул и прижал к запертой двери, а сам тяжело налег сверху, всей мстительной массой распалившегося злого тела.
– Урод, говоришь? Урод?
И крик электрички, так похожий на женский крик, располосовал ее горло.
Скрипка потеряла голос. Насквозь треснула верхняя дека.
Боль была одна на двоих. Девочка знала это всем своим беззвучным существом.
Футляр – на обратном пути – вдруг стал легче легкого. Наступила пустота, непрерывно диктовавшая черную паузу – фигуру умолчания.
Она не помнила, какие кругаля выписывал троллейбус по Садовому кольцу, не помнила, что профессор предложил ей заниматься с ним хотя бы полгода. Надо бы исправить левую руку: играть только гаммы, упражнения, этюды и два раза в неделю ездить на занятия в Москву.
– У вас есть нерв, девочка! Ваша игровая манера меня захватила, это немало.
Когда через несколько дней она открыла футляр, – скрипки там не было, как и в ней самой не было музыки.
После смерти Юры, такой внезапной – всего несколько задохнувшихся мгновений, – появился страх темных окон. Подъезжая к дому, по многолетней привычке Тася поднимала глаза на уровень пятого этажа и безошибочно натыкалась на черные глазницы своей квартиры. В темень не хотелось. Там все было в беспросветно прошедшем времени. Она совсем разучилась засыпать. Закрывая глаза, как бы впускала в себя эту мертвецкую темень, агрессивно обживавшую ее жалкое полужизненное пространство. Схватка начиналась глубокой ночью, когда железно включался бесшумный мотор бессонницы, и оставалось только выть, вопить и пить.
Юры не было нигде.
Ушёл,
как последний мартовский снег:
на земле – проталины,
на солнце – свежие пятна.
Живой воды принявший разбег,
ударясь в бега, не свернул обратно.
Какими вратами,
в какое царство,
ушёл без запинки.
Кончен завод.
Успел мне в мензурку налить лекарство.
Полночь. Куранты.
А сердце не бьёт.
Но как обнадежил теплом и весной!
И стал мне понятен твой лиственный почерк,
взрывной, многожильный, в потугах почек,
и я – крайней веткою в зелени строчек,
ближайшей,
и ты не простился со мной.
Врач из клиники неврозов посоветовал адаптироваться к ситуации, выписал антидепрессанты и снотворные. И еще сказал:
– Когда начнете спать, попробуйте записывать сны. Не все, конечно. И безо всякой ерундистики. Когда проснетесь, постарайтесь без жалости к себе – это важно – сфокусировать внимание и мысленно пройтись по ночному маршруту вашего подсознания: с начала и до конца. Заставьте себя вернуться в иную реальность: что видели, где и как это было, какие эмоции преобладали… не упускайте деталей, не сбивайтесь на действительность и ничего не додумывайте, не сочиняйте… И то, что будет поддаваться осознанию и вербальной фиксации, записывайте. Через какое-то время из этого разноцветного калейдоскопа сложится более или менее связный узор или сюжет, и вам, будем надеяться, полегчает.
Она купила в киоске на Шаболовке общую тетрадь и вывела красным фломастером: