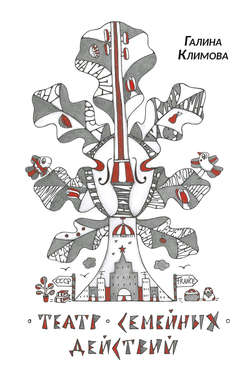Читать книгу Театр семейных действий (сборник) - Галина Климова - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Юрская глина
Путеводитель по семейному альбому в снах, стихах и прозе
Избранные сны
ОглавлениеУже несколько лет мы встречаемся.
Не часто. И только во сне.
Но это не менее захватывающе, чем предыдущая жизнь, просто она проросла в иной реальности. Например, как если бы почву заменить гидропоникой. Все продолжает расти, дает свои питательные урожаи.
Не разминувшись здесь и встретившись там, с лету узнаем друг друга. Легко!
Смерти нет.
Времени нет.
Нет социума.
Вот, например. Мы болтаем или вместе едем куда-то по делам, ссоримся, танцуем, и я его ревную.
Два года назад зимой он сильно отличился: громко топал ножищами, пробивая хлипкое дно предутреннего тонкого сна, грозил пальцем и даже чуть не смазал мне по физии, учуяв, что я навострилась выйти замуж за любителя полетать на параплане, бывшего полковника контрразведки, вылитого Никитона, то бишь Никиту Михалкова. Так и вижу этот угрожающий палец, это категорическое покачивание головой, вытаращенные, налившиеся кровью глаза: не смей! не позволю!
Зато сам не заставил себя долго ждать и вскоре заявился в новой голубой рубашке, молодой, загорелый, с неотразимой улыбкой.
– Какая у тебя красивая рубашка, Юрочка!
Он совершенно расплылся:
– А ты что думаешь, мне здесь некому рубашку купить?
И я проснулась от света его счастья.
Любочка Лузина – последняя любовь Юры.
Медовая калорийка с изюмом, философиня в первом поколении, успешная бизнес-леди, общественница, мать двоих взрослеющих дочерей, замужем. Неоспоримое преимущество – моложе Юры почти на двадцать лет. Что еще нужно для счастья?!
Квартиру беспардонно начали заселять всяческие безделушки, обезоруживая своей многочисленностью и безошибочной безвкусицей. Любочка чаще всего дарила разнообразные по размерам и материалам – серебряные, глиняные, фарфоровые, хрустальные – колокольчики: они обживали книжные полки, письменный стол, телевизор, сервант, а самые нежные – пробрались на кухню. Но права голоса они не имели.
Всех их перешиб курносый персидский котенок, очень похожий на рыженькую Любочку и цветом, и какой-то общей пушистостью облика. Наверняка Любочка ощущала эту визуальную и тактильную общность и хотела, чтобы Юра носил котенка на руках, играл с ним и тискал эту мурлыкавшую зверюшку, когда они по каким-то причинам не могли бывать вместе.
– Или я, или котенок?! – не смирялась Тася.
– Конечно, котенок.
Юра волновался и порхал в поисках достойных ответных подарков, дотошно советуясь с женой. В удушающих сомнениях выбирал новый галстук, со вкусом поливался парфюмом перед встречами, следил за кожей рук и состоянием ногтей и довольно скоро обновил недельный комплект трусов, вполне еще приличных.
Ошибиться в диагнозе было невозможно даже народному целителю – клиническая картина тянула на классику. Азартная игра в «третий лишний» затянулась на несколько лет: острый период болезненного отчуждения, потом изнурительной холодной войны с прицелом на капитуляцию, потом вялотекущего сожительства в одной квартире с общим холодильником, но в разных комнатах.
Организационные активы Юры, его связи и мозги деятельно сошлись с Любочкиными амбициями и деньгами.
Их совместная жизнь, очевидно, была на взлете: заграничные вояжи, экологические акции и симпозиумы, научные публикации. А у Таси: вегетативно-сосудистая дистония с паническими атаками, книга стихов, две работы, имитирующие материальную состоятельность, самостоятельность и почву под ногами.
– Разводиться не буду, – бушевал Юра, впадая в гипертонию. – В четвертый раз жениться даже мне стыдоба… срамота в моем-то возрасте, когда я дважды дед, и уже прадед. Все едино, и вы все… одним миром мазаны. – Он хватался за голову обеими руками, запускал пальцы в волосы и тер виски, потом приглаживал вставшие дыбом вихры и успокаивался.
– Как я тебя брошу? Кто я без тебя? Ты тридцать лет меня терпела, тридцать лет, не фунт изюма, но если уж тебе совсем невмоготу, совсем уже во-о, – он полоснул по шее указательным пальцем, – уходи сама, иди куда хочешь.
Хотеть было страшно. Идти некуда. И они не развелись.
Вскоре, как права на наследство, открылись подробности.
Очень озабоченный и уже от одного этого постаревший и погрузневший, Юра по-родственному попросил:
– Слушай, у меня здесь теперь новая жена, очень хорошая интеллигентная женщина, я обязательно вас познакомлю. Я ей много о тебе рассказывал, и она даже заревновала к тебе. Она научный работник, докторскую пишет. Это нелегко, по себе знаю. И ты мне тогда помогла, редактировала мой бред, даже печатную машинку пришлось купить из-под полы на Пушкинской, немецкую «Эрику». Теперь мой черед отдавать долги, и я чем-то должен помочь своей жене, ну хотя бы еду готовить. А я, кроме яичницы, не мастак в этом деле, и здесь пока не научился – совсем нет времени. Помнишь, как однажды щи варил, когда ты лежала в больнице? Кочан капусты в кастрюлю не помещался, а другой кастрюли я не нашел. Ясенька голодный, бульона не хватает, картошка непроваренная. Выручи, распиши на неделю меню с рецептами, попроще да поподробней.
На чистом листе А4 старательно от руки вывожу: «Понедельник. Завтрак…» Прямо как в санатории, где восстанавливался даже почерк.
Никакая химчистка будней не брала этот сон. Он упрямо стоял в глазах. Вот дружок-то, вот помощничек примерный! Раньше не очень-то готовил, а с новой женой – и сам как новенький.
Оставалось лишь удивляться реальным завязкам будущих метасюжетов. Утешала или будоражила любая весточка.
Вдруг звонок: «Любовь Игнатьевна умерла. Почти год назад».
Впервые Тася позвонила ей, чтобы сказать, где и когда будут похороны Юры. Потом уже звонила его предыдущим женам: первой – однокурснице Зое, с которой Юра прожил 14 лет и родил сына Мишу, и второй – Ане, бездетной художнице, старше его на 12 лет. Обе прийти отказались: Зоя была в санатории, Аня доживала свой век безвыходно. И только Любочка смущенно благодарила и верещала:
– Конечно, я не прийти не смогла бы, точно, не смогла бы, но и прийти без звонка не решалась. Я так благодарна, так благодарна, прямо камень с души сняли. Такой человек ушел! Человечище, личность, махина! Конечно, буду. И в церкви, и на кладбище. Может, помочь чем?
В самый разгар московского лета они приснились уже вдвоем – муж и жена, но уловимо запомнился только он.
Возбужденный, моложавый, почему-то в белой песцовой шубе, в темных пляжных очках и с чемоданом почти в человеческий рост, он весь сиял в наэлектризованном ореоле меха, суетился и жутко смущался.
– Чего ты хочешь? – не выдержала я.
И совсем неожиданно услышала сама от себя:
– Наверное, у тебя родился ребенок? Опять мальчик? И ты хочешь, чтобы я его усыновила?
Он радостно закивал, расцвел своей неотразимой улыбкой и абсолютно счастливый, каким можно быть только во сне, закружился со мной в обнимку.
– Хорошо, усыновлю, – не могла уже остановиться и я, опьяненная предстоящими материнскими хлопотами.
Блаженный и обнадеженный, он безоблачно растаял.
Московская жара нестерпима.
Может, Любочка Лузина и вправду защитила докторскую на небесах, пока Юра жарил оладьи из кабачков?
А ведь совсем неплохо: доктор небесных наук.
В последний раз мы виделись с Любочкой, кажется, на вернисаже. Я ее не сразу узнала: она – не она? Похудела, постраннела, линялые волосы, тусклый голос. Я во всех ракурсах цепляла ее глазами, пока она не подошла сама:
– Да я это, я! Что, так уж изменилась? – И сразу вопрос в лоб: – Стихи пишутся?
– Пишутся, пишутся… вот, например:
Когда я не была твоей женой,
твоей гражданской маленькой войной…
Или:
Я – юрская глина,
я – мужья жена,
огнеупорна, обожжена…
– Надо же, – подосадовала Любочка, – у вас вообще-то муж умер, визуально от вас уже не больше половины осталось, а вы рифмочками пробавляетесь, про себя пишете, какую-то юрскую глину выдумали. А если б вашего мужа звали не Юрием, например, тогда бы о чем писали?
– Афродита вышла из пены морской, Ева – из ребра Адама, а я, наверное, из юрской глины, которая почти везде: это и вязкая грязь под ногами, и полное жизни дно древнего моря, и подручный материал для ваятеля. Всё – книга жизни: о нас и обо мне времен моего юрского периода.
– Вы бы лучше про супруга конкретно – Царствие ему небесное! – написали что-нибудь обстоятельное, масштабное, если уж ваша натура так заточена на креатив. Я, например, сама частенько вспоминаю, как мы плодотворно работали, сколько актуального, сколько полезного сделали! Мне его не хватает, с ним было очень комфортно. Очень скучаю, моментами даже тоскую. Позитивная личность, одна биография чего стоит!
– Да, он любил повторять: одной моей жизни на семь других хватит. Я готов умереть в любую минуту, нечего мелочиться.
– Мемуары писать собирался.
– Да я как только услышала про эти мемуары, прямо вздрогнула: вот и старость, вот и смерть не за горами. Успеет ли? Ведь жил так, будто перед ним даже не Русская равнина, а сама вечность простиралась до непостижимого горизонта.
Любочка ревниво ловила слова, шумно сглатывала и моргала часто-часто, как будто ей мешала вытравленная чёлка., длинно нависавшая сбоку.
Я чуть было не разревелась: ведь и она любила., и она тосковала, и ей так же темно и пусто без него, как и мне. Мы молчали в одной тональности, уже не соперницы, не врагини, а почти сестры, осиротевшие, несчастные сестры.
Сколько раз Тасина рука тянулась к телефону, чтобы наговориться о муже или запросто встретиться с Любочкой, распить бутылочку и – опять наговориться о нем. Любочка могла рассказать то, чего Тася не знала или не поняла в Юре, могла подтвердить до мелочей знакомый образ, ни днем ни ночью не выпускавший Тасю из своего магнитного поля, утверждая по всем направлениям силовых линий – и даже вопреки им – крепость их связи… Не обмануло синее слово СВЯЗЬ на свадебном, якобы случайном «Москвиче».
На поминках Любочки не было.
А на кладбище она повела себя престранно. Когда церемония закончилась, и все, окоченевшие от мороза, поднялись в похоронный ПАЗик от фирмы «Титан-Ритуал», Любочка задержалась, что-то достала из сумки и вроде бы стала закапывать, разгребая голыми руками песчаный могильный холм. Может, заигралась в «секретики»? А может, горсть земли захотела взять?
– Нет, нет, – горячо твердила глазастая подруга Лида, – она что-то спрятала, что-то зарыла в снегу под венками, по весне всё откроется.
Когда растаял снег, издалека уже были видны обугленный деревянный крест, металлические скелеты спекшихся венков и дочерна обгоревшая, но живая старая береза. Говорили, что на кладбище собираются сатанисты, жгут кресты, крушат памятники. Кем надо быть, чтобы так ненавидеть не только людей, но даже память о них?
– Простите, сударыня, – прорезалась однажды Любочка, – вам не стишки, вам мемуары за мужа писать давно бы надо.
– Ну вы и хватили, мадам. Как это «за него»? Конечно, мы прожили вместе тридцать лет, ноу когда он умер, я вдруг ощутила, что знаю его лишь на уровне событий, хотя ион – душа нараспашку, и я – открытый человек. Был живу казалось, все известно вдоль и поперек: чем дышит, что на уме, на сердце. Все чуяла. Срослись!
А потом – удивительная аберрация! Даже фотографии изменились, какой-то очевидный сдвиг, смещение, и он – уже другой: значительный., чистый, милостивый. Наверное, продолжение того – знакомого, родного – от шрама на плече до мохнатых мочек ушей. Так и со стихами складывается, как с людьми. Например, с поэтом Николаем Панченко. После похорон столько вдруг открылось: что было понятным – стало пророческим, обычное – чудесным, темное – мистическим. Или вот Таня Бек жила и писала о любви и смерти. А стоило ей умереть, и читанные-перечитанные ее стихи стали другими. Или, может, это мы – другие?
И для себя, и для тех, кто ушел.
Юра на очередном субботнике посадил клен перед нашим подъездом. Клен американский, рослый., неприхотливый. Юра умер, и клен не пережил зимы. И морозы-то особенно не лютовали, и никто вреда не нанес. Не выжил без любви., засох от тоски. Всё какие-то знаки, намеки, необъяснимые сближения, совпадения. Правда, почему-то растительной природы. Например, лет двадцать красовалось у нас на подоконнике семейное, или денежкино, дерево. Я всегда забывала его поливать. И вдруг, когда я уже овдовела, оно впервые расцвело и подгадало точно к моему дню рождения. А в декабре просто так не расцветешь!.. Два белых цветочка, малюсенькие., сморщенные, жалкие. Вот тебе твои денежки и твоя семья. Радуйся, жено!
После смерти близкого человека многое проявляется совсем в ином масштабе – в масштабе личности. И не каждый способен вместить и эту личность, и этот масштаб без искажений. А Любочка говорит: сядьте да напишите. Разве это легко? И возможно ли?
Тася приказала себе уснуть, чтобы непременно повидать Любочку и кое-что растолковать ей, ученой женщине, философу:
– Я что, в Анголе была, когда в джунглях то тлела, то бушевала гражданская война? Или учила французский по прописям в марсельской тюрьме, когда за тысячи километров, в Ташкенте, в те же революционные дни мая 1968-го Зою Терентьевну, его мать, разбил инсульт, от которого она не оправилась?
Марсельская тюрьма оказалась ошибкой, не был Лесное «агентом Москвы». Тогда во Франции от страха всех «советик» хватали и сажали, на всякий случай. А он в Марселе случайно сфотографировал грабеж магазина… Его приняли за соучастника. Он – бежать, ну и так далее. Голодовка, консул. Французы извинились и в порядке компенсации за моральный ущерб подарили поездку – на полицейском катере – на остров Иф, в замок графа Монте Кристо.
А про то, что Лесное был очевидцем крушения Берлинской стены, вообще не написать. Все уже отснято и известно по документальным кадрам, по бессчетным воспоминаниям. Даже юбилейная художественная выставка в Берлине уже прошла. Помню что-то о бывшем секретаре ЦК Компартии ГДР, который уже тогда работал шофером. Вот он-то и привез Юру в нужное время к нужному месту. У нас дома хранится кусочек берлинского бетона. Насмотревшись всего этого, он понял: очень скоро и у нас рванет. И рванет пострашней Чернобыля! Налицо революционная ситуация: верхи не могут, низы не хотят. Во всех учебниках истории была эта фраза. Может, коммунистов на фонарях еще будут вешать.
Намного раньше были Конго и вся французская Африка, Йемен и даже Кампучия – сразу же после свержения режима Полнота.
– Он кое-что мне рассказывал о Кубе, о встречах с Фиделем. Мы, к счастью, успели слетать в Париж, там, сами знаете, Тур Эффель, Мулен Руж и все такое прочее, хотя деловые поездки – это совсем другое, и прошу вас не передергивать, дорогуша! Не разменивайтесь на разговоры. Все заболтаете. Вон какой запал пропадает! Нет, здесь нужны конструктивный подход и креатив, да, да. А ещё – выверенная хронология, архивные данные, фотоматериалы. От вас ждут позитивных мемуаров, а то потомки, и, в первую очередь, сын, Ярослав ваш дражайший, не простят, со свету сживут, не сомневайтесь, съедят с потрохами. И кроме вас, голуба моя, некому. Вы – крайняя. Вы – жена, пусть и третья, но должны хотя бы для потомков постараться, а в широком смысле – для вечности, – пафосно завершила Любочка. – Начните без художеств, без литературщины, по-простому, как в анкете: где и когда родился, в какой семье…
Вспомнив, видимо, о чем-то неотложном, она исчезла.
Надвигалась пора защиты докторской.
А Тасе пора засесть за мемуары.
– Без литературщины… с анкетой она, конечно, хватанула, – Тася скривилась. – А если сочинить персоналию типа энциклопедической, например:
ЛЕСНОВ Юрий Михайлович (03.09.1929, Фрунзе, ныне – Бишкек, – 19.03.2003, Москва), рос. историк, специалист по международным отношениям, политолог, общественный деятель, проф. (с 1982)…
Тася откинулась в кресле, покрутила затекшей шеей:
– Нет, не то, голая схема.
Тасины родители познакомились в ночном московском трамвае, в грохочущей «Аннушке». Сильно поддавший Даня с виртуозностью обезьяны удерживаясь за поручень и нависая обмякшим телом над зеленоглазой стрекозой в берете, вдруг запел: Я ма-а-а-ленькая балерина…
Именно в тот вечер Аня возвращалась с концерта Вертинского, где сам артист обратил на нее внимание, разглядел среди многих кареглазых, сероглазых, голубоглазых и даже пел, казалось, для нее одной. Стало жарко и почему-то стыдно. Захотелось свежего воздуха, сквозняка. Пешком она прошла пару остановок, чтобы вернуть себе нормальное сердцебиение, при котором вроде ничего не происходит, кроме самой жизни.
Было сыро и темно. Ветер продувал насквозь ее видавшее виды пальтишко. Она впрыгнула в трамвай. А там какой-то гражданин, сильно навеселе, и поет – Вертинского. Даня беспардонно навязался в провожатые, хотя трудно было определить, кто кого вел.
Много позже отец внушал: никогда не знакомься в транспорте! Это легкомысленно, банально и, в конце концов, неприлично.
Тем не менее Тася с Юрой познакомились тоже крайне легкомысленно: на танцах в пансионате Левково под Пушкином, когда они отплясывали под маленький оркестрик, и Юра не отпускал ее, крепко держал в танго, кружил в вальсе, раскручивал в твисте и – нахал! – переплясал-таки в чарльстоне. Они заплясались, а потом уже и разговорились, да так, что на следующий день его подружка, подловив Тасю в столовой, приказала:
– А ну, давай, мотай отсюдова! В Москву, nach Hausе, немедленно, а то не поздоровится!
Красная, потная, она угрожающе надвигалась и сопела.
– И не подумаю, – огрызнулась Тася.
– Дуй по-быстрому, говорю, а то плохо будет! Через полчаса придет такси, уедем вместе.
– Катись колбаской, а я уж завтра, и на автобусе. Сильно-то не ревнуй, – постаралась ее утешить Тася, – тебе он, может, и дорог, а для меня – это даже не эпизод в жизни.
Вечером они с Юрой долго бродили по дорожкам Левкова, говорили о джазе, о французских шансонье и почему-то о системе изучения иностранных языков по системе Лозанова. И она спрашивала себя: что это? что происходит? И сама себе отвечала: успокойся, это даже не эпизод в жизни.
Чистая правда, это была – сама жизнь, чей точильный камень будет много лет терпеливо и безошибочно стесывать неровности, шероховатости, болезненно острые углы и сколы, подгоняя мужа под жену, а жену под мужа, чтобы там, где у одного выпуклость, у другого – ровно такая же впадинка, чтобы совпасть, хотя бы в конце жизни, слиться, срастись в один неразделимый профиль. Как на знаменитой камее Гонзага.
Несколько лет назад я подарила на день рожденья Ярославу книгу стихов «Мама – сыну», написанных ему за несколько лет. Книга иллюстрирована семейными фотографиями, его детскими рисунками, школьными сочинениями, записочками и письмами типа: Здрастуй, дарагой Ворабей! Как дела?
Это была первая попытка, первая свободная версия семейной хроники. Может, сохранится? Что вообще остается после нас?
Воспоминания, вещи? Семейные альбомы, письма, диссертации, книги? Сервизы, драгоценности, антиквариат? А может, все это затмит солнце вожделенной недвижимости как самая конкретная и реальная для прагматичных потомков вещь? Все вещественное хорошо знает себе цену, находясь в подвижной системе купи-продай. Это соблазнительно.
Все невещественное – бесценно. Ни купить, ни продать, ни обложить налогами. В каких единицах – времени, любви, вины или печали – можно выразить эту бесценность?
В нашей семье, довольно благополучной по советским меркам, архивов не заводили, над рукописями не тряслись. Но кое-что уцелело: письма, документы, удостоверения и пропуска, по которым легко считывается профессиональная карьера, – дипломы докторов наук, профессоров, бесчисленные грамоты и благодарности от профкома, парткома и проч. В ворохе старинных и просто старых фотографий видишь лица, которые не опознать, и некого уже расспросить: кто этот мужик в белых валенках с галошами, до полусмерти придавивший казенный стул, за спинкой которого стоит убитая жизнью женщина, видимо, жена… И выбросить фото рука не поднимается.
После книги «Мама – сыну» захотелось продолжения, захотелось семейного романа, хроники, альбома, ставших в последние годы востребованными жанрами. Это симптом. Дефицит семейных отношений требует срочной компенсации – еще со времен античных трагедий. Всем хочется семейного романа. Каков он сегодня? Роман для семейного чтения или роман о семье?
Уже более ста лет не читают вечерами вслух всей семьей и не садятся перед экраном телевизора, как это было в 50-е годы, посмотреть спектакль «Любовь Яровая» или американскую версию «Войны и мира». На смену реальным семейным отношениям пришли латиноамериканские мыльные оперы и отечественные долгоиграющие телесериалы. Их многажды переживают и проживают, и обсуждают с большей страстью, чем собственные драмы и трагедии. Люди любят жить чужой жизнью. Многих она захватывает больше, чем своя. Жаль!
При социализме семейный роман крутили с партией или с государством. Социализация (она же – реализация) советских женщин планировалась по мужскому типу: высшее образование, работа, карьера. Два-три поколения советских людей почти не задумывались: что такое хорошая жена и мать, занимающаяся (не по телефону) воспитанием детей? Это было вроде бы не так важно и совсем не престижно. И обществом не поощрялось. Поощрялось перевыполнять производственный план, быть партийкой, активисткой, общественницей, а уж потом – семья. Но когда сломленные и спившиеся сторублевые мужья, искатели счастья на стороне, из защитников и героев стали безликими персонажами второго плана, то в герои семейной эпопеи вышли женщины, взвалившие на себя тяжести работы и быта.
И еще. Некоторые семьи сохраняли дети. Но как зачастую это было непосильно для детей!
Я видела сны:
там – сын мой
весёлый, как мячик
пинг-понговый дачный,
взлетал, не роняя лица,
с кручёной подачи
в Париже учёного мачо,
весёлого, шебутного, ещё молодого отца;
там я на коленках
средь строфики сбивчивых грядок,
или на кухне,
или в лесу на велосипеде,
супруга в подпруге —
таков и почин, и порядок,
как дефиниция из советских энциклопедий;
там – папа
душит в объятьях трофейный аккордеон,
отборной цензурой настраивая баритон
с прононсом одесским:
черти, рожна вам хаять режим!
А сам как рванёт во всю мощь:
Здесь под небом чужим…
И я подголоском: О, караван!
Кто из нас гость нежеланный в такой-то стране?
Я видела сны:
там – небо из рваных ран,
там – сын мой.
Я знаю,
когда он впервые
всплакнёт обо мне.
Дом моего детства, место счастья, – маленькая банька, с первого взгляда – вылитая украинская хата: низенькая, беленая, об одном близоруком окошке. А в саду – зима. И никуда не уходит, не проходит, как затянувшаяся болезнь. Пока я болела, научилась рисовать портреты (в три четверти) горбоносой Консуэло и балерин в шопеновских пачках, не подозревая о Дега и Зинаиде Серебряковой. Но, главное, я взрослела, впервые обнаружив личное пространство, где на свободе жил мой внутренний человек. С подружками стало скучновато. И неожиданно, прямо под боком я разглядела чудо. На стене, где тахта – самодельный пружинный матрас на деревянных чурбачках – висел ковер: лохматый, дремучий, с хороводом крупных алых роз, разметавшихся упитанными листьями по черноземному полю. На левом боку лежать было никак нельзя: сердце играло в табун взбесившихся лошадей.
Но эти розы были мне нужней и полезней лекарств. Я поворачивалась к стене лицом, водила пальцами по лепесткам, расправляла листья, гладила – против шерсти – теплое поле, трогала стебли, и они кололись, как живые.
Вот с кем хотелось дружить. Вот кого полюбила.
Нигде ничего похожего я потом не видела.
Почему тогда же не спросила, откуда он, этот ковер? Почему я так нелюбопытна? Может, это подарок? Или богатый трофей с Русско-турецкой войны?
После многочисленных переездов ковер пропал. И вдруг в Софии, в доме-музее поэта Ивана Вазова, я увидела свой детский ковер. И розы эти – снова мои подруги, сочинительницы стихов. Но теперь у них болгарские имена: Калина, Елка, Росица, Драга… Встретились через сорок лет, чтоб узнать друг друга.
Это был губер.
О старом ковре
не вспоминала с тех пор ни разу,
он как бы умер.
Но через сто лет
в Софии, в доме, где жил Вазов,
меня пригвоздило буквально
то ли слово, то ли имя губер.
Здесь на постели у Сыбы, в спальне,
в ритме строго орнаментальном —
цветник доморощенный… Но откуда
средь жалости пчелиного сброда
и грубо разношерстного люда
рослые розы в траве,
как на старом ковре?
Ручная работа, XIX век.
Это типичный болгарский губер.
В Родопах почти у всех.
Не одичал, не вымерз, не умер,
пока в Москве шел за снегом снег.
Будто в хитонах, все, как одна,
в бутонах кустарных гуляют по кругу
дикая роза – чья-то жена,
роза-сестрица и роза-подруга.
В воздухе носятся имена:
Калина, Калинка —
моя половинка,
Росица,
чьи мочки нежней лепестка,
дражайшая Драга —
взрывная, как брага,
и Елка – в белом стихе легка.
Мне тринадцать без малого лет.
Я в рифмы прятала первый букет,
как рукопись – под матрасом – тайную.
А мама молила из темноты:
упаси болезную от нищеты,
на черный день, на пропитание
научи ее, Боже, делать цветы…
Давно отболела эта пора,
другое детство озолотил
жалостный улей.
Здесь, в доме Вазова, на обеденном стуле
траурный бант, или роза скорби,
на весь белый свет: urbi et orbi.
А за окнами – будней высокая проза,
рослой Витоши снежная роза.
Каких только садов не бывает!
А о них всё пишут, всё вспоминают, как я сейчас о саде поэтов, которого нет, и безвозвратно время его, – тот благоуханный летний вечер, задетый шершавой нежностью поспевающих персиков. На виду у южных звезд, впервые сойдясь, поэты звучали, как одно закольцованное стихотворение, хотя читали каждый свое: по-болгарски и по-русски.
Такие непохожие стихи, такие разные поэты: добрый и чувствительный Атанас, интеллектуалка Ирина, гордый Сашо, выверенная – как евангельская цитата – Юлия, философичный Владимир и твердо стоящий на земле Иван, мистическая цыганистая Мария, раненая любовью Елена и я – с краю… И еще цикады. Они настраивали струны, подкручивали колки натянутых нервов и, жарко наяривая смычками, бросали во тьму чистые зерна звуков. Цикадам подыгрывала гитара, переходящая от Иры к Виктору и обратно. Некогда было перевести дух.
Тайная вечеря. Вечное ученичество. Учитель известен.
И нет среди них предателя.
Они – одаренные радостью слышать и понимать друг друга в этот вечер – созвучны.
Подали пышный белый хлеб, только что испеченный матерью Атанаса, сухое красное вино и жирную овечью брынзу.
Что-то вечное таилось в этом застолье. Может, библейский мотив самого сада, которого больше нет, как нет уже Атанаса, нашего щедрого хозяина.
Но они были там, еще не входя. И остались там, уже уйдя оттуда.
Середина 1990-х. Конец века. Время подведения часов и итогов.
Меня пригласили в одно столичное издательство.
– Надо составить солидный сборник стихов о Москве – скоро юбилей города. Возьметесь?
Заманчиво и страшновато.
Голая ветвь замысла, быстро набирая в росте, зашумела зелеными – наперекор зиме – листьями: женская поэзия! Это будет поэтическая антология женской поэзии, куда войдут поэты, поэтки и поэтессы, даже если они дальше третьего ряда, откуда-то с литературной «Камчатки».
Моя жизненная ось заметно качнулась в сторону женской поэзии. Дни наполнились стихами, как в литинститутские годы. Наступило веселое время открытий, восхищений и восторгов. Эти «литературные университеты» куда питательней литинститутских штудий.
Меня мало знали в литературных кругах. Как серая кошка в сумерках, я была неразличима. Жила вне литературной среды, изредка общаясь с бывшими однокашниками. Дружбы ни с кем не получилось, хотя со многими приятельствовала. Многим было удобно заскочить, мимо пролетая, ко мне на улицу Горького: погреться, поболтать, попить чайку-кофейку, настучать на машинке новые стихи. После первого семинарского побоища, когда на слуху были метаметафористы, когда с придыханием произносили имена Жданова, Еременко и Парщикова, меня уличили в прямом наследовании некрасовской традиции, что в Литинституте было равносильно смертному приговору, Некрасов тогда был не в чести.
С такими разве дружат?
Да и маргинальности во мне не было: ни сторожем, ни дворником никогда не работала.
– Мы с тобой – девочки из благополучной семьи, – объяснила Таня Бек, – таких не любят.
Выйдя после семинарского обсуждения на Тверской бульвар, я не сразу сообразила, в какой стороне мой дом.
– Тебе не стихи писать, тебе бы… замуж да борщи варить, – бросил вслед признанный литинститутский лирик, писавший об облаке, и яблоке, и Блоке.
И я – давно жена и мама восьмилетнего сына – почти год ничего не писала. Только через пять лет издала первую книгу стихов.
И вот теперь – составить антологию.
Вот он, случай!
С усердием рабочей пчелы я летала по Москве. Объясняла: кто я и что делаю, просила разрешения на безгонорарную публикацию, предлагала вариант подборки. Казалось очевидным, что подборки должны разниться по объему, – и ни к чему «всем сестрам по серьгам». Здесь другая справедливость. А мои авторицы вдруг стали считать строки. Начались громкие сцены и припадки. Но в противоположность этому – как согревающее глубинное противотечение – появились литературные контакты, завязались приятельские отношения, заработали сарафанное радио и цыганская почта. Нашлись симпатизанты и волонтеры, подсказывавшие забытые, исчезнувшие, изъятые цензурой или не услышанные в свое время имена поэтесс, названия их сборников, номера телефонов публикаторов и правообладателей. Так я подружилась с Ириной Волобуевой, Тамарой Жирмунской, Татьяной Бек и Ольгой Чугай. Они – мои соучастники и помощники. Музы как люди: строптивые, добрые, корыстные, жертвенные.
Одна поэтесса потребовала снять ее стихи по идеологическим соображениям, не найдя принципа партийности в антологии. Она запротестовала, – ее незапятнанное имя не может находиться под одной обложкой с именами Натальи Горбаневской, Ирины Ратушинской, Алины Витухновской.
Другая номенклатурная поэтесса, стихи которой ежегодно «в красный день календаря» печатались в «Правде», наоборот – внезапно прозрев, настояла поместить в книге разоблачительное антипартийное стихотворение – ей захотелось отстраниться и очиститься… Так и умерла, не дождавшись выхода книги, но это ее стихотворение было напечатано.
А знаменитая и не самая бедная в Москве поэтка – поставила вопрос ребром:
– Вы мне – гонорар, я вам – стихи… на улицу не в чем выйти, ношу ботинки сына, а у него сорок третий размер… сестре в Киев лекарства надо послать. Цена вопроса сто долларов! Другие пусть как хотят, а мне – сто долларов, и – баста!
Сто долларов по тем временам были внушительной суммой, но книга без ее стихов была бы с пробоиной. И я заплатила.
Предводительница «московитянок» – очень своенравная и вздорная, на первый взгляд, дама, шумно волновалась за неизвестную Аллу Рязанову, умершую несколько лет назад от туберкулеза.
– Если нет места, снимайте мою подборку, а ее стихи дайте… Я ее матери обещала. Бог с ними, с моими стихами!
Разве можно было отказать?
Судьба посильней литературы.
Сразу же позвала к себе Инна Лиснянская. Они с Липкиным жили тогда на Аэропорте. Дверь открыла сама Инна Львовна, невероятно экзотично – неужели для меня? – одетая: неопределенного покроя хламида, длинная сигарета, зажатая, как пахитоска, между пальцев с очень яркими, длинными и хищными ногтями, но главное – такая же ярко-красная шляпка.
– «Хулиганка», – мелькнуло в голове. – Какая вы… – продолжила вслух.
– Люблю шляпки, хотите примерить? Из Парижа привезли. Вам пойдет, вы красотка, – куражилась Инна Львовна, – наверно, еще и стихи пишете?
В прихожую неслышно вошел Семен Израилевич.
– Сёма, познакомься, это составитель антологии женской поэзии.
– Антология, говорите? Это хорошо. Только почему женская? Что за разделение полов? Как в бане. А кто составит антологию мужской поэзии? Что-то я ничего не слышал о мужской поэзии…
Инна Львовна хрипло хохотнула и, твердо взяв меня за руку, подтолкнула:
– Ладно, сначала идемте ко мне, на мою половину. Потом с Сёмой поговорите.
Она прилегла на кровать, продолжала курить и для приличия оправдывалась в своей многолетней привычке.
– Вот стол Марии Сергеевны, вот зеркало, – подсказала Лиснянская.
– Неужели Петровых? Расскажите, какой она была.
– Какой-какой… сама собой была, это главное. Читайте стихи – и ее, и о ней Мандельштама, например, или Тарковского… А вот общая фотография участников «Метрополя», ведь мы с Семеном Израилевичем вышли тогда из Союза писателей в знак протеста. Нас здесь не печатали.
– Я знаю и пишу об этом в антологии.
Лиснянская, одобрительно кивнув, прицельно всматривалась в меня, а я вдруг одеревенела от ее разноглазия. Куда смотреть, не знаю: в тот глаз, который смотрит прямо, или в тот, который – в сторону? Пауза густо расползалась между нами, и я забыла, зачем пришла.
– Ну, покажите, что вы там выудили?
Подборка ей понравилась, и в тональности разговора проступила доверительная интонация. Стали пить чай, она очаровывала меня импровизациями, «зачитывала» километрами стихов на заданную тему:
– У меня такая особенность: могу писать о чем угодно, в любом размере, с любой рифмовкой… на спор!
Потом, как по клавиатуре, пробежались по поэтическим именам, разделяя их – «мои – не мои», «любимые – нелюбимые». Она позвонила Белле Ахмадулиной, рассказала об антологии и обо мне. Потом опять закурила, держа сигарету в манере Серебряного века. Я залюбовалась:
– Какие у вас красивые руки!
– Вознесенский сказал, очень сексуальные. Слава богу, Зои рядом не было, – рассматривая на просвет ладонь и пальцы, она рассмеялась мелким понятным лишь ей смехом. – В Баку со мной был такой случай: еще совсем молоденькая, почти девчонка, я залетела как-то к старому еврею-ювелиру в подвальчик на рынке, – посмотреть кольца. Всегда любила крупные камни в серебре. Вот это, – она подняла вверх безымянный палец с большим малахитом, – это от Беллы. А я ей прямо с руки сняла – теплый коктебельский сердолик. У нее почти все пальцы в огромных кольцах. Это уж перебор, чересчур, по-моему. Я поскромней.
Так вот, разглядываю кольца, примеряю на разные пальцы, и так поверну, и этак поиграю… а уж хочется, сил нет, но и денег тоже нет. А ювелир все новые и новые из шкатулки достает, товар свой нахваливает и заодно меня красавицей называет. Смеемся оба. И так ему понравились кольца на моих пальцах, так руки мои приглянулись, что он не выдержал:
– На, золотая моя, возьми от сердца, носи на счастье, – с азербайджанским акцентом произнесла она. – И Сёма очень любит мои руки. Я их берегу, а что еще у меня осталось?
Через несколько лет, еще при жизни Липкина, вышла в свет их общая книга стихов «Вместе», на обложке – две руки, в мужской – доверчиво расположенная женская, похожая на узкую с нервными длинными пальцами руку Лиснянской.
В последний раз я видела их обоих накануне отъезда в Переделкино, откуда Лиснянская вернулась уже одна.
Я забежала накоротке. У Инны Львовны кто-то был:
– Зайдите пока к Семену Израилевичу, поговорите минут десять-пятнадцать!
Вжавшись в низкое тесное кресло, поэт читал в полутемной комнате.
– Ага, московская муза! В форточку, что ли, залетела? Значит, правда, весна не за горами. Вот и мы завтра снимаемся с зимовья… в Переделкино, – подняв полные детской печали глаза, он вопросительно замолчал.
– Вам грустно, Семен Израилевич? Не хочется уезжать?
– Да нет, там хорошо… можно слушать птиц, можно гулять, можно встретить кого-нибудь, поговорить. Прогулка – теперь моя мера жизни. И это совсем не грустно, это – одиноко.
– Одиноко? Там?
– Везде одиноко.
– Вам одиноко? Да у вас всегда живая очередь, кого только нет: и поэты, и журналисты, и издатели… Столько людей! Не квартира, а дом открытых дверей.
– Да они все не ко мне. Они к Инночке, а она меня очень бережет и ограждает.
Шумно открылась дверь.
– Сумерничаете, секретничаете? Интересно узнать, о чем?
– Да вот я новую книгу принесла. Хочу, чтоб Семен Израилевич и вы посмотрели.
Липкин взял книгу, улыбнулся глазами.
– Хорошо издана.
– Ладно, Сёма, времени совсем нет, а дел полно. Ты тут пока почитай, а мы пойдем ко мне, хочу новые стихи показать.
И она вышла. Вслед за ней поднялась и я.
– Вот видите? И так всегда. Ну да ладно, идите, идите, – он безнадежно махнул рукой, – а то Инночка рассердится. В прошлый раз, когда телевизионщики снимали, она вдруг заревновала: меня на три минуты больше снимали, чем ее. Пришлось перезаписать.
Когда мы с Лиснянской уже прощались, в прихожую вышел Липкин. В руках моя книга.
– «Ни я, ни Адам не знали, что такое детство», – процитировал он, широко улыбаясь. – Очень хорошо. Если в книге есть хоть одна такая строчка, книга состоялась. Поздравляю!
Мы обнялись. В последний раз. Через три недели Липкин умер.
Мы обе жили в Москве, но виделись всего однажды.
Но до и после – почти два года телефонных разговоров, стихов, монологов или почтительных пауз, что столь похоже на эпистолярное общение, на дружескую исповедь, затянувшуюся в повторах и умолчаниях по причине невозможности встреч, недомоганий, сплина и боязни плохих дорог.
Наш телефонный сериал возник как побочное дитя поэтической антологии «Московская муза».
Знаменитая Кашежева! Когда-то самая молодая звезда эстрадной поэзии, комсорг Союза писателей СССР. Песни на ее стихи с утра до ночи крутили по радиостанции «Юность». Ее пластинки и книги выходили немыслимыми, по сегодняшним меркам, тиражами.
Но она не была поэтом моей группы крови.
Ее звонок – первый сигнал «обратной связи». Вскоре появились литературные приятельства и привязанности, не раз принимаемые мной за дружбу. Собирались в ЦДЛ. И сам собой возник литературный салон «Московская муза», продержавшийся десять лет.
Но первой протянула руку Инна Кашежева. Полтора часа мы говорили только об антологии.
– Вы сами-то понимаете, что натворили? Собрать под одной обложкой сто тридцать стерв (это ведь не «тридцать витязей прекрасных»), сто тридцать боевых орлиц, которые если что, – горло раздерут, глаза выклюют, сто тридцать прекрасных поэтесс – разноголосых, разнесчастных, трагических… Вспомнить, разыскать, примирить – уже подвижничество. А вы вроде бы и не заметили этого. Только наши женщины так себя ведут. Всё. Сажусь за рецензию. Мне есть что сказать. А как вам живется в женском Ноевом ковчеге?
Кашежева называла меня только по имени и отчеству. Это установилось с первого нашего разговора и до последнего. Много раз она демонстрировала заведенное ею джентльменство: взрывчатая смесь московской интеллигентности, необузданного кавказского благородства и покровительства.
– Да нет, никто не обрывает телефон. Отклики доносятся, но в тексты вникли только вы.
«Литературка» не заставила себя ждать и напечатала рецензию Инны Кашежевой «В окне «До востребования».
Не устаю повторять, как я благодарна Инне Кашежевой, как летела к телефону в 11 или в 12 ночи, зная, что только она может позвонить в это время: ведь она – знаменита, она – человек богемы, а я – трудящаяся жена, мать, научный редактор и шофер в одном лице, одним словом – трудилка. Она не понимала, как можно так рабски жить, ко времени просыпаться и идти на службу, приковывать себя добровольно к рабочему столу, выполнять план, вовремя возвращаться домой, готовить ужин и при этом писать стихи. Моя двойная двужильная жизнь была ей не близка, я ее раздражала тупым нежеланием что-то изменить. Она то подсмеивалась надо мной, то злилась и бросала трубку: «Всё, хватит. Вам уже спать пора, дорогая. Что там у вас назавтра: статьи по географии или пирожки с капустой?»
Нас соединило одиночество.
Быстро поняв, что я из неприкаянных, Кашежева взяла меня под крыло и в первую очередь категорически потребовала вынуть стихи «из стола». Начались ежевечерние обсуждения, как в учительской. Она была именно училкой – не мамочкой, не подругой, не мэтром. От меня требовалось немедленно исправить поведение, повысить успеваемость по главному предмету моей жизни – поэзии.
– Срочно, срочно издавать вторую книгу. Она у вас в столе залежалась, задыхается. Ей неба, воздуха не хватает, а вы статьи по географии редактируете. Что за равнодушие? Грешно так жить. Бросайте все, садитесь за книгу, и энциклопедия без вас не остановится, и дражайший муж с голоду не опухнет. Жду на следующей неделе первый вариант сборника.
– У меня даже приблизительного названия нет.
– А я вам подскажу. Вы ведь – сирота на морозе. Вся как есть. Так и вижу вас в мелком мандраже. Чего мудрить: Сирота на морозе. Точно и не банально. И ни у кого не было.
Я рассмеялась. Как она угадала? Стихи, стихи…
Получив гонорар за «Московскую музу», я купила длинное демисезонное пальто и издала книгу стихов. Кашежева, уже тяжело больная, радовалась за меня. Ее переломанные в аварии ноги не слушались: кости ломило, ныли тромбозные вены. Она ходила на костылях. Раз в неделю заставляла себя приезжать в газету «Достоинство», где – золотое перо – подрабатывала статьями на социальные темы. С деньгами и лекарствами было туго. А я с оказией получила посылку из Франции. Спросила разрешения привезти лекарства.
– Что вы, что вы, это очень дорого, я не смогу заплатить.
И только узнав, что это гуманитарная помощь и не надо платить ни копейки, разрешила:
– Опустите лекарства в почтовый ящик. Я не в силах открыть дверь. На пуфике доезжаю только до туалета и обратно. И к тому же я совсем без зубов. Не хочу, чтобы вы меня увидели такой: в роскошной квартире с белыми стенами, белыми шелковыми шторами, в роскошной двуспальной белой кровати – и с черной пропастью беззубого рта. Боюсь напугать, – она неожиданно и страшно хохотнула.
По моим представлениям, Кашежева была непомерно гордой и взрывной. Не уверена, умела ли она прощать? Даже Римму Казакову, с которой их связывала многолетняя дружба, стихи и литературные поездки по всему Советскому Союзу, вряд ли простила.
Однажды Римма призналась:
– Это Инка научила меня читать с эстрады, держать аудиторию, разговаривать с публикой. У меня раньше и голос пропадал, и стихи забывала. А Инка – всегда выходила как на бой или как на праздник в своем ауле, знала, когда пошутить, когда похулиганить. Выглядела просто, строго, по-европейски: черные брюки, белый свитер, короткая стрижка. Ее обожали, не отпускали со сцены, забрасывали цветами, задаривали. А какие у нее были паузы! И меня, как зверька, буквально выдрессировала, научила чувствовать зал и не бояться. Инка умела дружить. А как поддержала меня, когда травили! Одна она поддержала. Никакого начальства не боялась, никаких сплетен.
Я знала, что Римма хранила письма Инны Кашежевой. Она не раз обещала дать их в будущую книгу, когда я заговаривала о желании издать избранные стихи Кашежевой, статьи и воспоминания о ней. После смерти Риммы Казаковой письма пропали.
Виделись мы с Инной Кашежевой всего однажды. Праздничные майские дни. В Центральном доме работников искусств на Пушечной – презентация антологии «Московская муза». Ведущая вечера Тамара Жирмунская. Вокруг нее на сцене за колченогим журнальным столиком Римма Казакова, Татьяна Кузовлева, Татьяна Бек. Небольшой зал напоминал глубокий сухой колодец, и если с верхних рядов амфитеатра смотреть на сцену, то кружилась голова.
Римма, раскрасневшаяся и возбужденная, то и дело открывала пудреницу и проходилась пуховкой по блестевшему носу, по раскрасневшимся щекам. Одна за другой читали Лариса Румарчук, Елена Николаевская, Елена Исаева, Нина Краснова и другие. Когда настала очередь Риммы, она, тяжело поднявшись, запинающимся голосом обратилась к залу:
– В эти святые дни… в светлые дни нашей Победы… поймите и простите, мы все люди… И тут за кулисами мы позволили себе по бокалу шампанского, поэтому я буду читать…
С верхних рядов что-то зашумело, потом загрохотало, и с нарастающей громкостью своенравной волной катилось по деревянным ступенькам прямо к сцене.
Римма замолчала. Сощурившись и вытянув шею, она всматривалась сквозь свет софитов в сторону приближавшегося деревянного грохота:
– Что случилось? Кто там гремит? Господи, – казалось, она не верила своим глазам, – неужели Кашежева? Инка, это ты, что ли, гремишь костылями?
– Я, Риммочка, все еще я, дорогая моя! Решилась в свет выйти. Видишь, парадный фрак из сундука достала, галстук – на шею, костыли – под мышки и к вам, мои дорогие подруги, прямо в объятья к вам! Очень хотелось увидеть виновницу этого торжества. Кстати, где она? Что-то на сцене другие лица.
– Господи, как же ты добралась на костылях? – в микрофон удивлялась Римма. – Ну и вид, – сокрушалась она. – Сколько же мы не виделись, Инка? Сколько лет ты не появлялась?
– Инна, дорогая, иди на сцену, – перебила Жирмунская, – садись с нами. Вечер продолжается, – с улыбкой обратилась она к публике, которая уже почувствовала себя лишней на этом празднике женской поэзии.
– Ты, Инна, читать будешь?
– Ты же знаешь, Тамара, я уже больше десяти лет не читаю и не выхожу на сцену. Я сюда не за этим пришла. Я специально пришла, я специально вылезла из своей берлоги, чтобы при всех и от всех, дорогие коллеги, поклониться в пояс одной отчаянной женщине, московской музе, которая вспомнила о нас и собрала в одной книге, такой книги еще…не было… Почему ты здесь командуешь, Тамарка? – Она вдруг перешла на крик.
Жирмунская вызвала меня на сцену.
– А ты, Инна, не стой на ступеньках, тебе тяжело. Давай садись рядом с нами, мы тебе поможем! Или вот в первом ряду есть свободное место. Помогите ей!
– Нет, в первом ряду мне не место. Я здесь не зритель и не слушатель. А на сцену мне не подняться, я не хочу сидеть вместе с вами, змеюки вы подколодные, – снова закричала Кашежева, потрясая костылем. – Я от всех вас – отдельно. Вот тут с краешку примощусь, с вашего позволения.
И она – то ли подросток, то ли проворная старушонка – неожиданно ловко вспрыгнула и присела на самом краешке сцены, спустив ноги, бесполезно болтавшиеся, как у тряпичной куклы. Сначала она чмокала, что-то невнятно бубнила себе под нос, потом в полный голос стала беспощадно комментировать каждое выступление, бросая ядовитые реплики и раззадоривая публику.
– Такие стихи писать нельзя, – припечатывала Кашежева, – ты семь лет не писала, так и не пиши больше!
– Ну и ритм… надо же: два притопа, три прихлопа… слушать тошно.
– Твои стихи лучше гвоздем на заборе писать, а не бумагу портить, – вынесла приговор Кашежева, услышав матерком разукрашенные строчки.
– Инна, не хулигань! Тебе не удастся сорвать вечер, – строго осадила Жирмунская. – Прекрати! Прошу тебя, Инна, не мешай! Или тебя выведут отсюда, или читай сама… если сможешь, конечно!
Зал затих. Запахло литературным скандалом, возбуждавшим гораздо сильней, чем женская поэзия.
Выйдя на сцену, я чувствовала себя без вины виноватой. Надо мной – темным омутом – молчание зала, где-то на галерке – моя семья и друзья, сзади – президиум из маститых муз простреливал взглядами все мои жизненно важные органы, сбоку – на сцене, задрав стриженую голову и повернув ко мне лицо с пылающими черными глазами, сидела Инна Кашежева, очень немолодая в свои пятьдесят с небольшим. Сердце мое колотилось в горле, сбивая с дыхания, но память и голос не подвели. Я отчитала положенные по регламенту два стихотворения и хотела уйти, но окрик Кашежевой остановил:
– Не спешите, дорогая моя, послушайте меня. Все послушайте! – обратилась она к публике.
Ее низкий вязкий голос вдруг окреп и профессионально оформился, и она произнесла короткий, но яркий спич о русской женской поэзии, о нашем нераздельном поэтическом сестринстве.
– Я пришла поклониться вам в пояс, – закончила Инна Иналовна.
Схватив костыли, она шумно сползла со сцены, распрямилась в свой небольшой рост и поклонилась. Зал аплодировал стоя.
Эти аплодисменты предназначались ей, Инне Кашежевой, как когда-то в Политехническом, в Лужниках, в ЦДЛ и во многих залах, и на стадионах огромной страны, где она читала, где ее знали и любили.
Многим запомнился «женский» вечер.
Мы продолжали дружить по телефону. Общее одиночество не отпускало нас. Мы тянулись друг к другу. Она мало с кем общалась, осознанно выйдя из литературного круга. Так уходят со сцены или в монастырь. Ей стали неприятны поклонники ее поэзии, очевидцы головокружительного взлета, парения, успеха, в одночасье ставшие – ее прошлым. Она искала забвения, но и спасительную соломинку тоже искала, одновременно подставляя дружеское плечо. Мы часами говорили о литературе, о поэзии, читали новые и старые стихи. Она меня часто ругала, но в этом была такая поддержка и такая вера.
Однажды узнаю от Тамары Жирмунской, что Кашежева чуть ли не голодает. Дочь ее очень близкой и уже умершей подруги Наташи, студентка юрфака Маша, у которой никого, кроме Инны, не осталось (они жили вместе в одной квартире, а другую сдавали), уходя на весь день, оставляет только порцию пельменей: шесть штук!
– Надо спасать Инну! Ей очень плохо, и телефон молчит!
Ночью до нее дозвонилась Римма Казакова:
– Инна, давай я к тебе приеду, с Машей поговорю. Что ты от всех отгородилась, в затворницы играешь? Ведь у тебя и друзья, и поклонники, и Союз писателей, наконец. Может, тебя в больницу или в санаторий направить? Так дальше нельзя, ты погибнешь.
– Спасибо, подруга, за беспокойство, но я не нуждаюсь ни в какой помощи, тем более Союза писателей, – резко оборвала Кашежева. – У меня есть всё. Мне ни от кого ничего не надо. Зря вы себе страшилки рисуете, бабы! Всё хорошо, Риммочка. Все идет как надо. И куда надо. Ты о себе лучше побеспокойся, она выдержала паузу, – есть о чем, есть о чем, дорогая!
На следующий день Инна Иналовна перезвонила мне и нарочито веселым голосом, будто анекдот рассказывала, убеждала, что всё у нее как надо, всё хорошо, а всякие бабские домыслы смешны и нелепы. И, сменив тему, прочитала свои стихи об Анне Ахматовой.
Это было в начале весны 2000 года. А в середине мая позвонила Маша. Она и раньше звонила по просьбе Кашежевой и даже привозила ее книги.
– Несколько дней назад схоронили Инну Иналовну.
– Не может быть! Как же так, Маша? Когда? Почему ты мне не позвонила, почему не сказала?
– Инна Иналовна никого не хотела видеть. И не хотела, чтобы ее кто-то видел. Особенно те, – Маша запнулась, – кого она любила.
Она положила трубку. Так же внезапно Маша вдруг исчезла в необъятной Москве, а в той квартире на улице 26 Бакинских Комиссаров поселились другие люди. Вместе с Машей исчез архив Инны Кашежевой.
Мы с Риммой не раз собирались поехать на могилу Инны, хотели издать книгу ее избранного и даже предлагали московским издателям, но, увы… Теперь уже нет и Риммы. Может, она, наконец, встретилась с Кашежевой в иных пространствах, и они обе, заводные, раскованные, гастролируют, как в молодые звездные годы?
Ни Кашежеву, ни Казакову я не видела мертвыми.
Они обе, так много значившие для меня, живы.
Кого только не привечала Риммина кухня!
Сколькие были здесь обогреты, накормлены, водкой-чаем-кофе напоены и утешены! Скольким подарены автографы, стихи, щедрые подарки, ходатайства на издание книг, на получение квартир или путевок и даже входные билеты – в литературу.
Я тоже попала на знаменитую кухню Риммы Казаковой.
Перед этим она коротко расспросила: кто да что, да откуда? Произнесла свое многозначительное: ммм-да… И я приехала.
Кухня гудела уже остывающим застольем. На пятачке перед балконной дверью телевизионщики ставили свет, возились с микрофонами. Без продыху звонил телефон, но Римма все перекрыла:
– Щи с водкой будешь?
Это был пароль, и я знала отзыв.
Сошлись легко. И уже через полгода, когда вышла «Московская муза», я уговорила Римму лететь в Болгарию на презентацию книги.
– Читать стихи? Да кому я нужна? – ей остро хотелось слышать, что нужна. И нужна как поэт.
– Я ведь уже не секретарь. И поэты меня не любят. Даже «эстрадники» не признают за свою, наверно, требуют, мать их, – она заставила себя рассмеяться, – хотя в Болгарии у меня много друзей. Я переводила болгар. И даже любовь была, большая настоящая любовь… Но зачем возвращаться в прошлое? – с надеждой спросила Римма.
Это была «эпоха перемен», когда Римма, бедовая девчонка по имени Рэмо (Революция, Энгельс, Молодежь) на какой-то миг растерялась от нахлынувшей стихии свободы, от трагических обстоятельств, связанных с болезнью сына, и, как бы защищаясь от всего, эпатировала: «Хочется новых книг и… замуж!»
Стоял май 1998 года.
Наш поэтический женский десант – первая литературная ласточка после распада соцлагеря – был встречен в Софии с неожиданным интересом, не имеющим ничего общего с идеологией и официозом прошлого.
В Болгарии Римма Казакова звучала как крупный российский поэт из тех, кого любил народ. Разве забудешь, как из зала – не подсадные утки, не друзья или знакомые, нет, – влюбленные в поэзию наизусть по-русски читали ее стихи? Она удивлялась, боясь поверить.
Какая-то болгарская девочка напомнила Римме ее раннее стихотворение: «Моя мама читает его вслух, если плохое настроение».
Какой урок любви и верности преподала нам тогда Болгария!
В Москву мы вернулись боевыми подругами. Болгария очень сдружила с Риммой не только меня, но также Елену Исаеву и Галину Нерпину.
Римма воспрянула духом, снова стала писать, и вскоре ее избрали первым секретарем Союза писателей Москвы. Жизнь налаживалась.
Мы не раз потом бывали в Болгарии, которая стала нашим поэтическим убежищем. Вместе отдыхали на Золотых Песках, вместе выступали с рециталами и печатались в одних и тех же изданиях.
В начале весны 2008 года, едва наш самолет коснулся земли, но кудрявые холмы в иллюминаторе еще застили небо Варны, пришла sms-ка:
«Час назад мы потеряли Римму».
Мгновенно пробило током и в голове замкнулось: ровно десять лет назад, в таком же мае, цветущем маками и лавандой, была наша первая поездка, наши стихи и песни в любимой Варне, Пловдиве, Софии, и были Риммины стихи: Аз те обичам, София, аз те обичам!
Как же все закольцевалось! Не прервалось, не кончилось, нет, закольцевалось, и радугой над нами – Болгария.
Москва еще протирала спросонья глаза, когда крепкая деревенская молодка пересекла Каланчевку. В руках она тащила корзину с отвислыми боками, деревянный чемодан и пару мешков с мукой – через плечо. Вцепившись в подол цветастой юбки и спотыкаясь, за ней поспевали дочки: с узлом – старшая, лет четырех светлоглазая и светловолосая, и темненькая малая лет двух – с медным чайником. Казалось, эти неказистые пожитки нисколько не обременяли, но свободно вмещали все их прошлое из далекой суровой Сибири, не без оснований обещая убедительное продолжение здесь, в России, где жил Роман Иванович Орешкин.
К нему и ехала Феня с детьми.
В Сибири, под Петропавловском, много раз переворачивалась власть: то красная, то белая, то снова – красная. Феня не могла забыть ужас, когда в 20-м году красные взяли село, и давай бандитничать, насильничать, отнимать зерно, муку, скотину, запускать «красного петуха» по домам и амбарам, а самих крестьян, работящих, зажиточных, отстреливать как кулаков на радость местной голытьбе и пьяни. Хорошо, что Гаврила вовремя ушел к белым.
Феня в длинном темном чулане кормила годовалую Соню, когда внезапно распахнули дверь, но кроме пустых полок, затянутых паутиной, комиссары ничего с пьяных глаз не разглядели, хотя штыком все же пригрозили. Соня, умница, не подала голос, а Феня такого страху натерпелась, что перегорело грудное молоко, и у свекрови – старуху за волосы таскали по полу – язык отнялся.
Хорошо все-таки, что Гаврилы не было, а то бы всех порешили, как Пехтеревых, или вывезли бы в степь, как Колтышевых, на съедение волкам. Всех. Даже малолеток не пожалели. А они, Калгановы, выходит, счастливо отделались: зерном да скотиной. Ну, еще сожгли амбар с шерстью. Сколько лет эта волглая шерсть гнила и воняла, а чтоб крышу перекрыть, денег жалели, руки не доходили. Бог с ней, с шерстью. Да и зерно было прелым. Все скопидомничали, мышам на радость, впрок откладывали на черный день. Вот он и наступил.
Быстроглазую, статную и скорую на руку Феничку Сидорову, кацапку из семьи переселенцев, приехавших в Сибирь из-под Могилева за собственным куском земли, отдали замуж за Гаврилу Калганова в полные пятнадцать лет, а тому было четырнадцать. Быстро заслали сватов, быстро столковались и без лишних сомнений обвенчали молодых на Покров.
Калгановы жили в достатке. Их просторный сосновый пятистенок и прибыльное хозяйство давно нуждались в молодой женской отваге и хватке: приготовить, прибрать, скотину обиходить, огород содержать, работников трезвых вовремя нанять. Феничка, ловкая, сильная, на спор с молодыми мужиками – не охнув – мешки с мукой в амбар носила. Однако неопытная по молодости – поставит в печку готовить баранину, пока туда-сюда, а баранина уже сгорела. Не беда, другого барана заколют или драчливому петуху шею свернут и ощиплют его, тепленького, лишь бы свекрови никто ни-ни… Огонь-девка, на месте без дела не усидит, домашние звали ее Ходя. И пела, и плясала, а как насмешничала! Вот и с Гаврилой позволяла, не боялась. Лягут бывало в постель, он, как телок, к ней тихонечко, ласково так подползет, хоть и страшно, и невозможно ему до жаркости. А Феня затаится, как охотник – не дышит, хитро выжидает. Только он руку ей на грудь положит, Феня – цап-царап! – цыганской иглой в эту самую руку и кольнет. Иногда до крови. Играли, баловались как дети, хохотали, порскали каждый в свою подушку, кувыркались, толкались, спихивали друг дружку на пол, нежились на пуховых перинах, слюбились. Через три года Феничка – зря наговаривали, что бесплодная, – родила Софию, которая и лицом, и фигурой вышла в свекровь: скуластая, приземистая, кургузая, с тяжелой длинной спиной: «У-у-у, вылитая мордва». При чем здесь мордва?
Но когда София Гавриловна, тетя Соня, в свои неполные семьдесят начала не по-хорошему колобродить, заговариваться и вилкой тыкать в суп, когда альцгеймер разыгрался всеми красками слабоумия, в памяти всплыли рассказы про поволжскую (якобы мордовку, похоже, что мокша) бабушку Гаврилы Калганова, неповоротливую, неподъемную, как куль с мукой: уж такая чудненькая да странненькая…
Соня до того обеспамятовала, что сына не узнавала, забывала внуков накормить, и часто была похожа на сумасшедшую, но могла поговорить о погоде или о своем артериальном давлении, цифры которого с профессиональной педантичностью через каждые четыре часа днем и ночью записывала столбиком в дневник.
В целом Сонина жизнь выдалась благополучной.
Ее единственного сына Олега до 10-летнего возраста растила в Ногинской баньке все та же баба Феня, а Соня тем временем налаживала новую семейную и профессиональную жизнь. Она дважды была замужем: первый муж – хирург Иван Ильич Балашов (вдвое старше Сони) спился на дармовом казенном спирте и умер почти под забором, второй муж – Николай Николаевич Мартемьянов, директор ипподрома во Львове, эксперт международного класса по скаковым лошадям, тоже не дурак выпить, но алкашом все-таки не стал.
Их отдельная квартира в бельэтаже, не советских габаритов и планировки, в самом центре Львова – с запирающимся на ключ парадным, разноцветными изразцовыми печами в каждой комнате, антикварными шкафами, с трельяжем и бронзовыми статуэтками именитых скакунов работы Лансере, с телефоном и ванной на ножках, с балконом, выходящим во внутренний полутемный двор-колодец, пропахший кошками, – всё казалось верхом роскоши. Это подтверждали железные решетки на огромных окнах в стиле модерн. К Соне обращались «пани доктор», к Николаю Николаевичу – «пан директор».
Феня с внучкой, по бедности, наезжали летом подкормиться во Львов, где Тасины волосы Соня намывала яичными желтками. По выходным – ипподром. Нарядные, надушенные, сидели они в директорской ложе, а потом шофер привозил их обратно в «Москвиче», забитом букетами длинных гладиолусов, георгинов, разноцветных люпинов и астр, пахнувших успехом и благополучием. Все вместе выходили в прекрасный Стрыйский парк, в концерт, где серебряное сопрано Виктории Ивановой сливалось с летним звездным небом.
Две неразлучные дворничихи – мужиковатая басовитая Марыся и пухленькая Ганя – водили Таську, москальку и паненку, гулять в парк Костюшко и глядели, чтобы бандеровцы – Матка Воска Ченстоховска! – не украли.
Соня накупала всякие девчачьи брошки, пластиковые сумочки, разноцветные гольфы с помпонами, каких в Ногинске сроду не видели. Она катала Тасю на детской железной дороге, и школьного возраста проводники и кондукторы при встрече отдавали им пионерский салют. Ей хотелось устроить племянницу в цирковую школу, когда та влюбилась в цирк. Соне очень не хватало девочки, дочки, живой хорошенькой и послушной куколки. С сыном ей было неуютно. И Олегу с ней было по-сиротски холодно. Они не научились даже слышать друг друга, а уж говорить… Он дважды убегал из дома, его искали с милицией и через несколько дней привозили обратно, виноватого, озлобленного, похожего на волчонка.
Ох, как тяжела была Соня на руку, как жестока сердцем!
А Николай Николаевич пропадал или на ипподроме, или в командировках по аукционам и конезаводам – не до пасынка. Все были далеки и особенно не вникали друг в друга, не образовали семейного треугольника.
После института Олег (для домашних – Алесик) – ветеринарный врач, которого любили городские собаки и кошки, морские свинки, хомячки и, конечно, лошади. Прекрасный жокей, он много лет занимался конным спортом, пока однажды на соревнованиях не упал с лошади: разрыв легкого, а сердце сместилось в правую сторону грудной клетки. Выздоравливал долго.
Много позже, перебравшись в Москву, Олег – неординарно мыслящий медико-биолог, изучавший влияние солнечных циклов на исторические события, эпидемии и отдельные заболевания, последователь идей Чижевского, экспериментатор, испытатель. Но – сломанный человек с подорванной волей. Как рахитичному ребенку недоставало солнца, так ему с раннего детства – ни отцовской, ни материнской любви и ласки. Может, оттого так страшно пил?
Он любил свою дочь Надю и еще больше – внука Ванечку. Очень любил и бабушку Феню.
Что мы знаем о своих предках?
По женской линии, прабабушка Акулина, мать шестерых детей, из которых Феня, – самая младшая. Ее муж, прадед Захар Сидоров – скрипичных дел мастер, деревенский музыкант, счищая мартовский снег, упал с крыши своего высокого дома, ушиб легкие и вскоре умер.
По мужской линии, прадед Мойша Златкин – с могилевщины, из деревни Прянички, что неподалеку от Климовичей, из черты оседлости, – сапожничал, чтобы прокормить свою «чертову дюжину» – тринадцать детей. Он дожил до ста одиннадцати лет.
Сколько сапожников и крестьян!
Наверное, не случайно Тася так любила обувь и садово-огородные работы на своих шести сотках в деревне Полушкино. И звук скрипки – чистая нутряная нота ее судьбы.
Дальше четвертого колена не заглянуть, не помянуть. Сколько же людей выросло без корней, без гумусового горизонта! Как пустынная трава перекати-поле, катятся себе по земле, легко переносятся ветром на безумные расстояния, рассеивая по пути семена. Но придут непроглядные ноябри и диктаторские декабри, когда заноют и заболят родовые корни. Захочется взлететь веткой или любопытным сучком прозреть небо.
На дереве какой породы? Из какого леса?
Кое-что рассказывала бабушка Феня.
В их селе Пески на Ишиме появился неприкаянный и немолодой мужик из-под Венёва, из казацкой слободы – Роман Иванович Орешкин. Он сразу положил глаз на Феничку.
А Гаврила, считалось, пропал без вести. По всей Сибири красные крепко и страшно держали власть. Феничка, молодая соломенная вдова, без мужниной опоры устала: она рвалась жить в полную силу, не откладывая на завтра.
Роман взял ее в «жёнки» по новому советскому обычаю: без священника, без родительского благословения и даже без штампа в паспорте. Увез в дом своих дальних родственников. Жили уважительно, надежно, да и нельзя было иначе с этой домовитой и горячей Феничкой. Вскоре родилась Анна, Анёк-огонёк. Роман старался для семьи, много работал: по плотницкому делу, по столярному, по сапожному, и жили они не хуже других. Он любил на словах рисовать картинки городской жизни, рассказывал о фабрике – очень тосковал, наверное.
Еще до революции семья Орешкиных перебралась из Тульской губернии в соседнюю Московскую, в город Богородск, где размещались знаменитые на всю Россию мануфактуры текстильной империи фабрикантов Морозовых, производившие все: от бархата и шелка до муслина, ситца, сатина, бязи и прочих ходовых тканей. Уже в те годы красным вагоном громыхал по одноколейке трамвай, возивший фабричных рабочих через весь город, протянувшийся в длину по левому берегу Клязьмы от села Глухова до села Истомкина. Орешкины поселились в одной из многоэтажных краснокирпичных рабочих казарм в Глухове, которые и сейчас вместе со старинными фабричными цехами – исторический памятник промышленной архитектуры – стоят на улице имени давно почившей Советской Конституции, которую пересекает со странно уцелевшим названием улица Совнархозов. А рядом – 1-я, 2-я и 3-я улицы Текстилей.
До отъезда в Сибирь Роман Иваныч работал на крупной Богородице-Глуховской текстильной мануфактуре, в горячем красильном цеху, а для души – пел тенором в церковном хоре при старообрядческой общине. Сразу после революции старообрядцев жестоко преследовали, церкви рушили или употребляли под склады и овощехранилища, пользовали как клубы или кинотеатры.
В одном из таких кинотеатров Тася в детстве смотрела советские и зарубежные, большей частью польские, фильмы времен короткой хрущевской оттепели, а сейчас там вновь – дивной красоты церковь Божией Матери Тихвинской с мозаичными иконами на фасаде. С трудом угадываются: правый неф – бывший Красный зал, левый неф – Синий, а в центре – просторное фойе с буфетом, где на сцене (в алтаре!) под маленький оркестрик пела, пританцовывая, в вечернем платье с переливчатыми бусами из чешского стекла местная певица, мама Тасиной одноклассницы. Тут же продавали лимонад и мороженое Ногинского хладокомбината.
Орешкины – как семья победившего гегемона – переселились из казармы в центр города, в мазанку, точнее – в баньку, стоявшую на отшибе в бывшей купеческой усадьбе. Когда Феня с детьми приехали сюда, на Советскую улицу, перед ней разверзлась бездна: у Романа Иваныча на тринадцати метрах жилплощади, кроме матери, венчанная жена Евдокия и двое детей, а сам он – в запое.
Такого обмана Феня ему не простила по гроб жизни. Какими словами они объяснялись, не угадать, но семейное предание таково: как только Роман перешагнул порог, пригнувшись, чтоб не удариться о низкую притолоку, Феничка налетела на него и влепила с размаху такую затрещину, что он – с ног долой, и разбил о дверной косяк затылок, глубоко рассек кожу, пришлось в больницу везти зашивать. На обратном пути заговорил:
– Не серчай, жёнка. Потерпи маненько, я их в Ямкино к тетке свезу. Чужие мы друг дружке, не живем – маемся. Разве бы от хорошей жизни я в Сибирь сбег натурально, как каторжник? Но вот тебя, слава богу, встретил, и дочкой Анной мы связаны. Обе они мне – и Сонька, и Анька – дочки. Тебя люблю, а от тебя – и их, потому что – твои. Не ерепенься, Феня, прости. Жить буду только с тобой.
И слово свое сдержал. Но той надежной жизни, ради которой она с девчонками рванулась и махнула через всю страну, не вышло. Что-то разладилось в их семейном механизме. Радость, что ли, ушла? Феничка уже не пела, когда раскатывала тесто, а подшучивать или подначивать они с Романом как бы враз разучились. Оба посуровели, похолодели, затаились друг против друга. Она по-прежнему старалась экономно вести хозяйство, – стирала, кипятила, мыла, стряпала, содержала скотину и кур, следила за детьми, корзинами собирала лесные ягоды и грибы на продажу, и работала везде, где брали: санитаркой в больнице, подсобной рабочей на мебельной фабрике, научилась перетягивать пружинные матрасы и обивать мягкую мебель, а потом перешла на завод грампластинок, и тогда в доме заиграл новенький патефон. Чувство долга перед семьей было сильней, чем женские обиды и неустройство.
Роман пил все злее. В его зеленых глазах заметно поубавилось света, на лбу сбивчивой гармошкой заиграли морщины. Жизнь утекала унылая и бедная, одно утешение – поллитровку беленькой с дружками оприходовать, папиросок накупить. Частенько рукам волю давал, дебоширил. Ему нравилось зимними ночами гонять строптивую жёнку. И она, подвывая на холоде, будто чечетку отбивала босыми ногами, бегала между единственным окошком и запертой дверью. Куражился, потешался. Мог среди ночи и с кровати спихнуть: спи на половике, сучка стриженая, узнаешь, как мужа уважать… Особенно его бесили занятия в кружке ликбеза: Феня была самой смышленой, и учитель, молодой партиец, хвалил ее при всех. У нее вспыхивали щеки, голос звенел, и Феня соображала еще быстрей. Как это задевало, как шло поперек натуры Романа Иваныча, ведь он без подсказки не мог решить задачки из трех действий. Вот по ночам и сводил счеты с жёнкой, а вскоре и вовсе запретил строго-настрого:
– Нечего жопой вертеть да скалиться перед всякими недомерками! Ученой, вишь, себя возомнила. Может, и черта ученого тебе подыскать? Так я спроворю, я тебя, где надо, сам научу, а где не надо, проучу. Дома сиди, мужа бойся! Вот премудрость, вот вся твоя грамота бабья.
Единственная, кроме Библии, книга, прочитанная Феней от корки до корки, – роман Войнич «Овод». Сколько слез пролилось за Артура и Джемму! Позже они с Тасей уже вдвоем рыдали над Неточкой Незвановой, над бедной Козеттой и над судьбами диких животных Сетон-Томпсона. Потом в их избушку вошла поэзия в виде неподъемной антологии Ежова и Шамурина, ее дала Тасе – на год – школьная математичка. Эта книга открыла запрещенную поэзию Серебряного века. Тася просыпалась и засыпала под блоковскую «Незнакомку», под «Сакья-Муни» Мережковского или «Смехачей» Хлебникова. И Феня с удивлением участвовала в ее открытиях, всецело доверяя внучке.
Едва научившись держать деревянную ручку с перышком «звездочка», Феня пристрастилась к письмам, и даже выкраивала из скудной пенсии деньги на поздравительные открытки родным и знакомым. Сохранились ее письма Тасе «до востребования» в Тарусу, на знаменитый «сто первый километр», где уже шелестели «Тарусские страницы», где жили Паустовский, Штейнберг, Ватагин, и стоял дом деда Марины Цветаевой. Там, в пойменных заокских лугах Тася ловила бабочек для зачета по энтомологии, собирала гербарий водных растений в реке Таруске, рыла шурфы согласно курсу почвоведения, составляла ландшафтные и гидрологические профили или чертила в камералке топографические планы мест гнездования городских ласточек – так проходила ее полевая практика на первых курсах географического факультета.
В приложение к письму с обычным зачином: Моя единственная и неповторимая внучка… – Феня вкладывала бумажный рубль, который Тася тратила на пару банок кабачковой икры и буханку черного хлеба к общему студенческому костру, сэкономив еще мелочишку на кино. «Получила ли ты в прошлый раз мой рублик?» А внутри конверта уже богато зеленела трешка.
Роман Иваныч не прощал дочкам, что отличницы.
– Все, хватит, девки, пора к станку! Пора в шпульницы! Умней отца вам не быть, это неправильно и даже вредно.
Феня, бросаясь на него, как на врага, кричала:
– Последнюю рубашку продам, на черном хлебе с водой жить буду, но дети мои и в Москву поедут, и станут учеными. Еще попомнишь мои слова, самодур запьянцовский! Изверг нечеловечий!
Оказывается, у Фени была мечта.
Однажды в Пески приехали две молодые женщины. Издалека было видно, городские: обе стриженые, в туфлях и с маленькими, почти игрушечными, кожаными чемоданчиками. День, два, три ходили из дома в дом. Это были врач и медсестра из райцентра – они делали прививки против оспы. Феню сильно впечатлили белые халаты:
– Что это за жизнь, что за работа такая, чтобы каженный день в белых халатах, да в чистых. И сами как богыни.
Тогда же она пообещала перед иконой Николая Чудотворца: и Соня, и Аня будут так жить и так работать – в белых халатах. Когда Роман позвал за собой, Феня ехала не только к нему. Она поехала за новой жизнью. Ей, может, больше бабьего счастья хотелось выучить дочерей. А в Сибири, по ее представлению, учиться было вроде бы негде… Степь, голая степь – глазом не окинуть. Всю жизнь она благодарила Романа Иваныча, Тася много раз слышала:
– Спасибо, что вывез из Сибири, а то бы и по сей день в колхозе коровам хвосты крутили, хотя, конечно, и там не пропали бы. Я всякую скотинку очень люблю, и она меня понимает. Мы уважаем друг друга лучше, чем некоторые люди, – рассуждала Феня. – Вон как выдрессировала кур, вроде совсем безмозглые, а в саду не гадят, знают уже, где погулять, а где поклевать. И корова, и козы у меня всегда, как детки малые, все сыты и подмыты, и молоко навозом не пахнет. Потому от покупателей отбоя нет. Может, я бы даже и в председатели вышла – колхоза или совхоза, что там у них? Только я не партийка, а без этого – какой председатель? Зато в работе азартная. Может, и девки мои тоже бы выучились на агронома или на зоотехника.
Осознавая себя сибирячкой по природной сути, она как бы прикидывала на себя скроенную по советскому лекалу несостоявшуюся сибирскую жизнь:
– Нет, хорошо, что все-таки вывез нас из Сибири.
Это была главная заслуга Романа Ивановича перед семьей.
Но он об этом так и не узнал, потому что внезапно умер от перепоя на поминках своего трехлетнего крестника.
Все случилось по мечтам Фенички: и Соня, и Аня стали врачами, Аня – известным на всю страну профессором.
Только мама
приучала любить оливки,
по-русски – маслины.
В упрямстве ослином
я бежала этой культурной прививки
за тридевять жарких земель,
в рощи оливковых олеографий,
выстроенных в каре,
где любое древо – библейских плодов колыбель,
на аттестат зрелости сдавшихся в ноябре.
Только мама почти до зимы
Серой Шейкой плескалась в пруду
и, лыжню проложив ни свет ни заря
вкруг Новоспасского монастыря,
себя не тратила на ерунду.
По цвету лица узнавала гастрит,
колиты и язвы, особенно в марте:
покажите язык, – говорит, —
рельеф как на географической карте…
И всё кого-то спасала,
учёные книги писала.
Так впряглась, так работала на ура,
что рабочая лошадь вышла в профессора.
Но теперь —
ореховой легче скорлупки —
крутит на чистом пуху головой
наподобие ветхозаветной голубки —
её из ковчега выпустил Ной,
чтоб гулить дочкой моей родной.
А я мычу,
неисправно молчу
до самых азов любви:
мама, мама,
горячая моя точка,
мама,
последняя моя отсрочка,
поживи ещё, поживи!
Будто сорвавшись с резьбы, в голове прокручивался тяжелый шуруп, железно ввинчивая свое: во Фрязево, к Петру и Павлу, где кривились над черными болотами реденькие березовые леса, где крестили под звон колоколов, под бой часов с выбеленной колокольни под синим луковичным куполом.
Откуда этот самостийный сквозняк, гудящим волчком затягивавший во Фрязево? Может, по молитвам незабвенной Фенички, управившейся с земными делами в безжалостно жаркий день Петра и Павла?
Ведь именно Феня ввела Тасю в церковь. После менингита, коклюша и ревмокардита часто водила к причастию, после чего, надев пионерский галстук, Тася опрометью неслась в школу, хотя бы к четвертому уроку. Всевидящие соседи занудно стыдили: нельзя пионерке, ведь клятву давала, и ты, старая дура, знаешь, что за это… Погубишь девчонку.
Бабушка и ухом не вела. Куда она только не водила внучку за восемнадцать лет общей жизни! Но зато уже с шести лет Таська одна пригоняла из стада задиристую козу Розку – через железнодорожные пути, через тощенький лесок. На подходе к дому, разбежавшись, Таська крепко хваталась за рога и быстро вспрыгивала на Розку, отчего козья спина прогибалась, задние ноги подкашивались, Розка резко приседала, а Тасе надо было удержаться, чтобы с шиком прокатиться по Советской и на виду соседей и подруг, задрав нос, въехать во двор на козе. До сих пор, крестясь на икону «Вход Господень в Иерусалим», где Христос на белом осляти, Тася так и видит себя на Розке… Кощунница окаянная.
Разве выберешься во Фрязево?!
До станции Фрязево ну никак не доеду
ни на «гецике» борзом, ни на электричке,
хотя надо бы успеть – не для переклички —
к золотым Петру и Павлу
в среду на беседу.
На пороге для подмоги свой настроить глас,
непредвзятого трепеща ответа:
вы за что убавили светлый час
скоромимошедшего лета?
Пётр и Павел —
ни попрека, ни тебе нотации, —
вмиг признали пионерку, что рыдала
и, о маминой молясь диссертации,
Богоматерь в уста целовала.
И на Пасху, не забуду, —
поп, взмахнув кадилом,
попалил мои ресницы-брови-волоса,
точно причастил огнём,
а спасали – миром
да ведром воды святой,
– чем не чудеса!
И жива ль ещё могилка в этой местности
Пославской Елизаветы?
У кого б узнать,
не подлеском ли шумит моя крёстная мать,
учительница русской словесности?
Когда пришел срок операции, уже в Кардиоцентре непростительной дерзостью показалось Тасе непослушание внутреннему голосу. Со всей хваткой инстинкта самосохранения она перебирала в уме земные долги, невыполненные обязательства: вот выживу у тогда уж… Главной зацепкой в жизни оставалась мама, рухнувшая во всей своей немощи на ее нетренированные руки.
Оперировали Тасю в день Преподобного Сергия Радонежского. Уже накануне утешительно изнутри прояснилось: она – прихожанка храма Сергия Радонежского, и врачи ее – два Сергия: Дземешкевич и Королев, и муж ее нынче – тоже Сергий.
Что может случиться в такой день? Только – жизнь.
И Бог близок, как никогда.
Перед операцией, в шесть утра, когда медсестра, сняв с нее обручальное кольцо и нательный крестик, пошла класть их в сейф, Тася помолилась и выпила три глотка воды – маленькая бутылочка святой воды из Иордана давно хранилась в серванте. На всякий случай. И этот случай настал.
Внезапно из-под наркоза в Тасино сознание ворвались какие-то расплывчатые звуки, смазанные разговоры. Все слова всмятку. Твердо прокатился лишь голос Дземешкевича:
– Всем отойти от стола.
– Господи, я их слышу, слышу… Вот интересно! Наркоз не действует? Разнаркотизация? А операция еще не закончена. Но как об этом сообщить? Как просигналить?
Кроме мыслей, ничто – ни один нерв, ни одна мышца – не шевельнулось и даже не дрогнуло. Тася попробовала открыть глаза, – они не слушались. Тяжелые, как у Вия, веки обездвижены. Работало только сознание, но почему-то само по себе, независимо от тела. Наверное, вне тела. Что это? Душа или дух? Или то и другое вместе, живя своей вполне осознанной, отдельной, но совершенно нечувствительной жизнью. Значит, наркоз действовал только в пространстве тела? А душа и дух вышли в какое-то иное пространство, в иную реальность? И оттуда никакого знака или намека подать невозможно. Обратной связи не было.
– Разряд, – оглушила команда.
Тело мгновенно изогнулось, послушно подпрыгнуло и легко шлепнулось об стол: ага, дефибрилляция. Как у Джессики Ланж в фильме «Фрэнсис». И никакой боли. Никакого страха. Чудно как-то.
– Не хочет, – будто бы запнулся хирург.
– Сердце… сердце не заводится, – поняла про себя Тася. – Это бывает. Но, может, заведется? Сколько пугали, сколько предупреждали: пока на ногах, беги отсюда, а то вынесут вперед ногами.
– Еще раз. Всем отойти от стола, – диктовал Дземешкевич, – разряд.
И было уже совсем легко еще раз подпрыгнуть – оп-ля! – и шлепнуться.
– Пошло, заработало!
Сразу же началось многорукое и неприятно давящее копошение в груди. Будто чем-то ее начиняли, втискивали что-то объемное, намного большее, чем ее грудная клетка, наполняли содержанием, старательно утрамбовывали. Зашивают? Заканчивают? И Тася куда-то ухнула.
Оперировали три дня подряд: не могли остановить кровотечение из легкого. Уже в реанимации, когда она узнала о трех предыдущих днях, ей вспомнился Моуди с вертикальными лабиринтами и туннелями, как в дорогом аквапарке, с захватывающими полетами в трубах к свету или провалами в бездну, вид на себя сверху, выход в астрал. Ничего похожего: никуда она не летала, не выходила. Значит, и клинической смерти не было? А ведь она не из литературы и не понаслышке знала об этом: однажды во время обследования под анестезией сама пережила этот неправдоподобный восхитительный полет через взвихренный воздушный океан с нестерпимо яркими на черном фоне многоцветными вспышками звезд – не то морских, не то небесных. Была передозировка наркоза. Но Тася вернулась.
И теперь послеоперационная эйфория брала свое, и, выкладывая в ажиотаже подробности, Тася рассказала Дземешкевичу, что помнила из своего Зазеркалья. Он зорко вглядывался в нее, вникая в то, что было за словами: то ли проверял на адекватность после длительного наркоза, то ли по-житейски удивлялся. Не столько подробности занимали его, сколько непостижимый подтекст самой жизни, которая недавно так доверчиво и горячо пульсировала в его руках. Иногда он работал Богом, но – внештатно. И знал об этом.
– А ты – живчик, молодчина! Ведь крови в тебе почти не было! Сколько всего в тебя вкачали, не экономили, а ты лежишь себе – розовая даже, и улыбаешься во сне. Силен твой ангел-хранитель!
Ей вспомнился жаркий от средиземноморского солнца день, когда в жажде впечатлений они вчетвером раскатывали на машине вдоль и поперек небольшого острова Родос. Сверяя карту с дорожными указателями (здесь это не всегда совпадало), останавливались то в одной, то в другой деревне, бродили с толпой туристов или терялись в глухих улочках и закоулках, где совсем не было людей, но повсеместно и огромными семьями жили кошки – самых немыслимых окрасов, возрастов и нравов. Все устали от жары, хотелось искупаться и пообедать где-нибудь в таверне, но и в церковь Святого Пантелеймона, где хранились его мощи, тоже хотелось. Судя по карте, это было на западном побережье острова, возле населенного пункта Монолит. Дорога резко пошла в гору. Дохлый старый «Фиат» из проката еле тянул и задыхался, как астматик. На каждом новом витке серпантина мотор захлебывался и замолкал. За рулем сидел Николай – водитель со стажем и бывалый путешественник, но и он нервничал, вновь и вновь заводя мотор и вжимая в пол педаль газа. Тася была штурманом и сидела рядом с ним. Ужасное место. Ее ноги работали и на газ, и на тормоз. С каждым разом, когда замолкал мотор, все напрягались. Сережа и Лида затихли. Сзади подпирал поток машин, им сигналили, их обгоняли, строили рожи и крутили пальцем у виска. Николай вновь и вновь запускал стартер. За окном мощной стеной картинно тянулись пышные пинии – граница леса. Еще несколько витков, и неожиданно открывшийся вид на море, застывшее ослепительно синей гладью, очень порадовал. Есть! Высшая точка. Выдохнув, все вышли из машины. Мимо пролетали облака. Они быстро густели, закручивались вихрями и также быстро редели, рассеивались, таяли на глазах. Из долины снизу поднимался туман, клочьями забивая ложбины, оседая на плоских вершинах, скрывая на несколько минут и море, и даже ближние деревья. Потоки воздуха разной плотности и скорости неслись в своем природном хаосе, показывая живой видовой сюжет. Рядом торговали домашним вином, медом и оливковым маслом.
Лида спросила у продавца про церковь Святого Пантелеймона. Он развернулся в сторону моря и показал на огромный, торчащий, как зуб великана, горный массив – классический останец, обозначенный на карте названием Монолит. Там, на самой вершине белела церковь, к которой вели вырубленные в склоне ступени… их было немало. Каждый, наверное, прикинул про себя и путь до Монолита, и подъем по этим ступеням, и набирающую градус жару.
– Нет, это не для нас, не потянем!
– Я не рискну, боюсь за сердце.
– Да, не наша мера подвига.
Вглядываясь в недосягаемый храм, порассуждали, что по грехам и по маловерию не дойти до церкви. Огорченные, но смирившиеся, они сели в машину и двинулись дальше по такому же узкому и крутому серпантину, но уже вниз, что тоже было страшновато, но «Фиат» тормозил лучше, чем заводился.
– А если эта дорога ведет в никуда? – предположил Сережа.
– Как это «ведет в никуда», не каркай…
Когда спустились, то оказались на замкнутом крохотном пляже, и единственной дорогой было – море.
Теперь неприятно напрягала мысль о том, что надо возвращаться, опять ехать по этому кошмарному серпантину, опять вверх, машина наверняка заглохнет – и не раз, и неизвестно, чем все кончится.
– Это бесы нас водят, – вынесла приговор Лида, – мало того, что к Пантелеймону не допустили, так еще и куражатся.
Николай завел мотор с первого раза. Подъем начался в тяжелом молчании. Их никто не обгонял, не подпирал сзади. Ехали в полном одиночестве, вслушиваясь в ритм работающего мотора. И «Фиат» не подвел – все-таки мировая марка, и Николай показал класс.
Спустившись с перевала, въехали в очередную деревушку, и сразу захотелось выйти, расслабиться, кофейку попить. Остановились перед церковью.
– Что это? Где мы?
– Церковь Святого Пантелеймона, пошли!
И они нырнули в прохладный полумрак, пропахший ладаном.
– Как греки почитают целителя Пантелеймона! И тут, и там ему молятся.
– Спроси еще раз, где его мощи?
Лида подошла к свечному ящику, где женщина раскладывала сувениры. И та в ответ что-то залопотала по-гречески и, сильно жестикулируя, стала тыкать пальцем в самый центр храма. Значит, мощи – здесь?! Вот это да!
В этот момент в храм ввалилась группа паломников. Ба, русские! Они тихо переговаривались, крестились, покупали свечи. Вдруг женщина прекратила торговлю, замахала на всех руками и указала на алтарь. Оттуда вышел маленький священник, заросший большой черной бородой до самых глаз. В одной руке он держал корзину с ломтями белого хлеба, в другой – плоскую серебряную шкатулку. На круглом столике перед алтарем разместил корзину, рядом – шкатулку, которую сразу же открыл.
– Мощи, – ахнула Лида, – ковчежец с мощами!
Священник прочитал молебен, хлебы окропил вином, а потом разрешил приложиться к мощам целителя Пантелеймона, благословил каждого и дал с собой святые хлебы, кому два, кому три кусочка. Из храма вышли с дарами. Вышли в полном потрясении.
– Господи, – почти прошептала Лида, – ведь надо же было заехать в эту тьмутаракань, о которой мы знать не знали, и именно тогда, когда приехали наши паломники. Ведь это для них – не для нас! – открыли храм и вынесли мощи. И никакие бесы нас не водили, – ее глаза засветились – это ангелы и святой Пантелеймон привели нас в это место и в это время! Поздравляю, господа, с нами случилось чудо!
– Невероятное совпадение, – устало согласился Николай.
– Силен твой ангел-хранитель, – донеслось до нее снова, – радуйся, можешь теперь дважды в год отмечать день рождения.
Детский день рождения запьянел уже от первой чашки чая с кагором. Дарили шоколадки, шкатулки, копилки, фарфоровые статуэтки, авторучки, капроновые ленты и, конечно, книги. На столе – плюшки с изюмом и клюквой, рогалики с маком, пироги и глазастые ватрушки. А в главном пироге таилась копеечка, – если найдешь, то этого копеечного счастья на весь год хватит.