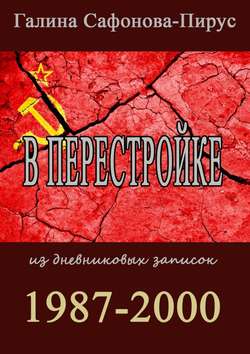Читать книгу В перестройке. 1987—2000 - Галина Семеновна Сафонова-Пирус - Страница 3
Глава 2. Восемьдесят восьмой
ОглавлениеВчера во «Взгляде», ошалев от правды, смотрели интервью с Роем Медведевым7, опубликовавшим на Западе книгу о «кровавом деспоте Сталине»8; интервью с парнем, который старается собрать картотеку жертв сталинизма; клип Гребенщикова «Нам надо вернуть нашу землю». Потрясающий клип.
А сегодня у нас – летучка. И обозревающий – редактор Лев Ильич Сомин, с которым делаю передачи:
– Журналистика призвана, – делает паузу и смотрит на Корнева, – возбуждать общественное мнение.
– Не возбуждать, – поправляет тот, – а успокаивать.
– Ну да, конечно, – иронизирует Сомин. – Поэтому наша печать и лживая такая.
Афронов вспыхивает:
– Нет, неправда!
– Сергей Филипыч, ну как же неправда? – вспыхиваю и я. – Вот вчера, в передаче «До и после полуночи» показывали целую кипу газет и журналов, в которых Адылов, один из руководителей Узбекистана, герой соц. труда, три раза награждённый орденами Ленина, оказался вором и только теперь…
Но Афронов – свое!.. Тогда Сомин прерывает его:
– Сергей Филипыч, разве вы всегда только правду писали?
– Да, только правду, – вроде бы и искренне ответил. – А вы что, врете?
– Конечно, вру, – пожал плечами Лев Ильич.
Вот такие начальники управляют гласностью у нас, «на местах».
Заходил Коля Иванцов. За чаем рассказывал, как несколько лет назад вербовали его в КГБ, а он отказывался; как проголосовал «против» на собрании, которое клеймило писателя Солженицына9 и как выгнали его потом из-за это из газеты. Похоже, говорил правду.
В первом номере журнала «Знамя»10 прочитали пьесу Шатрова11 «Дальше, дальше, дальше…», в которой берется под сомнение и Октябрьская революция, и все социалистические завоевания.
Чудо! Чудо, что дожили до таких дней!
Кто-то из героев говорит, что ничего, мол, у нас не изменится, пока там, наверху, будет старый аппарат.
И он прав.
– Есть интересная тема, – Платон вошел на кухню. – Желдаков напечатал статью в «Рабочем», как на Партизанской поляне обокрали машину его друга-генерала, и обокрали пацаны, их тут же, в лесу поймали. Желдаков делает вывод: надо, мол, этих пацанов работой загрузить, чтоб времени свободного у них не оставалось, вот тогда…
А ведь там, в Белых Берегах, когда-то монастырь был, но после революции его разрушили, развезли на щебенку, из которой потом построили дорогу к обкомовским дачам.
– Да, тема отличная… – угадываю мысль. – Стоит написать для московского «Журналиста», а то что-то давно не писал туда.
И два дня сидел в своей комнате, писал, а сегодня читал нам с дочкой: пацаны растут в поселке обслуги, видят, что за проволокой и высоким забором скрыты озеро, дачи, особняки, а в бронированные ворота въезжают и выезжают черные «Волги», вот и мстят, наконец, этим «волгам».
Хвалю, улыбаюсь:
– Под своим именем посылать будешь? – И советую: – Лучше – под псевдонимом, а то опять вызовешь «огонь на себя».
Но он после прогулки говорит:
– Решил поставить свою подпись.
Решил, так решил.
Проснулась с ощущением света и радости, еще не осознав, что сегодня – Пасха.
Потом позвала Платона завтракать, а он:
– Ты бы поставила на стол бутылку водки, нарезала ветчины, положила в тарелку солений, кулич испекла, а потом и приглашал б, – шутливо заворчал.
Но знаю: почти упрекает, что не умею праздновать. Да, не умею, но все же… Достаю кусок сала, что недавно засолила, нарезаю колбаску, что вчера «дали» на работе, ставлю кекс, что вчера же испекла. Еще вспоминаю: есть недопитое сухое вино! Достаю рюмки. Приглашаю опять:
– Вот тебе и ветчина, и бутылка, и кулич…
Удивился… Вошла заспанная Галя, – вчера-то ходила с Олей в церковь слушать, как там поют… а мы слушали запись церковных песнопений с магнитофона, на пианино стояла икона, перед ней горела свеча…
– Выпьем за то, – Платон налил вина в рюмки – чтобы истина, красота, добро всегда возрождались.
– Воскресали, как воскрес Христос, – уточнила я.
И опять взяла магнитофон на работе, хотя на этот раз уж очень дотошно допытывались: зачем нужен… режиссеру? Но дали… всего на неделю, так что вчера ездила к маме и записала целую катушку. Кажется, она устала от своих воспоминаний, и поэтому, если удастся еще раз взять магнитофон, то надо будет составить для нее последние вопросы, а потом… Смогу ли из этих «лоскутков» сшить что-то? Нет, еще не знаю. Но думаю, что в этом поможет мне моя профессия режиссера. А назову «Негасимая лампада», – так хочет мама, – и уже знаю, с чего начну: мама рассказывает об учителе-революционере, который жил у них, и который однажды отрекся от Бога и погасил лампаду, что висела у иконы.
В поезде дочитывала «Котлован» Платонова12… И как он мог так писать? Словно докапывался до первозданности каждого слова. И – мрачнейшая картина! Смесь крови, страдания и слепого энтузиазма тридцатых годов, лишенного здравого смысла.
Все потом думалось: наверное, борьба за справедливость неизбежно рождает ненависть, и самое яркое подтверждение тому – французские революции и наша, в ноябре 17-го. Ведь в конце этих битв за справедливость – реки крови!
Но человека-то делает человеком только любовь!
Сегодня на ПТВС делаю запись первомайской демонстрации трудящихся.
День – чудо! Я – в любимом костюмчике с белой крепдешиновой кофтой, в новых туфлях. Ходим с операторами по площади, обговариваем возможные варианты, и я чувствую себя молодой, красивой… Вдруг подходит Погожин, секретарь Обкома по идеологии. Когда-то, в молодости, я была даже немного влюблена в него, и был он тогда «растущим комсомольским работником» с тонким, интеллектуальным лицом… и вот сейчас здоровается, поздравляет с праздником, берет под локоть и, как бы, между прочим, говорит:
– Я всё смотрю во-он на ту камеру, что стоит на карнизе гостиницы прямо над центральным входом. Не упадет ли на людей?
– Ну и что? – шутит оператор Володя Бубенков. – Под ней же только одни гебисты стоят, так что…
Все смеются. Улыбается и Погожин.
– Не-е, Володя, нельзя, – смягчаю я. – Гэбисты тоже люди, у них даже дети есть.
Опять все смеются, а Погожин наклоняется ко мне и тихо так говорит почти серьезно:
– Это вы хорошо сказали.
А перед началом записи вызывают меня из ПТВС и говорят, что во-от тот-то хочет меня видеть. Подхожу. Молодой гэбэшник начинает объяснять, что б не записала, «если вдруг кто-то выбросит недозволенный лозунг… как в прошлом году». Выслушиваю, киваю. Что ответить? Ведь если и запишу, то обязательно, когда приедут просматривать, вырежут.
Перестроились…
Конечно, Перестройка изменит что-то в нашей экономике, но не верю, что провозглашенный партией «принцип коллективного руководства предприятием» что-то улучшит в промышленности. И потому не верю, что «коллектив» не способен на риск, только хозяин, только личность может это делать, а, стало быть, идти вперед.
Сижу во дворе Комитета среди березок, единственном тихом островке среди строительства нового здания студии и читаю в журнале «Новый мир» Варлама Шаламова13. Рассказ – из Колымских, «Надгробное слово»:
«…Все умерли… Умер Носька Рутин. Он работал в паре со мной. Умер экономист Семен Алексеевич Шейнин, напарник мой, добрый человек. Он долго не понимал, что делают с нами, но в конце понял и стал спокойно ждать смерти… Умер Дерфель, французский коммунист, член Коминтерна. Это был маленький, слабый человек… Побои уже входили тогда в моду, и однажды бригадир его ударил, ударил просто кулаком, для порядка, так сказать, но Дерфель упал и не поднялся…»
Нет, не могу – дальше… И чтобы успокоиться, начинаю пристально всматриваться в то, что рядом: а листья-то у березы совсем еще весенние… дожди идут часто… и травка, словно в мае… ласковая… тишина, муравьишки хлопочут рядом. А какой удивительной музыкой шелестят березы!.. Но тут вижу: Мурачев идет ко мне, наш студийный художник! Не-хо-чу!.. Нет, подошел, и, конечно, опять начал о своей очередной голодовке: он так хорошо прочистил желудок, и теперь вот осталось только прочистить мозги. Смотрю на него, слушаю, а у самой:
«…умер Семен Алексеевич, добрый человек… Умер Дерфель, француз…»
А Мурачев говорит и говорит. Долго, взахлеб! Но я смотрю на его пеструю майку и почти не слышу его потому, что давно поняла: ему нужен только слушатель, а не собеседник, пусть говорит…
– А вчера… слышь?.. – замечая мое отсутствие, заглядывает в глаза, – Случилось со мной ЧП: Наташка угостила меня семечками, а я взял и слузгнул парочку… слышь? – расхохотался. – И тут вспомнил: ба-атюшки, что ж я сделал?! Ну, быстро поехал домой, промыл желудок… слышь?.. а в кровь-то уже питание поступило? – трагически выкатывает глаза. – И пришлось начинать голодать с самого начала.
Открываю журнал и все же решаюсь его прервать:
– Кстати, о голодных. Вот, послушай:
«…самое страшное в голодных людях – это их поведение. Все, как у здоровых, и все же это – уже полусумасшедшие. Голодные всегда яростно отстаивают справедливость. Они – вечные спорщики, отчаянные драчуны. Голодные вечно дерутся. Кто покороче, пониже, норовит дать подножку, сбить с ног противника. Кто повыше – навалиться и прижать врага своей тяжестью, а потом царапать, бить, кусать его…»
Мурачев стоит, слушает. Потом интересуется, что я читаю. Говорю. Кивает головой, как бы оценивая, а потом снова начинает объяснять: почему голод так полезен для организма.
О-о!
Такого никогда не показывали по ЦТ: на партконференции обсуждали каждого члена ЦК, прежде чем избрать. Вот так… И еще: теперь не глушат радиостанции из-за рубежа. Замолчали монстры!
И это – чудо! Молодец, Михаил Сергеевич!
Нет, не приняли статью Платона даже в центральной прессе, сославшись на то, что, мол, случай частный. Да, конечно, «частный». Обкомовские дачи есть только у нас, а не по всему Союзу!
Видать, в Москве еще далеко не все издания чувствуют себя свободными.
Сегодня у нас заключительное политзанятие и весь год вел их мой непосредственный начальник Афронов. Странный он. Иногда думает, как и мы, но вот сейчас – ниже травы, потому что присутствует представитель Обкома и какой-то философ из пединститута.
Все «студенты» говорят, конечно, «в пределах дозволенного», вот только корреспондент с радио Орлов:
– Пока будут живы обкомы и райкомы, – машет рукой, словно разрубая слова, – не сдвинется Перестройка с места!
Подошла и моя очередь. Тема: «Демократия – неотъемлемое условие Перестройки. Что ей мешает». Начала с Дудинцева14:
– «Скандал, гласность – это факел, говорящий всем, что общество не терпит злоупотреблений ни с чьей стороны. Скандал порочит людей, но не общество». Так пишет писатель. – Все слушают внимательно, представители – тоже. И продолжаю: – А вот что говорит ученый-экономист: «Некомпетентность одних руководителей не только порождает некомпетентность других, низших рангом, но и служит им щитом защиты». – Товарищ из Обкома делает всем своим корпусом движение: ну-ну, что еще, мол, скажете? И продолжаю: – Этот закон работал у нас все годы, работает и сейчас, поэтому и отстаем от Европы по всем показателям на двадцать лет. И виноваты в этом обкомы и райкомы, которые, будучи сами не компетентны в сельском хозяйстве и в промышленности, порождают таких же руководителей и на местах. – У Корнева вытягивается лицо, заёрзал Афронов, бросил на меня любопытный взгляд философ, а я уже «иллюстрирую» свои слова «местной тематикой»: – Обком вмешивается даже в журналистику, в которой, думаю, тоже не весьма компетентен, – недавно позвонили оттуда и сказали Поцелуйкину, что хотели бы просматривать все сюжеты для передачи «День животновода» до выхода ее в эфир…
И тут Корнев не выдерживает:
– Ну и что в этом такого?
А я только руками разведу: вот, мол, видите?
Потом выступал философ и, косясь на меня, говорил, что ему было очень интересно на этом занятии, и что, мол, услышал даже кое-что впервые, а представитель Обкома стал опровергать то, что говорила и, глядя прямо в глаза, добавил:
– В Обкоме не все такие некомпетентные, как вы думаете…
– А почему же тогда у нас ничего нет в магазинах? – съехидничала.
На что он ничего не ответил.
А ночью… Ночью опять все крутилось в голове: а что если «рецидив прошлого» вспыхнет? Загремим мы с Платоном… И было страшно не столько за себя, сколько за детей.
И все же происходит у нас в городе что-то «впервые»! Вот сегодня, к примеру, в честь тысячелетия крещения Руси у Свенского Монастыря15 – праздник, правда, проводят его не православные христиане, а баптисты. Ну что ж, тем более любопытно.
Вдруг пошел веселый, обильный дождь и по асфальтированным дорожкам потоком ринулась вода. Мы с дочкой семеним под зонтиком, подхватив подолы длинных юбок, а рядом широко вышагивает Платон. Ну, наконец-то и берег реки! В дальнем уголке луга, у самой Десны, мозаика из пестрых зонтов, сценка с плакатом: «Велик Бог. Все им создано, все им стоит». В стороне, возле серых ширм, стайка юношей и девушек в белых, длинных рубахах.
– Что это они?.. – спрашиваю у Платона.
– Может, ангелов будут изображать?
Нет, оказалось, что их будут крестить.
Речи, песнопения, чтения стихов… Всё это длинно, скучно, и не затрагивает душу.
За спиной у верующих торгует буфет, снуют пацаны, лижут мороженое. Недалеко от нас армяне запалили покрышку, чтобы согреться, и вонь от горящей резины понесло прямо на нас, отчего – да и от мокрой травы, сырой одежды, обуви, тяжелой, грязной воды реки – становится как-то не по себе.
7
Рой Алекса́ндрович Медве́дев (1925) – советский и российский публицист, писатель-историк, представитель левого крыла в диссидентском движении в СССР.
8
Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1878—1953) – политический, военный деятель, Генеральный секретарь ЦК ВКП, глава СССР (1924—1953).
9
Алекса́ндр Иса́евич Солженицын (1918—2008) – русский писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России.
10
«Знамя» – ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. Издаётся с 1931 года.
11
Михаи́л Фили́ппович Шатро́в (настоящая фамилия – Марша́к), советский и российский драматург и сценарист.
12
Андрей Платонов – русский советский писатель, драматург, поэт, публицист.
13
Варлам Тихонович Шаламов – русский прозаик и поэт советского времени.
14
Влади́мир Дми́триевич Дудинцев (1918—1998) – русский советский писатель.
15
Памятник архитектуры (федеральный). Свенский Свя́то-Успе́нский монастырь – мужской православный монастырь в селе Супонево Брянского района Брянской области.