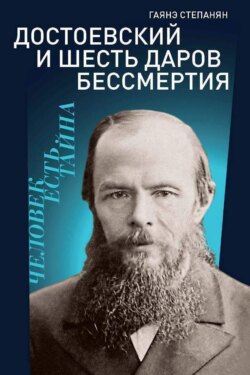Читать книгу Достоевский и шесть даров бессмертия - Гаянэ Степанян - Страница 6
Лекция I
Легенда о великом читателе
Ф. М. Достоевский и А. С. Пушкин
ОглавлениеПушкинская речь и природа творчества самого Достоевского
8 июня 1880 г. в зале московского Благородного собрания состоялось заседание Общества любителей российской словесности по случаю открытия памятника Пушкину. На нем Достоевский прочитал свою Пушкинскую речь. Устное выступление имело успех чрезвычайный, Достоевский в письме жене описывает его так:
«Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем. <…> Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил – я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: все ринулось ко мне на эстраду…» Рукоплескали даже те, с кем отношения складывались непросто, – И. С. Тургенев, Глеб Успенский.
Отношение к речи изменилось на прямо противоположное после ее публикации. Дело в том, что слушатели, по выражению В. А. Викторовича, восприняли ее как манифест русской культуры, а читатели – как политическую программу. Вероятно, в такой смене взгляда не последнюю роль сыграл факт, что она появилась на страницах консервативного издания – в газете Каткова «Московские новости».
«ДЛЯ МЕНЯ ПОНЯТЕН КАЖДЫЙ ВАШ НАМЕК, КАЖДЫЙ ШТРИХ, – НУ А ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ ВООБЩЕ – СЛИШКОМ, ПОВТОРЯЮ, КРУПНАЯ ПОРЦИЯ».
И. С. Аксаков
Это изменение отношения попытался объяснить И. С. Аксаков в письме Достоевскому 20 августа 1880 г.: «Столько было электричества, что речь сверкнула молнией, которая мгновенно пронизала туман голов и сердец и так же быстро, как молния, исчезла, прожегши души немногих. На мгновение раскрылись умы и сердца для уразумения, может, и неотчетливого, одного намека. Потому что речь ваша – не трактат обстоятельный и подробный, и многое выражено в ней лишь намеками. Как простыли, так многие даже и не могли себе объяснить толково, что же так подвигло их души? А некоторые – и, может быть, большая часть, – спохватились инстинктивно через несколько часов и были в прекомичном негодовании на самих себя! “А черт возьми, – говорил в тот же день один студент, больше всех рукоплескавший, моему знакомому студенту: – Ведь он меня чуть в мистицизм не утащил! Т-ак-таки совсем и увлек было!..” <…> Для меня понятен каждый ваш намек, каждый штрих, – ну а для читателя вообще – слишком, повторяю, крупная порция».
!
Пушкинская речь стала квинтэссенцией размышлений Достоевского и о творчестве Пушкина, и об исторической роли России, и о природе национального гения.
Перечислю основные тезисы Достоевского о роли Пушкина для русской культуры.
Достоевский связывает творчество Пушкина с ключевой для себя идеей почвенничества: «…Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы ее не верующего, Россию и себя самого (то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей) в конце концов отрицающего, делать с другими не желающего и искренно страдающего» («Дневник писателя», август 1880 г.). Эту же мысль он формулирует и в эссе «“Анна Каренина” как факт особого назначения»: «Другая мысль Пушкина – это поворот его к народу и упование единственно на силу его, завет того, что лишь в народе и в одном только народе обретем мы всецело весь наш русский гений и сознание назначения его. И это, опять-таки, Пушкин не только указал, но и совершил первый, на деле. С него только начался у нас настоящий сознательный поворот к народу, немыслимый еще до него с самой реформы Петра. Вся теперешняя плеяда наша работала лишь по его указаниям, нового после Пушкина ничего не сказала».
По мнению Достоевского, именно Пушкин дал нашей литературе типы народной русской красоты: «Он первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные» («Дневник писателя», август 1880 г.).
В Пушкине Достоевский видел идеал всемирной отзывчивости, который считал национальной русской чертой: «…особая характернейшая и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения – способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций, и перевоплощения почти совершенного». «Способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим, и, как совершеннейший художник, он есть и совершеннейший выразитель этой способности, по крайней мере в своей деятельности, в деятельности художника. Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению и уже проявил ее во все двухсотлетие с петровской реформы не раз. Обозначая эту способность народа нашего, я не мог не выставить в то же время, в факте этом, и великого утешения для нас в нашем будущем, великой и, может быть, величайшей надежды нашей, светящей нам впереди» («Дневник писателя», август 1880 г.).
Д. С. Мережковский в статье «Пушкин» так оценил значение речи Достоевского: «Все говорят о народности, о простоте и ясности Пушкина, но до сих пор никто, кроме Достоевского, не делал даже попытки найти в поэзии Пушкина стройное миросозерцание, великую мысль».
?
Почему именно Достоевский заметил «всемирную отзывчивость Пушкина», видя в ней главную черту национального гения русской литературы? Вероятно, дело в том, что сам Достоевский обладал тем же даром – улавливать сказанное другими и продлевать его, обогащая новыми смыслами.
«СПОСОБНОСТЬ ЭТА ЕСТЬ ВСЕЦЕЛО СПОСОБНОСТЬ РУССКАЯ, НАЦИОНАЛЬНАЯ, И ПУШКИН ТОЛЬКО ДЕЛИТ ЕЕ СО ВСЕМ НАРОДОМ НАШИМ».
Ф. М. Достоевский А. И. Теребенев. А. С. Пушкин. Модель статуэтки
Пушкин и герои Достоевского
Достоевский отсылает читателя к Пушкину в своем дебютном романе «Бедные люди». Варенька шлет Макару Девушкину «Станционного смотрителя», и эта повесть произвела на героя самое благостное впечатление: «Теперь я “Станционного смотрителя” здесь в вашей книжке прочел; ведь вот скажу я вам, маточка, случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад было, так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам всё помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. И наконец, вот отчего еще я полюбил вашу книжку: иное творение, какое там ни есть, читаешь-читаешь, иной раз хоть тресни – так хитро, что как будто бы его и не понимаешь. Я, например, – я туп, я от природы моей туп, так я не могу слишком важных сочинений читать; а это читаешь, – словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал всё подробно – вот как! Да и дело-то простое, Бог мой; да чего! право, и я так же бы написал; отчего же бы и не написал? Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился, как, примерно сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга. Да и сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же горемык сердечных! И как ловко описано всё!»
Достоевский соединяет две точки зрения:
?
Почему Макару Девушкину так понравилась повесть Пушкина? Потому что он уловил в ней сочувствие главному герою, с которым себя отождествил. Так пушкинский текст становится способом характеристики Девушкина, нуждающегося в человеческом сострадании.
Другой пример пушкинского влияния – образ князя Мышкина. В эпоху Достоевского в Пушкине видели идеального человека, соединявшего душевное здоровье и внутреннюю гармонию. Напомню определяющие черты Пушкина по Достоевскому:
1. Гармоничность.
2. «Всемирная отзывчивость».
!
А теперь сравним с Мышкиным (даже на фонетическом уровне его фамилия созвучна с Пушкиным).
Мышкин умеет стилизовать разные почерки, «переводя» стиль иностранных древних букв в начертание современных русских прописей. Многообразие почерков у Мышкина – своего рода синоним «всесветности» характера героя, заимствованной у Пушкина. Например, Мышкин рассуждает о почерке и семантическом значении стилей: «…это круглый крупный французский шрифт прошлого столетия… шрифт площадной, шрифт публичных писцов… Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно…» Фактически перед нами метафора переосмысления Пушкиным французской литературы в контексте литературы русской.
Эпизод же, когда Аглая цитирует пушкинское стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный», играет двойную роль: он не только подчеркивает образную связь Мышкина с героем пушкинской лирики, но и становится отсылкой к сверхтипу Дон Кихота, выразителем которого является князь. Эту мысль я раскрою во второй лекции.
Пушкинские тексты как криптографический шифр Достоевского
Достоевский использовал многие произведения, включая пушкинские, в виде скрытых цитат, чтоб донести свою авторскую позицию, не довлея над героями, не используя свое авторское превосходство над ними и не позволяя читателям почувствовать свое превосходство над героями незаслуженно, избегнув читательского труда. Сам Достоевский в заметках от 22 марта 1875 г. написал про свое требование к читателям: «Говорят, что Оля недостаточно объяснила, для чего она повесилась. Но я для глупцов не пишу».
Значение реминисценций в произведениях Достоевского раскрыто в трудах К. А. Баршта и Т. А. Касаткиной. Я покажу несколько примеров криптографии, построенной на скрытых цитатах из Пушкина, в «Легенде о Великом инквизиторе», вставной истории, авторство которой приписано персонажу романа «Братья Карамазовы» – атеисту Ивану Карамазову.
Сюжет такой: Христос является повторно, народ Его узнает, но, когда Великий инквизитор велит Его арестовать, никто не заступается за Него. Ночью же старик укоряет Узника за то, что Он возложил на людей непосильное для них бремя свободы. Христос ни словом не возражает ему, а в конце монолога инквизитора целует его и, не сказав ни слова в ответ, уходит. Достоевского даже упрекали в избыточной убедительности аргументов Великого инквизитора. Но правы ли были критики?
Перед писателем стояла сложнейшая художественная задача: дать авторскую точку зрения в произведении, написанном персонажем – оппонентом автора. И Достоевский решает эту задачу, прибегнув к пушкинским реминисценциям. Их подробно комментирует Т. А. Касаткина, я же приведу несколько ее примеров, в свете которых произведения Достоевского предстают как хитроумный филологический детектив.
Вот первая скрытая цитата: «Проходит день, настает темная, горячая и “бездыханная” севильская ночь. Воздух “лавром и лимоном пахнет”». Слова, взятые Достоевским в кавычки, расшифровываются как измененная цитата из «Каменного гостя» Пушкина:
Приди – открой балкон. Как небо тихо;
Недвижим теплый воздух – ночь лимоном
И лавром пахнет…
Но откуда взято слово «бездыханная», тоже закавыченное в оригинальном тексте? А оно – из последней строфы «Отрывков из путешествия Онегина»:
И бездыханна и тепла
Немая ночь.
«ГОВОРЯТ, ЧТО ОЛЯ НЕДОСТАТОЧНО ОБЪЯСНИЛА, ДЛЯ ЧЕГО ОНА ПОВЕСИЛАСЬ. НО Я ДЛЯ ГЛУПЦОВ НЕ ПИШУ».
Ф. М. Достоевский
К этому тексту Достоевский обращался и в своей публицистике. В частности, в первом номере «Дневника писателя» за 1876 г. есть главка, в названии которой читаем: «Дети мыслящие и дети облегчаемые. “Обжорливая младость”». «Обжорливая младость» взята из тех же «Отрывков путешествия». Содержание же главки таково:
«Жаль еще тоже, что детям теперь так всё облегчают – не только всякое изучение, всякое приобретение знаний, но даже игру и игрушки. Чуть только ребенок станет лепетать первые слова, и уже тотчас же начинают его облегчать. Вся педагогика ушла теперь в заботу об облегчении. Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. Две-три мысли, два-три впечатления поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то ни се, ни доброе ни злое, даже и в разврате не развратное, и в добродетели не добродетельное.
Что устрицы, пришли? О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать…
Вот эта-то “обжорливая младость” (единственный дрянной стих у Пушкина потому, что высказан совсем без иронии, а почти с похвалой) – вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается же? Скверная младость и нежелательная, и я уверен, что слишком облегченное воспитание чрезвычайно способствует ее выделке; а у нас уж как этого добра много!»
Таким образом, маркировав описание места действия единственным словом из пушкинского текста, Достоевский выявил двойственность «детской» проблематики, связанную с образом Ивана Карамазова:
Иван бунтует против Божьего мира, потому что в нем страдают дети;
Великий инквизитор утверждает, что люди – это в основном дети, и взрослая ответственность, возложенная на них Христом, невыносима для них. Инквизитор скажет, что есть лишь сотни тысяч взрослых, способных взять на себя ответственность за судьбы миллионов детей. Свою миссию и заслугу, даже мученичество инквизитор видит именно в том, чтоб принять на себя бремя ответственности, пусть и возложенное Христом не лично на него, а на все человечество.
Однако и связь с «Каменным гостем», заявленная в других скрытых цитатах, также неслучайна.
Например, имя главного героя пушкинской трагедии – Гуан – совпадает с именем Ивана, который также в своей Легенде использует отсылки к «Каменному гостю», на которых я сейчас останавливаться не стану.
Показательны наблюдения Касаткиной, связанные со словом «стогны» (то есть площади). В «Легенде…» оно встречается дважды – и оба раза в кавычках:
1. «Он [Христос] снисходит на “стогны жаркие” южного города» – в начале «Легенды…».
2. «И выпускает его [Христа] на “темные стогна града”» – в конце «Легенды…».
!
Во всем корпусе русской литературы и в творчестве самого Достоевского это настолько редкое слово, что в ткани «Легенды…» оно, безусловно, играет криптографическую роль, отсылая к тем малочисленным текстам, в которых оно встречается.
Во втором случае исследователи соотнесли «темные стогна града» со стихотворением Пушкина «Воспоминание» (1828). Оно начинается так:
Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень <…>.
Далее описывается состояние лирического героя, которое близко и Великому инквизитору. Завершается же стихотворение так:
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Сравните с финалом «Легенды…»: «Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее». Таким образом, стихотворение Пушкина становится комментарием к состоянию инквизитора, одновременно и несчастного, и убежденного в своей правоте.
Но с каким текстом связаны «стогны жаркие» в первом случае? Касаткина указывает, что в Библии это словосочетание используется единожды в Евангелии от Луки: «Изыде скоро на распутия и стогны града» (Лк. 14:21). Это цитата из притчи о званых и избранных, о тех, кто будет удостоен Небесного Пира. Инквизитор бросил обвинение Христу: «К тебе придут лишь сильные и избранные, а для слабых у Тебя нет ни счастия на земле, ни места в царствии Твоем».
Суть же евангельской притчи в том, что, когда на пир к хозяину не пришли многие званые, он послал раба своего в город за больными, нищими и увечными. И Христос в «Легенде» пришел на «стогны» за теми слабыми, о судьбе которых сокрушается инквизитор, полагая, что он и подобные ему позаботятся о них лучше Бога. И в свете этой притчи поцелуй Христа выглядит как прощальный, потому что инквизитор из тех, кто добровольно отказался от Пира Небесного.
Так, единственным словом, одновременно относящимся к Пушкину и Евангелию, Достоевский разбивает все аргументы и Ивана Карамазова, и Великого инквизитора.