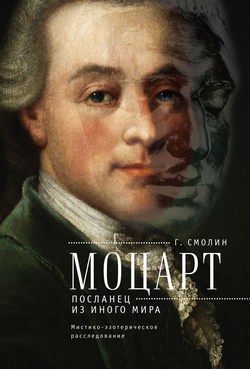Читать книгу Моцарт. Посланец из иного мира - Геннадий Смолин - Страница 10
Часть первая
Noblesse oblige[1]
Noblesse oblige[4]
Оглавление«Самым непримиримым образом люди ненавидят освободителей духа, самым несправедливым – любят…»
Ф. Ницше
Наконец, с последним presto победа достигнута. Да, дитя родилось на свет; но муки родов были ужасны. То была не триумфальная песнь, но вздох усталости, вздох облегчения, вздох сомнения в ценности победы – любой ценой…
Едва коснувшись моего слуха, музыка захватила меня целиком, проникла в каждую клеточку тела: океан звуков хлынул сквозь меня, смывая на своём пути все преграды, разъедая мою плоть, мою кровь, мои кости, все мои мысли, все чувства. Тело моё – в привычном виде – больше не существовало. Его подхватила энергия, имя которой – Вольфганг, закрутила в бешеном вихре, смяла, разорвала на части и принялась лепить сызнова, придавая ему все новые формы. Так превращается в бабочку гусеница, заточённая в коконе, так море бьётся о песчаный берег, меняя его облик. Но те перемены, что творились со мной, были во сто крат сильней. Ибо я и был морем звуков. Волны – нет, огромные валы! – радости, страха, отчаяния подхватывали и швыряли меня. Меня? Но что есть я? Меня не было!
Тем временем моя собственная жизнь шла своим странным чередом.
Раз в неделю, по понедельникам, в восемь двадцать утра я выбирался из своей квартиры, что находилась в Лиховом переулке, садился в метро и отправлялся до станции «Белорусская». Пешком преодолевал расстояние в километр – полтора – шел к своему лечащему врачу. Поликлиника была в старом здании, там шел какой-то вечный ремонт. Смотрелся у врача, который продлевал мне больничный лист и возвращался домой. Мне нельзя было надолго покидать Моцарта.
С каждым новым выходом в мир я тяготился им все больше и больше и всякий раз чувствовал огромное облегчение, когда возвращался к себе в Лихов переулок. Бросал выписанный эскулапом рецепт в ящик стола, а больничный лист водружал на видное место.
Удивительно, но мне хватало на сон всего четырёх-пяти часов. И в одежде я не делал особых изысков: носил одно и то же – потертые синие джинсы и такую же куртку. Спал я, часто не раздеваясь, – в кресле у стола или заваливался под плед на диване. Подремав и восстановив силы, я вставал и, загрузившись очередной порцией кофе, принимался за работу.
Постепенно стало теряться ощущение времени. Меня вообще ничто не волновало, кроме моего расследования и какой-нибудь весточки от Веры Лурье.
И вот случилось: я обнаружил в почтовом ящике конверт из Германии, подписанный каллиграфическим почерком, мне уже хорошо известным. Именно этой рукой был выведен перевод писем от профессора Гвидо Адлера композитору Борису Асафьеву.
Разорвав конверт, я стал читать:
«Мне нанесли визит двое отвратительных мужчин в сером. Они знают про Вас и пакет с рукописями, которые я передала. Существуют и другие документы, но они хранятся не у меня. Думаю, что Вас найдут и передадут все до листочка. Настройтесь ещё на одну поездку в Вену. Место встречи у храма св. Стефана.
Вам ничего не говорит имя графа Дейм-Мюллера?
Берегите себя, Макс. По моим предчувствиям ваша жизнь в опасности. Постарайтесь не выходить на контакт со мной. Я у них под надзором. Не хочу впутывать вас в новые неприятности. Молю Бога о том, чтобы когда-нибудь вы простили меня за то, что я втянула Вас во все эти смутные дела.
Дорогой Макс, да хранит вас Господь. В. Лурье».
Открытка, присланная Верой Лурье, показалась мне тяжелее куска кирпича. Как раз тогда, когда мои мысли стали выкристаллизовываться и оформляться в нечто законченное, и забрезжила реальная надежда расшифровать «моцартову» головоломку, возникли новые препятствия, барьеры, а вязкая, липкая трясина неопределённости снова стала засасывать меня в свою воронку…
Изучая жизнь графа Дейма, я узнал, что он тоже помешался на Моцарте. Я решил как-нибудь при случае расспросить Веру Лурье об этом скульпторе, художнике и неординарном человеке…
Время текло незаметно, как вода в реке. На изучение Моцарта было потрачено полтора месяца, и все только начиналось. Погружаясь в сферы, связанные с жизнью и смертью великого композитора, я с покорным равнодушием замечал, как угасает мой интерес к моей вчерашней жизни. Меня волновало лишь то, что было связано с Моцартом.
Меня уже перестала занимать проблема: почему именно мне, а не кому-нибудь еще, Вера Лурье отдала эту рукопись?
Мысленно я возвращался то к беседе по душам у шефа, то к тому человеку в сером, который прицепился ко мне в Шереметьево-2, или к астматику с его прямыми угрозами в мой адрес на Ваганьковском кладбище. Вопрос – кто эти люди и чего им от меня нужно?
Мне приходилось встречать тайных агентов всех мастей, рядившихся то под спортсменов, то под коллекционеров книг, картин, икон и прочего антиквариата – да под кого угодно! Но эти люди в сером не подходили ни под один из стереотипов, включая даже киношного персонажа американского триллера с комедийным уклоном.
Что там, в депеше от Веры Лурье? Ах, да! Ей нанесли визит «двое в сером», причём не для светской беседы, а судя по письму – по более серьезному делу. С точки зрения дилетантов, все это походило на дурацкий телевизионный «Розыгрыш»… Ну, кому понадобилось гоняться за рукописью из прошлого века, касающегося давно умершего композитора? Мне этого было не понять, даже если остроту вопроса разбавить рюмкой водки. Кстати, у протокольной службы есть такая форма официального решения: ответа не будет. Так и в моём случае с Вольфгангом Амадеем Моцартом.
Во мне боролись два начала: наряду с пламенной страстью к изучению Моцартовой проблемы, я был недоволен баронессой Лурье за то, что она втянула меня в эту историю…
На память пришли воспоминания об особняке графини под Берлином, где я почувствовал и осознал себя настоящим человеком, и где я растаял от счастья.
А что сейчас?
Я, будто сыскарь из частного бюро, ушёл с головой в работу, в это детективное расследование, и с одержимостью диссертанта строю подлинную биографию Моцарта. Прошло несколько недель, а квартира моя стало более походить на прибежище бомжей, нежели интеллигентного человека, занимающегося научными исследованиями. Завалы из исписанных бумаг, журналов, книг, неубранного бытового мусора. Куда ни посмотришь – пустые бутылки вперемежку с грязными тарелками, чашками и остатками еды.
Не найдя нужной статьи из медицинского журнала, в которой говорилось о болезни Вольфганга, я пришел в неописуемую ярость. Опрокинул полки с книгами, которые как домино рассыпались на полу. Я ещё долго кричал, топал ногами, проклиная всех сразу: Веру Лурье, незнакомцев в серых одеждах и, разумеется, свою персону. Ещё такой срыв – и можно записываться к психиатру на прием…
Я почувствовал, что сторонюсь дневного света, и оживаю в сумерках, особенно ночью. Поэтому в яркий солнечный день я старательно драпировал окна, чтобы ни лучика света не проникало с улицы. То ли это была мания преследования, то ли светобоязни. Зато когда на небе царила полная луна, я раздвигал шторы и через щелку тщательно всматривался в свой двор-колодец с коллектором для мусора, стараясь заметить подозрительных субъектов.
Я перешёл на иное поведение – строгую конспирацию. Вечерами, ночью или, когда был день, особенно сумрачный, я использовал настольную лампу или ночник над кроватью. Они давали света столько, чтобы разобрать слова на странице листа или книги.
Так я жил-существовал во тьме-забытьи, в которое проваливаешься под тяжестью страшной усталости. И вообще внешний мир потерял для меня свой смысл. Как бы перестал существовать. Я хотел одного: оставаться одному, чтобы ничто и никто не отвлекал меня от моей работы над документами, книгами и рукописью.
Я внушал себе, что терять мне нечего, кроме своих цепей. Тем более, что до России им, голубчикам, не дотянуться – руки коротки. Хотя, что это я? Они наверняка уже обложили меня, как сибирского медведя в берлоге: за мной ведётся «наружка» – наружное наблюдение, телефонные переговоры прослушиваются, передвижения контролируются. …Так что за моим самовнушением скрывался подленький страх, страх перед неизвестностью, какого я никогда прежде не ведал. Я, возможно, тронулся бы, если бы не работа, за которую я крепко ухватился: некогда было продохнуть. Много усилий требовалось по сбору всей возможной информации, касающейся великого маэстро.
Мне до нестерпимости хотелось досконально познать тот мир и то время, в котором Моцарт родился, вырос и стал великим. Гением. Чем больше я читал о нём и о том времени, тем быстрее он оживал, превращаясь в реального человека.
На мои глаза попалась имя 33-летнего Игнаца фон Борна ученого-минералога. За полгода до смерти Моцарта, 25 июля 1791 года, в жестоких конвульсиях погиб этот борец с престолами и католическими князьями. Мне нужно было разузнать все о тайных обществах, масонских ложах, движущей силой которых в Вене, да и в Австрии, был неподражаемый Игнац фон Борн.
Итак, Моцарт, обосновавшись в Вене, считался с духом своего времени и вступил в столичную масонскую ложу. Вряд ли его сущность претерпела изменения после этого.
5 декабря 1784 года ложа «К благотворительности» известила венские сестринские ложи о приёме в свои ряды «капельмейстера Моцарта», последовавшем 14 декабря (ученик). Стремительно пройдя низшие градусы, знаменитый адепт уже 7 января 1785 года стал подмастерьем, а 22 апреля того же года Вольфганг получил доступ в ложу мастеров. Это позволяет заключить о присуждении ему тогда 3-го градуса посвящения, – поистине головокружительная карьера всего за несколько месяцев, тогда как простому смертному для этого понадобилось бы неизмеримо большее время! Магистром ложи, куда вошел Моцарт, был писатель Отто Франц фон Гемминген-Хорнберг, мангеймский покровитель Моцарта в 1778 году.
Чисто по масонской тематике Моцарт коснулся эзотерических сфер в шести сочинениях – всего лишь сотой части его музыкального наследия. На время первого масонского взлёта приходят и соответствующие сочинения. В основном это песни и кантаты, например, «Gesellenreise» («Путешествие ученика» (масона)), «Die Maurerfreude» («Радость масона»). В ноябре 1785 года, по случаю смерти одного из братьев масонов, было исполнено оркестровое сочинение «Maurerische Trauermusik» («Масонская траурная музыка»).
Впрочем, ещё исследователь-биограф Отто Ян указывал, что принадлежность к масонству не принесла великому мастеру никакой ощутимой пользы.
Более того, смерть Моцарта попадает в настораживающее соседство с двумя особыми событиями: премьерой «Волшебной флейты» 30 сентября и освящением второго храма венской ложи «Вновь венчанная надежда» 18 ноября 1791 года.
Вернемся ко времени правления императора Иосифа II, который, по инициативе Игнаца фон Борна, отдал распоряжение о слиянии восьми лож в две. Каждая из этих двух тайных организаций насчитывала по 180 членов! Ложа Моцарта «Благотворительность» растворилась во «Вновь венчанной надежде». Это произошло в середине января 1786 года. Магистром здесь был барон Филипп фон Геблер. Во главе другой сохранившейся ложи стоял виднейший минералог Игнациус Эдлер фон Борн, который помимо естественнонаучной деятельности в «Journal fur Freymaurer» («Журнал для масонов»), им же и основанном, отдавал дань своему нешуточному увлечению Древним Египтом и таинствами. Надо сказать, большинство значительных фигур из окружения Моцарта – как друзья, так и враги – входили в какую-нибудь ложу. Доказано, что Готтфрид ван Свитен был иллюминатом. Антонио Сальери, соперник Моцарта, как и все высокопоставленные государственные чиновники, мог входить в одну из лож, тот факт, что его имя отсутствует в их списках, ни в коей мере не противоречит такой возможности.
Присутственные протоколы других лож также характеризуют Моцарта рьяным адептом, по крайней мере – вначале. Но этот энтузиазм, по-видимому, уже в 1785–1786 годах пошёл на убыль. За это время написаны пять масонских сочинений из шести, затем подобных опусов в списке Моцарта не значится, за одним, правда, исключением. Незадолго до смерти по случаю освящения храма прозвучала кантата «Laut verkunde unsre Freude» («Громко возвестим нашу радость», К. 623), – что с вероятностью, граничащей с истиной, произошло не без внешнего давления (менее всего Моцарт должен был скончаться как Христос, но обязательно «правоверным братом».
Когда в 1786 году на подмостках прошел «Фигаро» и аристократия увидала, как этот молодой человек самым унизительным образом позволил себе проявить к ней пренебрежение, то от великосветского бойкота его уже не могло спасти никакое идеологическое пальтецо.
Стал ли впоследствии Моцарт противником ложи? На этот вопрос вряд ли можно ответить утвердительно. Скорее всего, он просто стал безучастным к её делам. 20 февраля 1790 года умер император Иосиф II – по достоверным источникам, «братом» он не был, но ложи-то терпел! – на трон вступил Леопольд II, и вскоре подул ледяной ветер перемен. Масонов стали называть… врагами порядка, религии и императорского дома. Большинство членов ордена просто покинули ложи. Весьма возможно, что под давлением именно этих обстоятельств форма «Волшебной флейты» претерпела свой решающий поворот.
5 декабря 1791 года исполнялось ровно 7 лет, как Моцарту было предложено вступить в «Благотворительность». Семь лет созидательной работы над так называемым «Соломоновым храмом» (См. Третью книгу Царств (6, 38)), завершились, день в день. Справившись в срок, архитектор храма Адонирам – именно под таким именем, наделённый отличиями высшего градуса шотландского обряда, неожиданно является Моцарт в циркулярном письме ложи от 20 апреля 1792 года – закончил свой жизненный путь.
На могиле Моцарта не было ни одного из его братьев по ложе, и никто не сказал ему слов благодарности за «Волшебную флейту».
На следующий день после смерти Моцарта покончил жизнь самоубийством его друг и «собрат» Франц Хофдемель; и конечно, не потому, что, как утверждали злые языки, «госпожа Хофдемель ждала ребёнка от покойного Амадея».
Устав проекта моцартовского «Грота» утерян безвозвратно.
Музыковед Бошо говорит о маленькой «Sonate facile» («Лёгкая соната») C-dur следующее:
«Это чудо простоты и волшебной выразительности. Можно ли с меньшим количеством нот быть более трогательным и разнообразным?»
В сонате все время слышатся только два голоса. Внешне – прозаическое ничего, а вот внутри, в глубинах! Под простейшей оболочкой заключён целый Ниагарский водопад формы и содержания.
Я понял только, что изучение Моцарта требует очень серьезной музыкальной культуры и прежде всего подготовки. Чем больше я читал о музыке Вольфганга, тем больше хотел её слушать. Как иначе можно понять суть личности композитора – того, кто жил работой, музыкой?
День и ночь я слушал его произведения, слушал и боялся, что теперь не смогу без неё и минуты прожить. Музыка же Моцарта почти в полном объеме остается абсолютно доступной для каждого, слушающего её сердцем – независимо от его культурного уровня и музыкальной образованности. Лёгкий и приятный стиль, который сохраняется даже в самых трагических и таинственных фрагментах музыки, приводит к тому, что она остается открытой и народной, то есть понятной всем без исключения.
Сознавал ли Моцарт, кто он вообще есть? Знал ли, что писал? Можно ли, требовать от него отчета за содеянное в жизни? Некий ранний почитатель связал с ребенком Моцартом слова гомеровского гимна Гермесу: пораженный Аполлон внимает чуду игры на арфе младого Гермеса и вопрошает, кто дал ему этот благородный дар божественного пения, смертный или Бог: никогда доселе не звучали столь чудные звуки. Так и мы поражаемся сначала ребенку, затем взрослому Моцарту: он был и остается посланцем из другого мира.
Право же, было от чего свихнуться. Втыкаешь в уши наушники – и твое тело, разламывающееся на части, и голова, страдающая от диких головных болей, – все это вдруг приходило в некую гармонию и согласие. И я продолжал слушать Моцарта, время от времени задаваясь вопросом: что за дивная энергия поддерживает меня? Ведь требовалась масса сил, чтобы продолжать заниматься тем, чем я занимался. Без устали и практически без сна!
Доходило до курьёзов. В период напряжённой работы, чтобы передохнуть, я закрывал глаза и воочию видел его великолепную голову с большими голубыми глазами и мясистым носом, – маэстро что-то колдовал над моим кухонным столом.
Иногда я видел его маленьким изящным вундеркиндом Вольферлем, одетого в костюм из тончайшего драпа лилового цвета, с таким же муаровым жилетом; и весь комплект был отделан широким золотым галуном. Он играл в четыре руки в Шёнбрунне с сестрой Нанерль под одобрительные взгляды жены императора Марии Терезии. Как хотелось маленькому вундеркинду выглядеть аристократом, но он был всего лишь диковинной забавой или игрушкой для высокопоставленных особ. В великосветских гостиных вундеркинда Моцарта, наверное, держали за ряженую обезьянку. Встань, зверушка, на задние лапки, сыграй нам на клавесине втёмную, без нот и клавиатуры. Ну-ка, ну-ка… Ай да, молодец!
Представляя себе эту картину, я вспоминал великого Гёте, который в молодые годы бывал на представлениях маленького волшебника из Зальцбурга. Удивительно, что юный Вольфганг прекрасно понимал: его просто-напросто использовали! Вот почему он с такой страстностью разорвал отношения с деспотом и самодуром архиепископом Зальцбурга Иеронимом фон Коллоредо.
Читая книгу за книгой, я перелистывал страницы жизни Вольфганга, изучал его письма и не мог избавиться от мысли о том, что он всегда стремился пройти все тернии в своей судьбе, поскольку знал, что он велик и недосягаем. Мечтал найти для своих шедевров подмостки и поклонников. Но творческая атмосфера, царившая на столичной сцене с её интригами, заговорами и подковёрной борьбой приводили к тому, что Вольфганг постоянно оказывался у разбитого корыта.
Мы стали так близки с Моцартом, что я иногда спрашивал себя:
«Господи, может, Вольфганг – это я, а написанные книги, статьи, эпосы – всё это обо мне?»
Как-то раз мне на глаза попалась репродукция Зюсмайра. Она, естественно, была сделана в девятнадцатом веке, в конце столетия. Зюсмайр выглядел напыщенным и самовлюбленным человеком, на лице которого было написано, что он тщеславный карьерист и доносчик. Франц Ксавер к тому же был молчун или был тем тихим болотом, где черти водятся. А поза, в которой он был запечатлен художником, заложив одну руку за борт сюртука, – ни дать, ни взять его учитель А. Сальери! В другой руке он сжимал дирижерскую палочку. У Зюсмайра были оловянные рыбьи глаза, которые оживлялись, наверное, только в присутствии вельможных особ. Такими глазами на мир смотрят люди хитренькие, себе на уме. Когда я разглядывал фото с редкой репродукции Зюсмайра, мурашки пробежали у меня по телу. Неудивительно, что Моцарт называл своего секретаря Свинмайром и рекомендовал домашним подвергнуть его экзекуции: отвесить ему пару-тройку затрещин и побольнее – с оттяжкой. Чем так прогневил ученик своего учителя, откуда такой черный юмор?
Чем больше я читал о Вене того периода, когда в ней жил Моцарт, тем больше убеждался, что Моцарт любил этот город. Скоро и я уже грезил по той австрийской столице, которая безвозвратно канула в Лету.
Думаю, Вольфганг жил там по одной-единственной причине: Вена в то время была музыкальной столицей мира. Понятно, что Моцарт при всяком удобном случае выбирался из Вены в Прагу, в города-княжества Германии, в Италию, Англию и даже собирался к нам, в Россию. Естественно, это не была страсть к путешествиям, а реальная возможность найти место капельмейстера у какой-нибудь высокопоставленной особы. Но всё было тщетно.
Я лишь мог гадать, где прогуливался композитор. Конечно же, в Пратере – об этом написано везде. Тогда по каким местам совершала променад баронесса Вера Лурье?..
Чем больше я узнавал о Зюсмайре, о его адюльтере с Констанцией, тем яснее становилась картина. Сразу же после смерти маэстро он и вдова композитора стали разбирать архив Моцарта, принявшись немедленно уничтожать письма, документы, бумаги, хоть как-нибудь компрометирующие Констанцию. Поскольку они тогда ещё действовали сообща, то тем очевиднее становилось: Франц Ксавер действовал преднамеренно, стараясь утаить правду о Вольфганге Амадее. Всё, что касалось отношений Вольфганга с коллегами по сцене, женщинами, с секретарём Зюсмайром. И то, где было видно, что композитор состоял в тайном обществе. И все это делалось, наверняка, по указке сверху.
Моя миссия была однозначной: узнать хоть мизер этой правды, пусть даже необходимые документы оказались уничтоженными.
О Магдалене Хофдемель мне удалось выяснить в основном то, что Вольфганг её боготворил и любил её. Я настолько сильно привязался к этой загадочной фигуре, что она тоже стала являться в моих сновидениях. Поначалу это был лишь смутный образ. Она «приходила» в мою квартиру в Лиховом переулке, как мимолетное видение – обворожительная фея, черты лица которой я не успевал толком разглядеть.
Но со временем визиты Марии Магдалены стали продолжительнее. Иногда я просыпался, отчетливо помня: да, я только что виделся с ней. Это отнюдь не доставляло мне радости. Напротив, я испытывал страх – помимо моей воли какая-то сила увлекала меня в пропасть, в бездну. И хотя эта бездна сулила обернуться половодьем наслаждений, я сопротивлялся, ибо боялся, что всё это меня поглотит.
И вот однажды ночью мне удалось довольно хорошо рассмотреть Магдалену Хофдемель. Мне снилось, как будто я иду по улицам Вены, той Вены, в которой жил Моцарт, и прохожу мимо высокого здания – скорее всего, то была городская ратуша. Город отмечал роскошный праздник. Скорее всего, это было Рождество, так как ратуша была украшена золотыми, зелеными и красными тканями; изо рта шел пар и воздух казался студеным. Я одиноко брел по улице, повсюду высматривая Вольфганга. Неожиданно из-под высокой железной арки со стороны фасада навстречу мне вышла женщина и взяла меня за руку. Я узнал Марию Магдалену. Её наряд поразил меня: длинное, мягко облегающее фигуру платье тех же цветов, что и украшения на ратуше. Плечи почти полностью обнажены. Бежевый лиф контрастировал с нижней частью платья – по цвету и по текстуре. Он был выполнен из необычного материала и сверкал на солнце, словно сусальное золото куполов. Я почувствовал, что меня тянет к ней, и нет мочи противиться. Магдалена Хофдемель влекла меня к себе подобно тому, как влекут джунгли, изумрудно-таинственные, непроходимые, полные животных и птиц. Я подался вперед, чтобы коснуться сверкающего кофейного лифа Марии Магдалены, но моя рука прошла сквозь ткань, как, впрочем, и сквозь тело женщины, не встретив препятствия, как будто передо мной находилась поверхность волшебного зеркала, открывающего путь в параллельный мир…
Внезапно я проснулся. Неужели Магдалена Хофдемель, есть частица иной субстанции, или, проще говоря, недосягаемый идеал женщины вообще? А может, само провидение было заинтересовано в том, чтобы представить Марию Хофдемель чуть ли не пенорождённой Афродитой. Я решил расспросить об этом баронессу Веру Лурье, когда мы вновь встретимся.
Чем дольше я вчитывался в текст писем самого Вольфганга, в написанные о нём книги, чем дольше наслаждался его музыкальными сочинениями, тем сильнее задумывался: практически все, что создал Моцарт – это громадная, неслыханная по размерам галактика. И чем дольше его изучаешь, тем более обнаруживаешь сложность и божественность его музыки, которая только начинает открываться.
Лёгкое и беспечное на поверку оказывается пессимизмом, скорбью – проблемой, тайной за семью печатями. «Прозрачность» и «лёгкость» Моцарта – это «прозрачность» и «легкость» внешняя, как у Пушкина – только обманчиво-кажущаяся, а в ней заключена величайшая значительность и полнота. Моцарт – самый малодоступный, самый скрытый, самый эзотерический композитор. Загадочность его личности, скрывавшей под оболочкой грубого балагурства и смешных шуток свои неизведанные глубины, соответствуют загадочности его музыки. И чем больше я вникал в его вселенную, тем более убеждался: как мало ещё осмыслил ее, как мимолетно ощутил душой…
Кстати сказать, я день ото дня погружался всё глубже и глубже в состояние отрешённости от мира, в некий психологический анабиоз.
Нетрудно было догадаться, что я оказался и физически и нравственно порабощен. В первую очередь, конечно, Моцартом, его музыкой, душой маэстро, но не только этим одним. Пожалуй, в не меньшей степени – проекцией его гигантской тени от его могущественного образа, сотканного за двести прошедших лет моцартоведами всех мастей…
Мне стало страшно. Причём, этот был другой страх, – не тот, конкретный, что я испытывал в критические минуты жизни. Там страх был управляем, его можно было преодолеть – нужны были только психофизические тренинги. Преодолеешь страх – и ты благополучно достигнешь цели. Но этот, теперешний, страх был иным. Он не имел вектора и более того, был бесформенным, всепроникающим – достигал каждой клетки души и тела. По мере того как я выстраивал свою собственную версию биографии Моцарта, мой страх превращался в беспощадный молох или гнёт.
Я спасался работой и рассчитывал, что при таком подходе не останется сил для «размышлений на лестнице», особенно по поводу: что произойдет со мной, когда в жизнеописании Вольфганга Амадея Моцарта будет поставлена точка?
Наконец, этот момент настал. Для этого пришлось проглотить и переварить дюжину фундаментальных трудов, перелопатить гору первоисточников: документы, письма, свидетельства современников, записи музыкальных произведений Моцарта. Сведения зачастую были противоречивыми, но всё-таки удалось собрать кучу фактов. Вот какую работу понадобилось проделать в поисках ответов на вопросы: кто такой Вольфганг Амадей, кем он был и что за тайна скрывается под именем «Моцарт и его жизнь». Вероятно, это очень большая тайна, иначе, зачем было Зюсмайру и Констанции уничтожать письма композитора, перетасовывать его музыкальное наследие, прятать «неудобные» документы или свидетельства современников композитора? Надо признать, что не вся интересующая меня информация была уничтожена или засекречена.
Когда я заканчивал излагать тезисы по теме «Жизнь и смерть Вольфганга Моцарта», у меня вдруг отлегло от души. Непонятная болезнь отступила, или же дала мне передышку. Перестали мучить мигрени, ушел звон в ушах, перестали мельтешить мушки перед глазами.
Мне пришлось честно признаться: методика, которой я владел, и весь мой опыт технаря и гуманитария ни на шаг не приблизили меня к цели: я не сумел избавиться от своей навязчивой идеи, от преследовавшего меня образа Вольфганга Амадея – образа человека, которого я никогда не знал.
Но какие-то могучие силы принуждали меня копаться во всем: в деталях, нюансах той далекой жизни Вены эпохи великого Моцарта. Но взамен потраченным усилиям я получал не эстетическое наслаждение, а наоборот – ощущал себя выбитым из привычной колеи, зависшим между небом и землей. Но стоило мне сделать перерыв в моём марафоне, как вернулись мучительные проявления болезни. Пришлось продолжить свои изыскания по Моцартовой теме.
Два месяца я не листал газет, не смотрел новостные программы по телевидению, а общался лишь со своим беспрерывно курящим врачом, которого продолжал посещать раз в неделю. Пару раз встретился с Анатолием Мышевым, интересуясь, когда он закончит перевод рукописи. А он не торопился и тянул резину с моим заказом.
Раз или два в неделю я выбирался из своей мрачной обители в Лиховом переулке на свет Божий и направлялся либо в «Иностранку», либо в «Ленинку», либо в Центральный архив литературы и искусства. Все эти объекты были надежно защищены от моих преступных посягательств – оттуда украсть мне ничего не удавалось. Вороша документы, извлекая на свет божий письма, написанные сто лет назад, я диву давался святой наивности тех людей, которые жили, смеялись, любили в начале прошлого века.
Занимаясь масонской темой в центральном архиве литературы и искусства, я наткнулся на предсмертное письмо Виктора Петровича Обнинского, да-тированное 20 мартом 1916 годом. Член Государственной Думы В. П. Обнинский состоял в масонской ложе, написал пророческую книгу «Последний самодержец». Его «лебединая» депеша было обращена к Рашель Мироновне Хин-Гольдовской, писательнице и близкому другу Обнинского.
«Ещё и эту беду приходиться Вам пережить, – сообщал он Р. М. Хин-Гольдовской, пометив на конверте, чтобы сию депешу вручили адресату после того, как гроб опустят в могилу. – Но отнеситесь к моему уходу с мудростью. Вы все знаете. Вы видели, как долго я боролся с судьбой, и Вы знаете, что утрата большой привязанности может разбить и более крепкое сердце, чем моя жизнь. Благодарю Вас за все, за дружбу, за мягкость, за постоянное снисхождение к своему эгоистическому другу. В моей жизни Вы занимали очень большое место. Мне очень тяжело оставлять немногих людей и Вас, конечно же, в том числе. И Вас тяжелее оставлять, потому, что оставшимся, я твердо верю в это, своей смертью я приношу счастье. Я умираю без злобы на кого бы то ни было. Виновных, поистине нет, и Вы, милый друг, никого не вините за меня. Обнимаю Вас всех. Устал, не могу жить, простите. Ваш всей душой Викториша».
Как человек интеллигентный, по-своему болеющий за Отечество, часто совершавший ошибки, а потому и сомневающийся, В. П. Обнинский видел недостатки самодержавия и оппозиции. Волею провидения он встал в ряды того славного ордена русской интеллигенции, которая, по словам Н. А. Бердяева, прозорливо сказавшего в эмиграции: «Вся история русской интеллигенции подготовляла коммунизм».
С точностью до наоборот случилось в 90-х годах прошлого века, когда, перефразируя Бердяева: вся история советского диссидентства подготовляла приход и становление нынешней олигархии, а Россия в который раз вновь оказалась на краю физической гибели…
Мне было тяжело переживать все это вновь – ворошить в памяти то, что я когда-то постарался забыть раз и навсегда. Увлекаясь в молодости тайными правительствами и изотерическими обществами, сплошь состоящими из высокомерных господ, взявших на вооружение мораль: цель оправдывает средства, к тридцати годам я был по горло сыт масонскими заговорами, потугами современного мондиализма. По сути своей коммунизм вышел из всего этого варева. Но когда он стал трансформироваться в нечто иное, вновь вступил в игру тот же Орден Русской интеллигенции. Все это я видел изнутри, поскольку значительную часть жизни я провёл среди таких же членов «ордена». И они нарасхват использовали меня в своих целях, да я и сам во многом был таким же. Самое страшное в них было их кредо: презрение к жизни простого отдельно взятого человека, животного, растения и мира в целом.
Я радостно бежал следом за своими идеологическими командирами, дыша им в спины и считая, что все вот-вот изменится, а кругом будет настоящая свобода и демократия. Но потом был август 1991 года, защитники Белого дома, трое молодых ребят, нелепо погибших под гусеницами блокированных толпой танков. Дальше – больше. Бессмысленный расстрел из танковых орудий парламента; жуткий рассказ чудом выжившего знакомого журналиста из «Российской газеты», оказавшегося в эпицентре этой бойни.
Вскоре у меня возникло стойкое ощущение того, что я болен, болен нравственно, загнав недуг вовнутрь. Болезнь точила меня, охватывая все моё существо, будто там, в глубинах моего организма, таился некий воспалительный процесс, который вот-вот должен был прорваться как созревший аппендикс – и окончательно погубить весь организм. Но я между тем пыжился и убеждал себя в том, что у меня все о’кей, а отрицательные эмоции можно просто позабыть или напрочь вычеркнуть из памяти.
Самообман продолжался до тех пор, пока в моей жизни не появились великий Моцарт, графиня и поэтесса Вера Лурье со своим загадочным досье. Все это и спровоцировало последующие события. Я заново обрел способность ненавидеть, приходить в ярость, искренне радоваться честности, правде, достоинству и чести. Во мне закипала злость на людей без души и сердца, на алчных мерзавцев, что калечат судьбы своих собратьев, губят всё и вся живущее на нашей планете.
Я злился и на собственное бессилие и трусость. В голове эхом звучали слова профессора Гвидо Адлера:
«Я очень сожалею о том, что струсил. Должен вам признаться, я никогда не отличался особой храбростью».
Но я не стал зацикливаться на этих вопросах, а переключил внимание на книгу, которую держал в руках. Какая связь между ней и датами и событиями, указанными в рукописных страницах? Почему и для чего их автор поместил данную хронику в том же издании, повествующем о Моцарте и созданной им «Волшебной флейте»? Меня поразила фраза о том, что ни одно из оперных либретто во всей музыкальной литературе не толковалось многими поколениями так превратно, как либретто «Волшебной флейты».
Либреттиста упрекали в отсутствии вкуса и просто бестолковости, даже великий русский композитор Пётр Чайковский 1 сентября 1880 года по этому поводу писал госпоже фон Мекк:
«Начну с „Волшебной флейты». Никогда более бессмысленно глупый сюжет не сопровождался столь пленительной музыкой».
Отто Ян, один из первопроходцев в классической биографике Моцарта, констатировал:
«Нет необходимости упражняться в критике этого либретто. Безынтересное действие, противоречия и нелепости в характерах и ситуациях ясны как день, диалог тривиален, а версификационная часть – убогое стихоплётство, которое уже не поправишь отдельными исправлениями…»
Иначе отзывается историк музыки А. Шуриг в своей книге о Моцарте (1913):
«Текст, прочитанный под сотней различных углов зрения, поднимается пирамидой благородных, таинственных и поразительных идей, корни которых уводят к мировоззрению давно минувших культур. В тексте „Волшебной флейты» заключены и прозрения и Моцарта».
Тот же Георгий Чичерин, влюбленный в музыку Вольфганга Амадея, писал в своём исследовании «Моцарт»:
«Если опера «Cosi fan tutte» («Так поступают все») – самая утончённая из моцартовских опер, то, наоборот, «Волшебная флейта» – самая народная: Моцарт откликнулся на французскую революцию хождением в народ, попыткой создания простонародного немецкого искусства. Моцарт был рьяным масоном; а в масонских ложах, конечно, много говорили о революции. Это всецело относится к «Волшебной флейте». Моцарт написал её для шиканедерского народного театра «Ауф дер Виден», театра городского предместья, и он действительно проник ею в массы (в «Германе и Доротее» отрывки из «Волшебной флейты» исполняются у маленьких мещан) и больше всего через глубоко немецко-народную фигуру Папагено. «Волшебная флейта» – соединение двух стихий: немецкого народного представления, вроде балагана и масонства с его передовыми идеями».
И Рихард Вагнер отметил это соединение:
«Какие божественные чары веют в этом произведении, от его народнейших песен до возвышенных гимнов! Какая многосторонность, какое разнообразие! Кажется, что самое лучшее от всех благороднейших цветов искусства объединилось и слилось здесь в один единственный цветок. Какая непринужденная и вместе с тем благородная народность в каждой мелодии, от самой простой до самой величественной».
Как же найти ключ к царству Зоростро в «Волшебной флейте»?
Тот же Шуриг пишет об этом очень хорошо: «Собранный из сотен мест текст „Волшебной флейты» представляет собой пирамиду благородных, таинственных и чудесных идей, корни которых ведут в мировоззрение далеких и чуждых культур. Пестро раскрашенная оболочка многообразно-символического ядра – творение Шиканедера, человека, за напыщенностью которого крылась истинно немецкая манера в работе. И не только в музыке Моцарта, но и в многократно оклеветанном тексте, заключён глубокий характер: нрав и юмор двух фантастов. Поэтому не должно казаться странным, что при ежедневном взаимном общении Моцарта и Шиканедера, в тексте „Волшебной флейты» сохранились также внезапные находки Моцарта».
Удивительно точно высказался про музыку Рихарда Вагнера и Вольфганга Моцарта наш оперный бас Фёдор Шаляпин:
«Входишь в большой мрачный, торжественный дом; кругом – самая тяжелая и мрачная обстановка; тебя встречает нахмуренный хозяин, даже не приглашает сесть, и спешишь скорей уйти прочь – это Вагнер. Идешь в другой дом, простой, без лишних украшений, уютный, большие окна, море света, кругом зелень, все приветливо, и тебя встречает радушный хозяин, усаживает тебя, и так хорошо себя чувствуешь, что не хочешь уходить. Это Моцарт».
Красиво сказано, но это не весь Моцарт. И он вообще не так прост, он требует работы, а для этого надо вдумываться и вслушиваться, долго вникать в него…
«Ленинка» закрывалась. Я захлопнул книгу и двинулся домой, планируя завтра же вернуться в библиотеку и дочитать рукопись.
Все это время, пока я сидел взаперти, штудировал литературу и делал выписки, в моём уединенном логовище беспрестанно звучала музыка Моцарта.
Как тронула моё сердце «Маленькая ночная серенада»! Впервые я услышал её в Питере, в Концертном зале, когда мне было восемнадцать лет. Это был блестящий образец той категории произведений Моцарта, где стиль эпохи был продиктован целью, назначением самой вещи, как в танцах опер и парадных пьесах для определенного случая. Тут был налицо заказ для какого-то праздника, в Вене было распространенной привычкой устраивать концерты, особенно ночью, перед окнами лица, которое хотели почтить. «Ночная серенада» – подобный заказ. Писал её, конечно, зрелый Моцарт, это тонко, изящно, прелестно, полно жизни. Дирижировал оркестром кто-то из тамошних знаменитостей. Никогда прежде я не сталкивался с таким ясным, мощным и глубоким произведением. Впечатление от «Серенады» было ошеломляющим. Именно в тот день я решил, пусть жизнь окажется насквозь бесцветной, бессмысленной, пустой, но, если на свете существуют вещи столь насыщенные и осязаемые, как эта музыка, жизнь, вероятно, стоит того, чтобы за неё держаться. Но потом я почти не вспоминал о Моцарте и его таланте лет до тридцати пяти, когда мне вдруг приснился сон – тот самый, который мне недавно пересказала.
С той поры я стал покупать пластинки, а позже – лазерные диски и кассеты с записью произведений Моцарта, но делал это бессистемно, наугад. Купив очередную пластинку, а потом – лазерный диск или пленку, я прослушивал её разок-другой – и отправлял в ящик письменного стола. Не скажу, что мне не нравилась эта музыка. Мне нравилось многое. Поэтому я всегда заявлял, что предпочитаю Моцарта с его необыкновенной гармонией и блестящей, неземной прозрачностью мелодии. Но с той поры, как манускрипт Веры Лурье попал ко мне в руки, моё отношение к сочинениям Вольфганга изменилось. Я достал из ящика плеер, диски и пленки – все до единой, что когда-то накупил, и принялся с жадностью слушать музыку. Я не снимал наушники ни тогда, когда читал или писал, ни тогда, когда меня смаривал сон. Я гонял лазерные диски на плеере, который мог работать в автоматическом режиме: когда диск прокручивался до конца, он автоматически переставлялся в начало.
Я слушал всё подряд, без разбора. День сменялся ночью, ночь – днём; звуки, аккорды – половодье музыки вытесняли посторонние мысли, образы знакомых и незнакомых людей, уголки природы, воспоминания о вещах и событиях. Музыкальный эфир пронизывал меня насквозь, порой заставляя трепетать, плакать или кричать от счастья. Царство музыки изолировало меня от мира, всё глубже и глубже погружая в одиночество, будто в глубочайшую Марианскую впадину. Музыка была чрезвычайно разнообразной. Каждое произведение являло собой мост, переброшенный от меня к чему-то неповторимому, единственному в своём роде, а часто – к целому космосу, в котором творил и жил Моцарт. Я не уставал изумляться: какую музыкальную империю он придумал, сколько миров открыл! Он никогда не повторялся.
Только, нырнув с головой в омут, где господствовала музыка великого маэстро, я понял: Моцарт самый малодоступный, самый скрытый, самый эзотерический из композиторов. Кто не сидел специально и долго над Моцартом, кто в него упорно не вдумывался, с тем разговаривать о Моцарте – как со слепым о красках солнечного заката. Загадочности всей его личности, скрывавшейся под личиной грубого балагурства и смешных шуток и таившего свои неизведанные глубины – вот откуда загадочность его музыки: чем больше в неё вникаешь, тем больше видишь, как мало ещё понял ее.
Моцарт настолько универсален, что романтики восторженно доказывали: Вольфганг Амадей – наш и только наш, поскольку у самого Моцарта очень много мест, совершенно романтических по характеру. Яркий пример тому симфония Es-dur, которую часто называют «Романтической симфонией» или «Лебединой песнью», понимая, что в ней скрыто много безутешной скорби, «regrets inconsolables» («Безутешные сожаления»).
Песня Моцарта «Abendempfindung» («Вечернее настроение») – чистейшая романтика! Зато перед симфонией g-moll романтики останавливались с полнейшим непониманием. Много романтического в «Дон Жуане» – таинственные предчувствия, ночные сцены, кладбище. Глубоко проникнута романтикой и «Волшебная флейта». В инструментальных произведениях Моцарта встречается масса мест или даже целые части, звучащие как музыка Вебера, Шуберта, Шумана.
Любопытна оценка произведений великого маэстро Рихардом Вагнером, который прославлял Моцарта до небес: «невероятная гениальность возвысила его над всеми мастерами всех искусств и всех столетий». И тут же подчеркивал: у Моцарта инстинкт ничего-де сам не понимал. Картина парадоксальная. Рихард Вагнер, с одной стороны, безгранично восторгался Моцартом, а с другой – представлял его музыкантом инстинкта, лишённым самостоятельности мысли, образования, хватающим без разбора какое угодно либретто. На самом деле это не так, именно к либретто Моцарт всегда подходил щепетильно и профессионально.
Я чувствовал каждое музыкальное произведение Моцарта всем своим существом, каждой клеточкой организма, будто его волшебные аккорды записались на генном уровне, всплывая сами собой в подсознании.
По мере того как моё знакомство с музыкой Моцарта углублялось, чудесные звуки становились моими друзьями. Совсем как люди: казалось бы, знаешь человека со всеми его привычками и странностями, и все же он не перестает удивлять тебя своими, открытиями, находками.
Как назло, под утро я провалился в необыкновенно крепкий сон, а когда проснулся, был уже полдень. Кроме того, как раз в этот день я должен был показаться врачу. Короче говоря, до Ленинки удалось добраться ближе к вечеру. Я намеревался проштудировать там от первой до последней строчки рукопись журнала, «О таинствах египтян» Игнациуса Эдлера фон Борна в его «Journal fuеr Freimaurer» («Журнал для масонов»), надеясь, что это прольет свет на тайну Моцарта и на чертовщину, творящуюся со мной.
Я снова затребовал нужные мне книги, на поиски которой библиотекарь потратил битых два часа. Я с нетерпением раскрыл книгу. Выяснилось, что в тот раз я недооценил уникальность рукописи. Кроме дат и событий, я обнаружил на полях вопросы-пометки, сделанные почерком, отличным от почерка автора. Я хотел скопировать интересующие меня страницы, но сканнер, как нарочно, не работал, – заболела сотрудница.
В тот вечер, когда я вернулся домой из Ленинской библиотеки, мои мысли были заняты рукописью, обнаруженной под обложкой книги. Я забрался на диван и обложился ксерокопиями кое-каких материалов, сделанными днем раньше. Эти материалы я ещё не успел просмотреть. Принялся за чтение. Большинство из них не представляло интереса. Я выбрал наугад несколько абзацев и переписал их. Затем я обратился к ксерокопиям, сделанным ещё раньше в «Ленинке». Открыл папку с пометкой «О таинствах египтян», вынул из неё несколько листов и начал читать В. Ф. Иванова из его трактата «Тайны масонства»:
«Понятие «иллюминаты» означает носители света. Свет, о котором идет речь, не является божественным. Скорее это слепящий свет Люцифера. В 1775 году группа международных финансистов поручила Адаму Вейсхаупту создать на базе кодекса Люцифера план преобразования мира («Новый мировой порядок»).
Этот план был мастерски разработан специальной группой под руководством А. Вейсхаупта – втайне и в срок. И Вейсхаупт основал Орден иллюминатов 1 мая 1776 г., будучи деканом юридического факультета Ингольштадтского университета. Воспитанник иезуитов, он возненавидел своих учителей, но усвоил тайны их организации, извратив их и направив на достижение совершенно противоположной цели. По словам его соучастника, будущего французского революционера графа Мирабо, его метод заключался в том, что «под единым руководством множество людей, разбросанных по всему миру, стремятся к единой цели». Предполагалось осуществление длительной программы: разрушение основ религии, государства как института, дискредитация общепринятой философии и раскол человечества на два непримиримых, враждебных лагеря (каждому – своя идеология). Разделенный при помощи методов экономического воздействия мир низвергнется в пучину беспрестанных войн и революций, в результате чего человеческая жизнь утратит смысл, а личность – самоценность. Человечество потрясут катаклизмы, существующий социальный порядок будет уничтожен. На руинах установится новый режим. – Избраннику не составит труда управлять новым миром».
В Дрезденском государственном архиве находятся документы прусского посольства с 1780 по 1789 гг. (том 9) и между ними под № 2975 собственноручное письмо короля Фридриха-Вильгельма II курфюрсту Саксонскому Фридриху-Августу III, написанное по-французски. Вот его русский перевод:
«Я сейчас узнал из достоверного источника, что одна из масонских сект, называющая себя Иллюминатами или Минервалами, после того, как её изгнали из Баварии, с неимоверной быстротой распространилась по всей Германии и по соседним с нею государствам. Основные правила этой секты крайне опасны, так как они желают ни более, ни менее, как:
1) Уничтожить не только христианство, но и всякую религию.
2) Освободить подданных от принесенной ими присяги на верность монарху.
3) Внушить под названием «прав человека» своим последователям сумасбродные учения, идущие наперекор тому законному порядку, который существует в каждом государстве для охранения общественного спокойствия и благополучия; этим воспалить их воображение, рисуя им соблазнительную картину повсеместной анархии для того, чтобы они под предлогом свержения ига тирана, отказывались исполнить законные требования власти.
4) Позволяют себе для достижения своей цели употреблять самые возмутительные средства, причем они особенно рекомендуют «акву тофану», самый сильный яд, который умеют отлично приготовлять и учат этому приготовлению и других.
Поэтому я считаю своей обязанностью тайно оповестить об этом Саксонский Двор, чтобы уговорить его учредить строгий надзор над масонскими ложами. Тем более, что это «отродье» не преминет раздуть повсюду пламя восстания, опустошающего ныне Францию, т. к. масонские ложи, в которые вкрались иллюминаты, чтобы заразить и их, несмотря на бдительность хороших лож, которые всегда ненавидели этих чудовищ».
Я, быть может, колебался бы дать такой совет, если бы не почерпнул свои сведения из очень хорошего источника и, если бы сделанные мною открытия не были так ужасны, что, положительно, ни одно правительство не может относиться равнодушно к иллюминатам.
N. В. На Лейпцигской ярмарке предполагается съезд всех главарей иллюминатов для их тайных переговоров. Быть может, тут могли бы их переловить.
Берлин, 3 окт. 1789 года
Фридрих – Вильгельм».
Затем мне попались на глаза безумные строчки, которые явно были взяты из кодекса Люцифера, или Ахримана: «…Мы спустим с привязи боевиков-террористов, нигилистов и атеистов, спровоцируем в разных точках мира ряд очагов социальной катастрофы с полным набором средневековых ужасов, чтобы наглядно показать народам сущность тоталитаризма, природу его жестокой, кровавой тирании. Граждане поневоле, будут браться за оружие, чтобы защищаться от террористических революционных групп. В конце концов, народные массы, разочарованные в христианстве, магометанстве, иудаизме и не ведающие, куда направить свои стопы, какому божеству поклоняться, примут без всяких поправок доктрину Люцифера-Ахримана, своевременно предложенную нами человечеству; наберет силу оппозиция – движение, противодействующее как апологетам прежних главных конфессий, так и атеистам. Они будут повержены, и это произойдет в один и тот же исторический период».
Эти последние прочитанные мной слова показались абсолютно точным предсказанием ситуации в сегодняшнем взрывоопасном мире, в котором мы очутились после крушения устойчивого двухполюсного паритета двух систем. Удивительно, что эти строчки написаны были сто, а может много больше лет назад. Рассуждения на этом не заканчивалось, но читать дальше этот бред было слишком уж омерзительно.
Решив, что пока с меня хватит, я отставил книги в сторону. Измотанный, я уснул, опустив листы на грудь, Через пару часов проснулся от жуткого холода. Было такое ощущение, будто стою голым на айсберге, дрейфующем от Южного полюса. В висках невыносимо ломило, голова раскалывалась, словно её зажали в пыточный обруч и закручивают гайки. По комнате распространился странный запах сероводорода – так пахнут тухлые яйца. Я закрыл глаза. Крошечные голубые огоньки замельтешили в мозгу, они мигали, как сигнальные фонари на крышах далеких полицейских машин. Голова кружилась, боль в ней усилилась – никогда ещё мне не доводилось испытывать такую зверскую боль. Казалось, веки разбухли до невероятности. Я вновь открыл глаза и с ужасом обнаружил, что парю над диваном на высоте полутора метров. Ужас перешел в кошмар, когда я понял, что сверху разглядываю собственное тело.
Я ощутил легкое покалывание в позвоночнике, на глаза навернулись слёзы. Затем раздался голос. Он звучал тихо-тихо. Я затаил дыхание, пытаясь уловить смысл речи. Голос зазвучал вновь – невнятные звуки, возникающие во тьме как бы сами по себе. Я внимал им, боясь пошевелиться, и, в конце концов, сумел различить слова:
– Твоё любопытство зашло слишком далеко. Пора перестать совать нос в явления и вещи, которые не выразить на человеческом языке. Учти: не подчинишься – предстанем перед тобой, но тогда будет поздно.
Я ответил осмысленной фразой, хотя мой рот оставался закрытым, губы даже не дрогнули:
– Чего вы хотите? Кто вы?
И, словно в ответ на мой вопрос, комната, и без того темная, погрузилась в непроглядный мрак, какой я, пожалуй, встречал только в подземелье каменноугольной шахты в Кузбассе, когда внезапно потух фонарь на каске. К моему крайнему изумлению, в этой кромешной тьме я даже неплохо видел! Я различил очертания некого существа, находившегося в центре комнаты и облаченного в черное одеяние – похожее носят священники. Капюшон, накинутый по самые брови, не позволял разглядеть его лицо. Странное существо зависло в воздухе, не касаясь ногами пола. Мне казалось, что я как будто опутан по рукам и ногам, чувствуя, как меня парализовала чья-то воля…
Незваный гость произнес хрипловатым голосом:
– Ты собрался на себе испытать, как взаимосвязаны свет и тьма.
Идея заслуживает внимания, но опыт, который ты намереваешься произвести, слишком опасен. Он гораздо опаснее, чем это может представить твое жалкое воображение. Так пусть же ларцы остаются запертыми, а тайны умрут с теми, кто дал им жизнь!
Вот и все, что я запомнил. Несколько часов спустя я пробудился и мог бы счесть виденное и слышанное сном, если бы не странная вещь: палас оказался прожженным в том самом месте, над которым висел в воздухе мой ночной гость. Выгоревшее пятно имело узнаваемую форму пентаграммы.
Именно это обстоятельство заставило меня спланировать свои действия следующим образом: срочно достать материалы, переданные мне Верой Лурье и взяться за них вплотную.