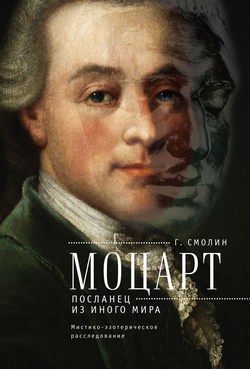Читать книгу Моцарт. Посланец из иного мира - Геннадий Смолин - Страница 8
Часть первая
Noblesse oblige[1]
Гений и злодейство
ОглавлениеГде ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений – не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердий, молений послан –
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!
А. Пушкин «Моцарт и Сальери»
Одна мысль, одна навязчивая идея преследовала меня: добраться до моего раритетного письменного стола, где покоится свёрток, и выяснить, что представляет собой дар Веры Лурье. И какова моя дальнейшая роль в судьбе этих неизвестных документов, каким-то образом связанных с жизнью и смертью Вольфганга Амадея Моцарта.
Первым делом я заварил крепкого чая, выпил кружку до дна и лишь тогда приступил к самому главному. Дрожащей рукой я открыл ключом замок письменного стола, выдвинул нижний ящик и осторожно извлек свёрток с рукописями.
За окном уже начинало светать. Мои чувства напряглись до предела – слух, обоняние, память все было обострено.
Я взял кухонный нож, разрезал жгут, надорвал плотный пергамент. Под ним я обнаружил упакованные в целлофановую плёнку, пожелтевшую от времени, своего рода альбом для фотографий, где вместо снимков были письма, а рядом был дан перевод на русский.
Текст писем, исполненный красивым готическим шрифтом, наводил на мысль, что автор депеш был гуманитарий до мозга костей. Таким же каллиграфическим почерком был исполнен перевод. Наверняка, эту кропотливую работу выполняла дотошная Вера Лурье.
Я устроился поудобнее в кресле, стал читать рукопись, посматривая в сноски фрау Лурье. Вековой возраст эпистолярия, за которым к тому же и охотились, завораживал и манил…
Сверху на титульной странице красовалось вензелем начертанное слово «Моцарт». Чуть ниже той же аристократической рукой, но мелкими буквами был выведен перевод немецкой фразы: «Композитору Борису Асафьеву от профессора по истории музыки Гвидо Адлера». Вот так. Строки немецкого текста, казалось, мерцали, становясь то ярче, то тусклее, когда я всматривался в страницу, и притягивали меня к себе, словно бездонная морская глубина, которая завораживает и манит тебя в свои чертоги.
Приступая к чтению рукописи, я и слыхом не слыхивал о франкмасонах, иллюминатах, ничего не знал о тайных обществах, масонских ложах, орденах, о таинственных обрядах посвящения в этих эзотерических организациях, руководители которых на протяжении сотен лет пытались соперничать на Земле с самим Всевышнем. Они, как я понял, убеждают нас в своей исключительности и высшем предназначении «посвящённых» – братьев-масонов. Нынче я осведомлен об этом, скажем так, чересчур хорошо. Но тут свои правила игры, которые слишком серьезны, а порой жестоки, чтобы ими пренебрегать. Слишком уж часто смерть подстерегает тех, кто осмеливался жить по своей правде, игнорируя роковую черту, разделяющую два мира.
По всей видимости, это как раз случилось с моим добрым приятелем Виктором Толмачёвым. Он переступил ту самую роковую черту, за которой его поджидала смерть. В контексте сказанного, вопрос можно поставить в другой плоскости: а стоит ли жить по-иному? Как говорили в стародавние времена, по кривде?..
Помнится, в Берлине Вера Лурье спросила меня: «Вы знаете Моцарта?» Разумеется, в то время я не осознавал истинного смысла этого вопроса. Теперь здесь, в Москве, возможно, мне суждено постигнуть его в полном объёме.
Я начал читать с первого листа, и у меня появилось ощущение, что я переступил некую невидимую зыбкую грань, отделявшую один мир от другого. И шагнул в параллельный мир, в неизвестность. До сих пор я жил, как мне казалось, в единственном и огромном мире, но теперь мои представления рухнули, будто карточный домик, и мне выдалась возможность из реалий повседневности шагнуть в тот странный перевёрнутый с ног на голову мир, который простирается тут же, рядом. В Зазеркалье.
Пути назад не было, мосты к отступлению сожжены.
Ленинград, Россия композитору Борису Асафьеву от его друга, венского историка музыки профессора Гвидо Адлера. Вена, 19 мая 1928 года.[2]
Уважаемый герр композитор Борис Асафьев!
Неделю назад получил Ваше письмо. Оно растревожило мою душу.
Что ж, придется идти до конца. Письмо заставило меня усомниться в верности некоторых моих взглядов, вновь задуматься над вопросом о сущности человеческой природы. Что отделяет каждого из нас как особь от окружающего мира? Разве не плоть? Или на протяжении долгих лет я как homo sapiens просто-напросто тешил себя иллюзией, что это так?
Мы отлично знакомы с Вами, дорогой Борис Владимирович.
В ту пору, помню, я получил от Вас три письма, в которых Вы настойчиво запрашивали у меня информацию о некоторых темных пятнах в жизнеописании Вольфганга Моцарта. Должен принести Вам свои извинения за то, что не ответил ни на одно из Ваших посланий. В ту пору я не смог выполнить Вашей просьбы.
Помните, когда вы были в Вене, во время одной из дружеских наших встреч речь зашла о трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери», и вы спросили меня, действительно ли, по моему мнению, Сальери совершил злодейство, положенное в основу его пьесы? И я, ни минуты не колеблясь, ответил: «А кто же из старых венцев сомневается в этом?»
Хотя, на страже имени Сальери всегда стояли реакционные клерикальные круги. Разумеется, зная общепринятые правила получения нужной информации у церкви, я пошел традиционным путем. Сделал обстоятельный запрос о снятии копии с исповеди капельмейстера А. Сальери, находящейся в архиве храма НН. На это мне было заявлено, что исповедник Сальери не имеет права нарушить тайну исповеди, соблюдение которой является обязательным для каждого католического священника Что ж, действительно, такое церковное установление есть, но… Ординариат (управление делами) архиепископства Венского в ответ на мою просьбу сообщить что-либо о местонахождении записи, заявил, что запись эта является «вздорной выдумкой и связывается с пушкинскими путевыми заметками (именно так была названа маленькая трагедия «Моцарт и Сальери»!) для того, чтобы доказать духовный приоритет русских…».
Вряд ли, чиновник, составлявший эту сердитую депешу, читал трагедию Пушкина. Тогда я, используя предлог об изучении церковной музыки и свои связи, стал искать документ самостоятельно и нашел в одном венском архиве запись исповеди Сальери. Она принадлежала руке духовника итальянского маэстро, который в свою очередь ознакомил своего епископа в том, что Сальери отравил Моцарта. В этом документе содержались также детали того, где и при каких обстоятельствах под патронажем итальянского композитора давался Моцарту медленно действующий яд. Более того, я дотошно проверил все содержавшиеся в записи исповеди фактические данные и пришел к заключению, что исповедь Сальери совсем не „горячечный бред умирающего», как пытались представить дело его сторонники. Вероятно, преступник выдал здесь столь долго охраняемую тайну. Как выяснилось позже, имелся в виду документ под § 886 этих установлений.
Правда, «печать молчания» может быть снята в том случае, если кающийся оказывался психически ненормальным. Сальери в последний, краткий период своей жизни был психически тяжело больным и помещён в психиатрическую клинику, в Вене это было хорошо известно. Как свидетельствуют записи посетителей оглохшего Бетховена, о разговорных тетрадях начиная с осени 1823 года, Сальери признался в том, что отравил Моцарта и, мучимый невыносимыми угрызениями совести, перерезал бритвой горло, пытаясь покончить с собой. Как Вы сами понимаете, такая строго конфиденциальная информация, не вполне безопасна для того, у кого она находится. Учтите этот немаловажный факт.
Приезжайте, друг мой Борис, и я Вам покажу фотокопию найденного документа, и вы тогда окончательно перестанете сомневаться в подлинности слухов, гуляющих уже более ста лет и связанных с гибелью великого композитора.
Если католическая церковь была втянута в «заговор», что не так уж невероятно, то, естественно, у неё не было резона для разглашения содержания этого документа. Кстати, весьма интересно то обстоятельство, что – по этой исповеди – Сальери выдаёт себя за преступника, хотя, наверняка, был он только подстрекателем, но это было характерно для его тогдашнего психического состояния.
К сожалению, я не имею права делиться этой запретной информацией с кем бы то ни было, даже с Вами, уважаемый Борис Владимирович. Поэтому подробности при личной встрече в Вене.
Возможно, причины моей сдержанности будут Вам, дорогой мой русский композитор, более чем известны и я об этом умолчу.
Вы, конечно же, знаете, что я человек самый заурядный, умеренных и даже старомодных взглядов на жизнь. Как добропорядочный гражданин Австрии, я чту и уважаю законы и порядок и считаю, что меня можно отнести к людям с уравновешенным характером и устойчивыми нравственными принципами. Всегда старался быть в меру патриотом и гражданином своей страны, хорошим мужем для своей жены – чудесной женщины редкой доброты и благородного происхождения. Тешу себя надеждой, что соответствую званию профессора, историка музыки и внес достойный вклад в науку.
И, по правде говоря, мне вовсе не хотелось бы, чтобы математически четкий ход моей жизни, которого я неукоснительно придерживался, мог быть нарушен некой грубой иррациональной силой, силой вероломной и вседозволенной, природа которой мне не вполне ясна. Но остановлюсь на этом подробнее…
В последние месяцы со мной происходит нечто не вполне логичное, скорее – иррациональное. Без видимой причины у меня появились некоторые признаки физиологического и психического расстройства после того, как я ознакомился с вышеназванной «исповедью Сальери». Сей факт до основания поколебал мою уверенность в том, что мои представления о природе сущего мира, об окружающей нас действительности соответствуют истине. Ещё более поразительным оказалось то, что мне нанес визит некто или человек в сером одеянии, как в случае с великим Моцартом. Сходство прямо-таки зеркальное.
Другое происшествие произошло три месяца назад, в поне-дельник вечером. Я задержался дольше обычного в университете: мне нужно было набросать тезисы статьи, которую я намеревался обязательно закончить, чтобы завтра передать её в редакцию. В какой-то момент я отвлекся от работы и неожиданно увидел перед собой довольно высокого мужчину в серых одеждах. У него был цепкий неприятный взгляд, поджатые узкие губы на вытянутом худощавом лице.
Неизвестный произнес сумбурную речь:
– Мы рекомендуем вам уничтожить записи, которые вы сделали в церковном архиве, касательно маэстро Сальери. Это знание следует забыть. Напрочь! Молчание, как известно, золото. Или будет гораздо хуже, – вы представляете, о чем я говорю?
– Вы, наверное, ошиблись аудиторией? – прервал я гостя, сочтя, что он заблудился в университете, разыскивая кого-нибудь из моих коллег, и случайно оказался в моём кабинете.
– Какие ещё ошибки? – усмехнулся гость. – Их просто нет в природе. Разумеется, за исключением тех, которые вольно или невольно делаете лично вы, герр профессор Гвидо Адлер.
Мне стало не по себе. Господин Асафьев, бывает, что я выхожу из себя, когда со мной играют в какие-то тайные игры. Не понравилось мне и то, что этот незнакомец с высокомерным взглядом обратился ко мне по имени-отчеству и при этом не потрудился назвать сторону, от лица которой он нанес визит, который и закончился престранным образом.
За окном послышался шум, я повернул голову, а когда взглянул туда, где стоял неизвестный, то обнаружил – гость в сером бесследно исчез. Фантастика какая-то!
Всякий раз, когда я вспоминаю этого зловещего посетителя, мне становится не по себе. Что это? Галлюцинации, плод моей больной психики?
Вскоре после этого визита мне стал являться в сновидениях сам Вольфганг Моцарт. У него был изможденный вид, лицо обострилось, нос и без того крупный вытянулся и стал, как у Сирано де Бержерака, а голова казалась неестественно большой на его тщедушном маленьком теле. Вместо чудесной пепельной шевелюры у него остались некие жалкие и жидкие пряди волос. Вольфганг походил на очень больного, замученного недугом человека. Выпученные глаза на исхудалом лице только усугубляли неприятное впечатление.
Этот двойник Моцарта из сновидений умолял меня сообщить громогласно какую-то правду. Что он имел в виду под этой правдой, которой он от меня требовал, мне неведомо. Эта напасть стала повторяться каждую ночь. Сразу же после двенадцати ночи, призрак, уверяющий, что он и есть настоящий Вольфганг Моцарт, то запугивал меня, то умолял мне предпринять срочные меры. Пытаясь осмыслить происходящее, я пришел к мнению: подальше спрятать фотокопию текста исповеди Сальери, а Вам сообщать регулярно о своих странностях и загадках.
Мне не по себе от мнимых угроз, которые могут стать ужасной реальностью. А потому я не буду отсылать Вам письма, а стану собирать их у себя, чтобы передавать при надёжной оказии или лучше во время нашей очередной встрече в Вене.
Дорогой друг, я стал сомневаться в нормальности своей психики. И чувствовал, что об этих сумасшедших ночах не следует говорить никому из коллег и даже своим родным и близким.
Минула ещё одна неделя, и я всерьёз занемог. Начались головные боли, ноги стали опухать – точь-в-точь как у Моцарта. Весь врачебный опыт моего домашнего доктора оказался бессильным, чтобы побороть мою странную болезнь.
Похоже, некая завладевшая мной сила пытается сломить моё сопротивление и заставить примириться с фактом существования призрака «Моцарт». Честное слово, мой организм сопротивляется этим наваждениям. Ну, если восстаёт плоть, то значит дух мой не сломлен. С нами Бог!
Всего Вам доброго!
Ваш Гвидо Адлер
Рукопись лежит передо мной, на письменном столе, я читаю эти странные слова: «Некая завладевшая мной сила пытается сломить моё сопротивление». А ведь и я попал под каток этой «зловещей силы». Со мной происходило нечто похожее во время и после посещения в предместье Берлина Веры Лурье, в аэропорту Шереметьево-2, когда ко мне прицепился субъект в сером, требуя рукописи, или тот, астматик на Ваганьковском кладбище, осведомленный о моей частной жизни и реально угрожавший мне смертью. … Эти навязчивые déjà vu в сновидениях наяву, центральным персонажем которых был сам Вольфганг Моцарт и какие-то неотступные «нукеры» зловещего и таинственного «мандарина», добивавшихся сначала у Гвидо Адлера, Веры Лурье, а теперь и у меня прекратить дознания того, что, так или иначе, касалось тайны жизни и смерти великого композитора.
Странно до оторопи то, что во всех этих представлениях одни и те же действующие лица: субъекты, одетые во все серое с надменными цепкими взглядами, вещие сны с участием демонов композитора, загадочные смерти реальных лиц… Должно же быть осмысленное объяснение этим метаморфозам!
Ленинград, Россия,
Композитору Борису Асафьеву
От его друга, венского историка музыки профессора Гвидо Адлера, Вена, 16 июля 1928 года
Уважаемый герр композитор Борис Асафьев!
Как я ни старался найти хоть долю смысла в цепи эпизодов, случившихся со мной, но ни на йоту не приблизился к решению. Напротив, мою персону стало всё больше и больше затягивать в водоворот мистики и чертовщины. Всё это демонстративно угрожало моей научной деятельности. Да что там карьера – над моей жизнью навис дамоклов меч. Скоро я сдался и подал прошение об отставке с кафедры университета.
Решил произвести революцию в своей судьбе. Ушел в самостоятельное плавание или, как говорится, «на вольные хлеба». Сейчас у меня масса времени, чтобы заняться собой: восстановить «психику», «физику» и «моторику».
И вот в душевном равновесии моём наступил здоровый баланс.
Худо-бедно, но моя новая жизнь продолжалось до тех пор, пока я не получил на прошлой неделе Ваше письмо. Это разумеется чистое совпадение. Оказалось, что всё в моей жизни вернулось на круги своя и с той чертовщиной вроде бы покончено.
Хоть я и профессор, но не эскулап, а потому не могу взять в толк, что значит вся эта круговерть возле моей персоны? Дорогой герр, русский композитор, я продолжаю быть с Вами откровенным: если честно, то я и не желаю выяснять, что всё это значит? Начинаешь искренне верить в тайные силы, масонские заговоры, в теософию, наконец, тибетскую страну Шамбалу и прочее, прочее.
Я не имею права рисковать Вашей безопасностью, судьбою моих и Ваших близких. А потому обращаюсь к Вам с настоятельной просьбой: прочитав это моё послание, уничтожьте его. По меньшей мере, ликвидируйте все то, что могло бы указывать на происхождение письма, его автора и фамилии единомышленников. Надеюсь, вы не оставите мою просьбу без внимания.
А теперь перейду к общей интересующей нас теме: я сделаю попытку связать воедино несколько эпизодов из жизни Моцарта и Сальери.
Дорогой друг, если бы Пушкин не запечатлел преступление Сальери в своей трагедии „Моцарт и Сальери», над которой он работал много лет, то загадка смерти величайшего композитора христианской цивилизации так и не получила бы разрешения.
Посмотрите-ка, какие тут совпадения. Рано умерший Александр Пушкин, был чуть старше Моцарта. В 1830 году русский поэт пишет маленькую трагедию «Моцарт и Сальери», – ему тогда шел 31 год. Все «карпаниево» красноречие, употреблённое итальянским журналистом Дж. Карпани, которое он выплеснул в миланском журнале «Biblioteca Italiana» (сентябрь 1824 год) в пользу своего земляка Сальери, кажется, не произвело на вашего Пушкина особого впечатления, впрочем, как и свидетельство Гуммеля, в чьих набросках к биографии Моцарта (1825) можно найти следующие слова:
«Будто он (В. Моцарт) предавался мотовству, я (за малыми исключениями…) считаю неправдой; точно так же отбрасываю басню, что Моцарт был отравлен Сальери; если даже последний и имел претензии к гениальности первого, нанесшей вред в те времена итальянскому вкусу, то Сальери был все же слишком честным, реально мыслящим и всеми почитаемым человеком, чтобы его можно было заподозрить даже в самой малой степени…»
Ваш Александр Пушкин в своём творчестве сенсаций не любил. Именно ему в связи с уже названной трагедией принадлежат слова:
«Обременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальною».
События конца 1823 и начала 1824 годов, связанные с А. Сальери, не давали, видимо, Пушкину покоя. Это, прежде всего, неожиданно всплывшие в феврале 1824 года сообщения французских газет о том, что Моцарт был подло отравлен Сальери, которые и побудили поэта Пушкина взяться за перо.
Я даже ни на йоту не сомневаюсь, что ваш Александр Пушкин знал обо всём этом. Он был вхож в салон австрийского посла в Петербурге графа Людвига Фиккельмона, с которым состоял в дружеских отношениях. Близость поэта к влиятельным кругам, давала возможность читать запрещённые царской цензурой книги и периодику, издававшиеся у нас в Европе. Через дипломатическую почту он имел доступ и к другим секретным документам, то есть он всегда был «аn courant de tout» («быть в курсе» – фр.).
Сочинение русского Пушкина, погибшего на дуэли в 37 лет, нашло равноценного интерпретатора в лице вашего композитора Николая Римского-Корсакова, написавшего одноактную оперу по его трагедии. Она длится около 50 минут, монолог Сальери выдержан в Рембрандтовой светотени, звучат там и мелодии из опер Моцарта и отдельно фрагмент Реквиема. Воистину, редкий случай, когда знаменитый композитор устанавливает звучащий памятник своему духовному кумиру.
Всего Вам доброго!
Ваш Гвидо Адлер
Вена, Австрия,
Профессору герру Гвидо Адлеру,
От композитора Бориса Асафьева
Ленинград, Россия, 12 июня 1928 года
Мой венский друг, герр Гвидо!
Пишу из райского места под Ленинградом. Как был бы рад, если бы ты приехал ко мне, на дачу. …Ну, да ладно. К делу, к делу. …И, конечно же, всё про Пушкина, Моцарта и Сальери. Вы меня зажгли: в душе вспыхнули зарницы счастья, выкристаллизовалось чувство искренней благодарности.
Когда наш солнечный гений поэзии – Пушкин – коснулся неувядаемой темы «Гений и злодейство», то всяческие Сальери, эти «маленькие великие люди» давно уж толпились на улицах Вены, Берлина, Лондона, Петербурга, и Пушкин встречал их не только мысленно – под окнами Моцарта, но и рядом с собой, въяве, в широкой России, и они все плотней окружали его, подвигая его к написанию «маленькой трагедии».
Такие как Сальери, в кабаки не ходят. Разве, что «пировать с гостем ненавистным» в трактире «Золотого Льва» с фортепиано и то лишь по делу: где он отравит Моцарта, успевая насладиться аккордами его «Реквиема».
Так и хочется сказать: любовь – вот душа гения! Это чувство сближает и роднит Моцарта с толпой – кабацкой ли публикой, только она движет мастера к внезапному, нечаянному увлечению. Отсюда всё: непосредственность – детскость, весело и легко противостоящая фальшивой искушённости в разных науках, и единство суверенитетов, и свобода равноправия…
«Тебе не до меня», – говорит Моцарт, потому что Сальери, не осененному божьей искрой гения не до этой многообразной, взаимосвязанной, естественной жизни, – тот мыслит другими категориями. Непомерное творческое тщеславие, нежелание уже творчески бесплодного Сальери терпеть возле себя мало-мальски талантливого композитора, а уж бога музыки – это уже подавно, толкало итальянца во все тяжкие. Только бы жёсткая иерархическая его постройка венских подмостков осталась бы под его господством.
Всего Вам доброго, мой дорогой русский друг!
Ленинград, Россия,
Композитору Борису Асафьеву
От профессора Гвидо Адлера,
Вена, 30 сентября 1928 года
Уважаемый герр композитор Борис Асафьев!
Мой друг, в связи с именем Сальери, возникшем в ходе нашей переписки, я даю вам следующую сенсацию: мой пражский друг и коллега НН, отыскал в архивах документ, связанный с попыткой самоубийства и признаниями Сальери.
Помог мне моравский ученый, профессор, прислав фотокопию письма Сальери с приложением партитуры своего Реквиема, которые датируются мартом 1821 года графу Генриху Вильгельму Гаугвицу, в замке которого (Намешть, это под Брно или по старому Брюнном) он не раз бывал. Привожу первый абзац этого письма:
«Per Sua Eccelenza il Signor Conte H. de Haugwicz.
Eccelenza!
Vienna, marzo 1821
Quando l’E. (Eccelenza) V. (Vosra) ricevera questa lettera, Dio avra chiamato a se lo scrivente. Alia presente sara unito l’originale del mio Requiem, secondo la mia promessa, del quale le faccio un dono, pregandola in contracambio, che sia soltanto esequito nella de Lei privata capella in suffragio dell’anima mia. Aggiunto al mio Requiem mi fo un dovere di rispetto ordinando nel mio testamento che sia rimessa all’E. V. la scattola d’oro con di Lei assomigliantis-simo ritratto, che si e degnato una regalarmi, e che con immo piacere vivente, ho sempre conservato sotto gli occhi. Volendo poi V. E. per atto della di Lei innata generosita contracambiare a cid con qualche piccola somma, sei degni farla avere al secretario della Societa delle vedove e pupilli delia musica in Vienna».
Перевод фрагментов письма (Вера Лурье):
«Когда В(аше) П(ревосходительство) получит это письмо, Господь уже призовет к себе пишущего эти строки. К настоящему письму прилагается, в соответствии с моим обещанием, подлинник моего Реквиема, который я приношу в дар, прося лишь взамен, чтобы он был исполнен в Вашей частной капелле ради спасения моей души».
Резюме Лурье: Если предположить, что Сальери чувствовал себя настолько плохо, что мог думать о приближении смерти, то и тогда первая фраза письма поражает своей категоричностью, ибо даже опытному врачу бывает трудно исчислить дни, отделяющие больного от последнего рубежа его жизни, а ведь речь шла о немногих днях, ибо от Вены до Намешти (под Брюнном или Брно) чуть более ста километров! О душевном помрачнении не может быть и речи. В те годы Сальери сам ещё был плодовитым композитором и педагогом: в 1822 году у него учился Лист!
Случайно ли Сальери начал письмо фразой, типичной для писем многих самоубийц: «Когда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых»? Но почему все же Сальери остался жив? Быть может, имевшаяся в его распоряжении доза яда была недостаточной и не привела к желаемому результату? Тогда понятно, почему в 1823 году понадобилась бритва. Во всяком случае, мы теперь знаем, что уже в 1821 году Сальери собирался расстаться с жизнью и просил отслужить по нему заупокойную мессу не в городе, где он провел полвека, а в частной капелле графа.
Разумеется, в письме этом нет прямого указания на то, какими грехами была отягощена совесть Сальери. Однако трудно сомневаться в том, что у него возникла мысль о самоубийстве. И, судя по изысканному стилю, ни о каком психическом заболевании Сальери и речи быть не может. А если же предположить, что и Реквием он писал «для себя» (приведенное начало его письма даёт полное основание для такого предположения), то придется замысел самоубийства отодвинуть на ещё более раннее время. А, как мы уже говорили, почти все документальные источники связывают попытку самоубийства Сальери с его признаниями в убийстве Моцарта. Не с мыслями ли о событиях 1791 года писал Сальери свой Реквием и прощался с жизнью тридцать лет спустя, в марте 1821 года?
Дорогой русский друг!
У меня есть ещё чем похвалиться. Пусть анонимное и незаконченное – такое возражение нашлось в наследии сына Моцарта Карла Томаса, который до конца жизни прожил в Милане и статью Карпани, в которой тот защищал Сальери, он конечно, знал. Родившись в Вене в 1784 году, после смерти отца Карл Томас жил сначала в Праге у хорошего знакомого семьи профессора Немечка, но по настоянию матери вынужден был заняться торговым делом, не закончив учебы в гимназии. Не удовлетворившись этим занятием, в 1805 году он перебрался в Милан, учился вначале музыке, но через три года бросил её и стал чиновником австрийского правительства. После отказа от музыкальной карьеры Карл Томас вёл скромное существование и всеми силами служил славе своего отца. Был он невысоким, хрупким на вид человеком с чёрными глазами и волосами пепельного цвета, кроме того, прост и крайне скромен в обращении. Вместе с братом в сентябре 1842 года он стал свидетелем открытия памятника отцу в Зальцбурге, в 1850 году ушел в отставку, пережил всю семью и умер холостяком в Милане 31 октября (в день именин отца) 1858 года в возрасте 74 лет.
Но поначалу Вам приведу отрывок «Карпаниевой защиты», а это около 5 печатных листов. Датировано 10 августа 1824 года, Вена; появилась в сентябре 1824 года в миланском ежемесячнике «Biblioteca Italiana». Вот отрывок из 12 абзаца этого пустого и на редкость многословного объяснения:
«Человечный, прямодушный, порядочнейший и чистосердечный Сальери убийца! – более того, убийца Моцарта! – О tempora, о mores! Молчите, злодеи!.. Ответьте только, откуда вам стало известно о столь ужасном злодеянии. Наверное, от самого оклеветанного, от страждущего Сальери, в минуту отрешенности от мира сего открывшегося в своей вине?.. Скажите хотя бы, кому безумец мог нести сей бред! Как же, чего мы не знаем, да и не желаем знать. Сказано им – и баста… Что из того, что история лжива, зато складно выдумана… Возникнув однажды в узком кругу, она громоподобным эхом отзывается в более широком – и для черни преступление состряпано: Сальери отравил Моцарта… Среди немногих сих защитников-маэстро Зигмунд Нойком, близкий друг Моцарта, свидетель его смерти…»
Теперь мой друг, я предлагаю Вам ниже приведённый ниже документ, объёмом в три с половиной рукописных страницы, написанный по-итальянски; он начинается без вступления и так же внезапно обрывается. Многочисленные зачеркивания и исправления дают основания полагать, что автор только набрасывал свои мысли. Незаконченная рукопись принадлежала сыну Моцарта Карлу Томасу. Вполне возможно, он предполагал даль-нейшую обработку текста, которая сделана все же не была. Владелец оригинала неизвестен, а копией располагает венский Интернациональный архив писем музыкантов (IMBA). Текст гласил:
«Я прочитал письмо, переданное господином аббатом Карпани в «Biblioteca Italiana», дабы защитить Сальери от обвинений в отравлении. Я согласен со всем изложенным в первой части защиты оного, сие касается склонности людей к вере во все уязвляющие, удивительные и таинственные известия. Впрочем, мне кажется неуместным используемый господином Карпани искусственный прием; дабы склонить итальянцев на свою сторону, он говорит о том, что желает защитить честь нации, коей, разумеется, не может быть нанесен урон неблаговидным поступком одного-единственного человека. Но ещё менее я склонен согласиться со второй частью его защиты, где он, собственно, касается непосредственно темы. Вспомнить только многоречивую и совершенно неподобающую случаю дискуссию, которая единственно и полностью завязана для того лишь, дабы найти случай использовать острые выражения, на кои он вообще весьма щедр, когда дело касается Моцарта, и кои – хотя прямо об этом не сказано – все же показывают, сколь отличен его вышеупомянутый приговор Моцарту от мнения подавляющего большинства. Нет смысла следовать его утверждениям, поскольку здесь они вовсе ни при чём. Первым делом следовало бы установить, была ли его болезнь нераспознанной желчной лихорадкой, которую доктор сразу признал безнадежной (опасность он разглядел лишь в последний момент).
Очень существенно, на мой взгляд, столь сильное опухание всего тела (una gonfezza generate), начавшееся за несколько дней перед смертью; отчего больной едва мог двигаться, ещё – зловонный запах, свидетельствующий о внутреннем разложении организма, и резкое усиление оного сразу после наступления смерти, что сделало невозможным вскрытие тела. Второе характерное обстоятельство заключается в том, что труп не закоченел и не стал холодным, а, как это было в случае папы Ганганелли (Климент XIV, – прим. авт.) и тех, кто умер от растительного яда, остался во всех частях мягким и эластичным. Пусть маэстро Сальери невиновен в смерти Моцарта, чего я желаю и во что верю. Так насильственно ли была оборвана жизнь Моцарта и можно ли преступление сие приписать Сальери? Относительно этой второй части я хотел бы присоединиться к многочисленным свидетелям, сумевшим оценить личные качества маэстро Сальери, и потому считаю, что он невиновен, но хотел бы подчеркнуть, что подвигнут на это не благодаря статье Карпани. Не могу признать справедливым свидетельство господина Нойкома, поскольку в это время он пребывал в детском возрасте, а вкупе с этим оспариваю утверждение, будто он присутствовал при кончине Моцарта. В семью Моцартов он был введен лишь 9 лет спустя, когда его выбрали воспитывать младшего сына маэстро. Но ежели признать сообщение Зигмунда Нойкома достоверным, то, как тогда согласовать слова Карпани с помещенным З. Нойкомом во французских газетах объявлением? У него выходит, что больной Сальери – пусть помешанный – признает себя причастным к смерти Моцарта, тогда как Карпани изо всех сил тщится отрицать это обстоятельство, призывая в свидетели двух санитаров, ухаживающих за Сальери.
Совершенно лживы приведенные Карпани обстоятельства, которые будто бы сопровождали смерть Моцарта. Бездоказательно и ложно, что Моцарт умер оттого, что пришел конец отмеренного ему срока жизни. Или смерть его всё-таки сопровождалась насилием? Вот тут-то и начинаются тяжкие сомнения. Впрочем, нельзя забывать о том, о чем в последние месяцы жизни догадывался сам Моцарт, – о подозрении, возникшем у него вследствие странного проявления внутреннего разлада, ощущаемого им, и связанного с таинственным заказом Реквиема, – впрочем, это все вещи настолько известные, что мне нет надобности продолжать дальше…»
Сразу бросается в глаза, что автор этих строк обладал самой точной информацией. Скрытая антипатия Карпани к Моцарту, читаемая между строк, тоже не ускользнула от его внимания. Автор в курсе и всех противоречий, в которых, с одной стороны, запутался как Карпани, так, с другой, и 3игмунд фон Нойком – музыкальный наставник брата Франца Ксавера Моцарта. Для врача же особенно ценными представляются сведения о клинической картине последней болезни Моцарта: вначале автор упоминает колики в животе, что позволяет сделать предположение о поражении желчного пузыря, далее он отмечает то ненормальное опухание тела, из-за которого стало невозможно его вскрытие. Воспалительные процессы в области рта и слизистой оболочки кишечника могли стать причиной транспирации тела, которые свидетельствуют о «внутреннем разложении».
Правда, описанные изменения трупа относятся к области фантазий: в поддержку ещё в античности выдвинутого ошибочного положения, будто растительные яды не вызывают окоченения трупа, привлекается даже смерть папы Климента XIV, в миру Ганганелли, известного тем, что в 1773 году им был ликвидирован орден иезуитов. «Мягким и эластичным» тело Моцарта осталось из-за скопления воды в тканях, из-за отека, характерного для финального отказа почек. В известном смысле Карл Томас, кажется, верил в неестественную смерть отца. В целом этот так называемый «Анти-Карпани» много короче и содержательнее «Карпаниевой защиты Сальери». Но без чтения статьи Карпани многие возражения тут были бы непонятны. По природе несколько склонный к флегме, Карл Томас Моцарт свой ответ более четверти века держит в ящике стола, но и не расстается с ним. Как говорится, «Habent sua fata documenta!» («У рукописей своя судьба» – лат.). Может, публикацию остановила смерть Карпани и Сальери, и он решил, что долгий спор, всерьез захвативший даже газеты, на этом закончен. Но наступившее затишье было обманчивым.
Сомнительная во всех отношениях защита Карпани имела не только прелюдию. Вскоре последовало и продолжение: рано умерший Александр Пушкин, чуть старше Моцарта в свои 37 лет, в 1830 году пишет маленькую трагедию «Моцарт и Сальери», о которой я Вам писал ранее. Всё карпаниево красноречие, употреблённое им в пользу Сальери, кажется, не произвело на него особого впечатления.
Дорогой друг, мне попался ещё один престранный документ, из которого следует: да подлинна ли и сама дата смерти? Имеется отзыв-аттестат, сделанный императорским и королевским придворным агентом Э. Донатом о музыканте Э. А. Форстере, домогавшемся у императора вакантного места «камер-композитора». Аттестат подписан: «Вена декабря 3 года 791», и в нём такие слова: «…почивший великий маэстро Моцарт ему…» Так что же, судя по этому документу, Моцарт скончался совсем в другой день!
Да, мой друг! Хотелось бы посудачить о вопросах, которые вне политики. С младых ногтей я, господин композитор, впитал любовь и уважение к порядку. У нас же только отгремела война, наступило более-менее стабильное время. Ан нет! Похоже, времена смуты опять забрезжили на горизонте, а как тогда нелегко простому народу. Как только в стране наступает смутное время, брожение изнутри идет полным ходом: начинается бесконечная болтовня о революционных преобразованиях, о свободе, равенстве и братстве. Но скажите, о каком братстве может идти речь, когда на улицах то митингуют, то маршируют, а в итоге с лица земли стирается все, что имеет отношение к истинной культуре и подлинной красоте.
Уважаемый герр Борис Асафьев! Подтверждаю, как на духу, что, доверяя бумаге документы и письма, связанные с великим композитором В. Моцартом, я говорил правду и только правду. Повторюсь: я надеюсь, приведенные мною факты окажутся полезными для Вашей работы и для России – родине знаменитого А. Пушкина.
При этом позволю настоятельно попросить Вас вот о чём. Во-первых, по получении моих депеш, постарайтесь уничтожить мои письма сразу после того, как изучите их. И ради Бога, ни при каких обстоятельствах не передавайте их содержание третьему лицу. Поскольку, чем глубже я занимаюсь нашей с Вами обоюдной темой, тем более таинственные явления преследуют меня: тут и загадочные люди с угрозами и наставлениями, а также неожиданные физические явления – пожары, отравления едой, травматические случаи на ровном месте.
Правда, уже с месяц они меня не беспокоят. Да поможет мне Бог – я надеюсь на то, что, когда закончу это письмо, они окончательно оставят меня в покое. Вторая просьба. Полагаю, Вы понимаете, что я делаю и впредь намерен делать все, что в человеческих силах, дабы обеспечить безопасность Вам, мне и моим близким и родным людям. Поэтому прошу Вас, как глубоко порядочного человека, дать мне слово, что Вы никогда не предпримете попытки вновь связаться со мной. Сдержите слово, ради всего святого! И да будет так и только так, что бы ни случилось.
И ещё об одном, герр композитор Асафьев. Поначалу, работая над депешей к Вам, я не собирался упоминать о некоторых моментах жизни, происшедших со мной. Есть вещи, о которых не хочется вспоминать. Однако, в интересах науки, а также испытывая определенное, если так можно выразиться, сострадание к Вам, взвалившему на свои плечи столь тяжелую ношу, опишу очень коротко один случай. Как раз в самый разгар хворей, вдруг поразившей мою плоть, мне довелось остановиться на ночь в загородном особняке родственников жены.
После череды совершенно невероятных событий, случившихся в ту ночь, я оказался у себя на втором этаже один-одинёшенек. Ещё вечером, помнится, на меня напала сильная мигрень, а в ушах случился беспричинный звон, сопровождавшийся той же самой симптоматикой, которая была и у вас, когда Вы приезжали в Вену. Испугавшись, что самым натуральным образом схожу с ума, я приготовил себе снотворное и выпил его перед тем, как отправиться в постель.
Мне удалось уснуть. Снились мне роскошно-музыкальные сны: незримый оркестр исполнял волшебную музыку Моцарта, а я силился открыть глаза, чтобы рассмотреть музыкантов. Но ничего не мог поделать…
Обессиленный, я проснулся задолго до рассвета, совершенно мокрый от пота, и, оставив всякую надежду снова задремать, встал и пошел к умывальнику, вознамерившись побриться. Уселся я напротив зеркала и зажженных свечей, стал срезать щетину бритвой. И о Боже! К своему ужасу, я обнаружил, что лицо в зеркале – не моё отражение и мне не принадлежит. Это был Вольфганг Амадей. Правда, такого Моцарта я никогда не видел по известным портретам.
В первое мгновение, когда я увидел образ Моцарта, сердце моё укатилось в пятки. Правда, я тут же вскочил со стула, махнул рукой и перевернул туалетный столик с умывальником. Зеркало разбилось на мелкие осколки.
И хотя наваждение улетучилось, я все следующие часы пролежал в постели. До той поры, когда изумительный по красоте рассвет проник через окно и озарил мою комнату.
Вот и все, что я могу Вам поведать. Иного я не знаю. В заключение повторю, что меня взволновал и продолжает волновать Ваш рассказ о той странной атмосфере, в которой Вы, герр русский композитор Асафьев, оказались, и о тех событиях, что коснулись Вас. По воле рока нечто похожее случилось и со мной и происходит вот уже в течение нескольких месяцев. Молю Бога, чтобы он помог Вам найти объяснение странным явлениям, вторгшимся в Вашу и мою жизнь, но более всего желаю Вам обрести покой.
Желаю успехов в сочинении новой оперы. Надеюсь на то, что Вы, когда справитесь с этой задачей, избавитесь от всех треволнений, что Вас посещают.
Остаюсь Вашим покорным слугой
Профессор Гвидо Адлер
Прочитав это письмо, я откровенно рассмеялся: представил себе, как воспринял бы старина Гвидо Адлер нынешний нашпигованную бомбистами и наркодельцами Москву, где беременных женщин насилуют прямо на обочинах скоростных магистралей, у бедных старушек грабители отнимают пенсии или лишают жизни ради их квартир. Гвидо Адлеру и в голову не приходило, что в его время, по крайней мере ещё 10 лет можно было жить припеваючи. До тех пор Германия являла собой Рим эпохи упадка: культура била ключом, наука и техника расцветала в преддверии открытий и изобретений… Действительно, в каком же уютном веке жил Гвидо Адлер, да и его русский друг, композитор Борис Асафьев!..
2
Б.В. Асафьев (1884–1949 гг) – русский советский композитор. Гвидо Адлер (1855–1941 гг) – венский историк музыки, судьба его архива и наследства автору неизвестны