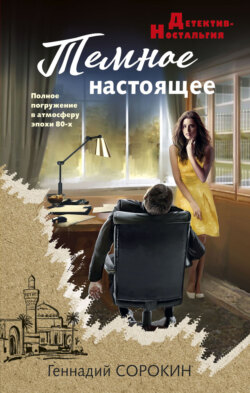Читать книгу Темное настоящее - Геннадий Сорокин - Страница 4
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
3
ОглавлениеЖизненный путь юноши в Советском Союзе был строго регламентирован. От выписки из роддома и до получения повестки в армию молодой человек обязан был пройти несколько этапов, которые развивались в соответствии со вторым законом философии – спиралеобразно вверх. В соответствии с первым законом философии о переходе количества в качество накопленный жизненный опыт вел к переосмыслению понятий добра и зла на данном этапе. Получалась так называемая двойная спираль, отрицание отрицания внутри одного витка развития. О мудреных философских понятиях советские подростки даже не догадывались, но философия не зря зовется матерью мудрости. Ее законы воздействуют на бытие независимо от воли человека.
Первым этапом развития молодого человека был детский сад. У Юры Борзых о пребывании в нем остались самые теплые воспоминания. Целыми днями воспитанники детского сада наслаждались веселой и беззаботной жизнью: играли, рисовали, лепили из пластилина фигурки зверей и космонавтов. На прогулках были свои развлечения. Если воспитательнице не хотелось возиться с малышней, она садилась на веранде с любимой книжечкой, предоставляя детям долгожданную свободу. Девочки тут же начинали делать «секретики» – прятать конфетные фантики под осколками бутылочного стекла – или играть принесенными из дома куклами в дочки-матери. Мальчишки ловили жуков в траве за верандой, играли в войну или строили замки в песочнице. Иногда воспитательница устраивала командные игры: «Из круга вышибала», «Цепи», «Морская фигура, замри». Отличительных знаков на одежде воспитанники детского сада не имели.
Второй этап во взрослую жизнь начинался с первого класса школы. В сентябре всех первоклашек принимали в октябрята. В качестве отличительного знака принадлежности к октябрятам ученикам выдавался купленный родителями октябрятский значок – алая пятиконечная звезда с юным кудрявым Лениным в центре. Став октябренком, Юра Борзых пошел в родной детский сад. Воспитательница обрадовалась его приходу, расспросила, как дела в школе, но на октябрятский значок внимания не обратила. На обратном пути Юра отметил, что никто из взрослых не восхищается алой звездочкой у него на груди, никто не похвалит: «Молодец! Теперь ты стал взрослым». Вечером пришли с работы родители. Юра специально не переодевался, надеялся, что хоть мама-то поздравит со вступлением в октябрята, расспросит, как прошла торжественная линейка, кто прикрепил октябрятский значок к груди. Надежды не оправдались! Для родителей Юры, как и для всех взрослых в стране, пятиконечная звездочка с кудрявым Лениным была не символом вступления в организацию будущих пионеров, а обычным атрибутом повседневной школьной формы учащихся младших классов.
На следующей неделе первоклашек разбили на пятерки. У каждого из членов пятерки была своя обязанность. Юре выпало быть физкультурником, а его соседка по парте стала санитаркой. В понедельник две санитарки перед уроками стали проверять чистоту рук у одноклассников.
– Кто пришел с грязными руками – на уроки не пустим! – грозно предупредили они.
На заре октябрятского движения и до конца 1940-х годов проверка рук имела смысл, стимулировала учащихся соблюдать личную гигиену. В 1972 году это было совершенно бессмысленное занятие. Все учащиеся в школе проживали в благоустроенных квартирах с горячей водой. На огородах не трудились, коров и свиней видели только на картинках. Спрашивается, откуда у современного городского школьника может взяться несмываемая грязь на руках? Но правила есть правила. Санитарки по понедельникам проверяли чистоту рук, как-то повздорили с одноклассником, и тот силой прорвался в класс, обозвав девочек нехорошими словами. Конфликт пришлось улаживать классной руководительнице Анне Егоровне, самому уважаемому педагогу начального образования в школе. Анне Егоровне было около шестидесяти пяти лет, но выглядела она гораздо старше, как ровесница черепахи Тортиллы. Во время уроков Анна Егоровна прохаживалась по классу с длинной линейкой в руках. Если кто-то из учеников начинал баловаться или вертеться на месте, учительница безжалостно лупила его линейкой по рукам и голове. «Тупицы», «придурки», «дебилы» – каких только слов не наслушались ученики в свой адрес. Надо отдать должное – Анна Егоровна не зверствовала, линейкой била исключительно плашмя, а не ребром. Детей она не любила, зачем пошла работать в школу – неизвестно. Из всех учеников в классе особенно не везло Юре. У него никак не получалось красиво выводить крючки и закорючки, из которых состояли буквы. Анна Егоровна при детях называла Юру самым тупым учеником в классе, почти на каждом уроке выставляла в прописи двойки. Родители наказывали Юру за плохую успеваемость – лишали прогулок, заставляли по десять раз переписывать ненавистные крючки. Юра попробовал пожаловаться родителям на жестокую учительницу, но сделал только хуже. Отец, выпивший с друзьями после работы, схватился за ремень.
– Сам виноват – и еще жалуешься! – разъярился глава семейства. – Мало Анна Егоровна вас наказывает, мало! Вы, кроме ремня, ничего не понимаете.
Мать вмешалась в воспитательный процесс только тогда, когда избитый Юра ревом ревел и обещал, что обязательно исправится на следующем уроке.
Через год Анна Егоровна ушла на пенсию. Новая учительница на ребятишек голос не повышала, с линейкой по классу не ходила. Без кнута над головой Юра начал учиться на хорошо и отлично. Закорючки у него по-прежнему красиво не получались, зато писал он почти без ошибок и примеры по математике решал лучше всех в классе.
С вручением октябрятской звездочки первоклассники вступали на бесконечную тропу политпросвещения. Начиналась она с рассказов о детских и юношеских годах Володи Ульянова, физически крепкого кудрявого ученика Симбирской гимназии. Будущий вождь мирового пролетариата представал перед ребятишками идеальным сыном, братом и товарищем. Учился он только на отлично, с детства мечтал об освобождении рабочего класса от оков проклятого царизма. Судя по многочисленным рассказам о Ленине, за свою жизнь он не совершил ни одного предосудительного поступка. Если бы авторы этих рассказов хотели придать своим произведениям хоть чуточку достоверности, то следовало бы позволить маленькому Володе Ульянову совершить необдуманную мелочь. Например, столкнуть соседского кота с забора. Но нет! Владимир Ильич Ульянов (Ленин) с рождения был непогрешим. Желаемого воспитательного эффекта рассказы о Ленине не имели. Дети росли не в вакууме, они видели жизнь за порогом школы, и эта жизнь говорила им, что идеальных людей нет, не было и не будет. Рассказы о житии непогрешимого Володи Ульянова со временем начинали восприниматься октябрятами как предписываемый обществом свод правил поведения. Правило первое гласило: «Думать ты можешь все что угодно. Говорить – только то, что от тебя хотят услышать».
Но школьной жизнью не ограничивался первый этап становления юноши. Кроме парты и учебников, была еще дворовая жизнь, были каникулы! Летом во дворах пацаны объединялись для игр, в которых участвовало подчас до полусотни человек. Самой популярной была игра в войну, в которой участвовали «русские» и «немцы». «Русскими» были мальчики постарше, вооруженные купленными в магазине игрушечными автоматами и пистолетами. Те, у кого денег на «настоящее» оружие не хватало, становились «немцами». Вооружены «немецко-фашистские захватчики» были кто чем, вплоть до палки, изображавшей винтовку. У Юры Борзых был игрушечный пистолет, но по возрасту его в советскую армию не брали. Не беда! Юра нашел выход из положения. На близлежащей стройке он стащил лопату, отпилил по размеру черенок, прибил к нему круглую крышку от небольшой кадушки. На конце черенка вбил два длинных гвоздя, и получился ручной пулемет на сошках, точно такой же, как у товарища Сухова в фильме «Белое солнце пустыни». Пацаны во дворе обалдели от невиданного оружия и тут же приняли Юру в команду защитников отечества. Почти неделю Юра Борзых с пулеметом в руках защищал заброшенную стройку недалеко от школы. Авторитет его среди мальчишек рос день ото дня, но всему хорошему приходит конец. Однажды вечером сторож с соседней стройки подкараулил его и хотел поймать, надрать уши за украденную лопату. «На войне как на войне!» Под натиском превосходящих сил противника пришлось бросить пулемет и спасаться бегством. Больше Юра в войну не играл. Идти в команду всегда проигрывающих «немцев» не хотелось, в ряды советской армии без пулемета не принимали. После второго класса появилась новая игра, еще более увлекательная и захватывающая, – «Индейцы и бледнолицые». Состоять и в той и в другой команде было престижно. «Индейцы» кичились, что они прямые наследники и соплеменники непобедимого Чингачгука. «Бледнолицые» вели свой род от ковбоев, первопроходцев Запада, мастеров стрельбы из пистолета. Чтобы стать ковбоем, надо было иметь игрушечный пистолет, «стреляющий» пистонами. «Индейцы» вооружались копьями-дротиками. Копья не продавалась в магазине, зато в избытке имелись на стройке пятиэтажного панельного дама. Назывались они штапиками и служили для крепления стекла к оконной раме. По вечерам «индейцы» занимали здание строящегося кирпичного дома, готовили дротики. «Бледнолицые» шли на штурм, паля из пистолетов направо и налево. Индейцы в ответ метали штапики, отстреливались из ружей. В разгар битвы вопли стояли такие, что как-то раз жильцы не выдержали и вызвали милицию. Все окончилось благополучно. Заметив «бобик» канареечного цвета, «индейцы» и «бледнолицые» незаметно покинули стройку и разошлись по домам. В августе рабочие обнаружили, что не смогут вовремя остеклить целый этаж – штапиков не было, шпана все растащила. Бригадир строителей решил преподать «индейцам» урок, чтобы впредь на социалистическое имущество не покушались. В пятницу рабочие разошлись со стройки по домам. «Индейцы» достали из тайников штапики и заняли позицию около строительных вагончиков. Тут случилось неожиданное: строители вернулись! Кто был шустрее, успел убежать, кто замешкался, был пойман и примерно наказан. Мужики таскали воришек за уши, лупили по мягкому месту гибким электрическим проводом.
– Будешь еще воровать, будешь? – приговаривали работяги.
– Нет! – верещали наследники легендарного вождя краснокожих. – Дяденька, отпустите! Я больше так не бу-ду-у-у!
– К родителям тебя отвести? Милицию вызвать? – не унимались строители. – В тюрьму хочешь?
– Не-е-ет!
Слезы лились рекой, уши пылали, на ягодицах вспухали багровые рубцы, но пацаны были не в обиде на строителей. Сами виноваты: попались – надо отвечать! Главное, чтобы мама с папой не узнали, почему сын на попу сесть не может. За воровство на стройке от родителей можно было огрести так, что сложенный вдвое провод покажется мягким, как птичье перышко.
В начале 1970-х годов взрослые в детские игры не вмешивались. Бегают пацаны на стройке по обломкам кирпичей и доскам с торчащими гвоздями – пускай бегают. Мечут друг в друга дротики, которыми запросто можно выбить глаз? Пускай мечут, учатся с детских лет быть верткими и осторожными. Никому из родителей пострадавших «индейцев» в голову бы не пришло написать на строителей заявление в милицию. Попался сын с ворованным штапиком в руках – пусть отвечает. Впредь умнее будет: или воровать отучится, или попадаться не будет.
Так, в учебе и играх, прошли для Юры Борзых первые три класса начальной школы. Жизнь его на первом этапе мало чем отличалась от жизни сверстников в любом конце бескрайнего Советского Союза. Игры у всех могли быть разными, но полученный жизненный опыт – в основном одинаковый: «Нашкодил – не попадайся! Наказывают – бери вину на себя, ни в коем случае не предавай друзей. Чти неписаный кодекс уличной чести – библию дворовой жизни».