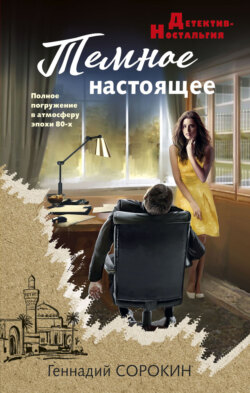Читать книгу Темное настоящее - Геннадий Сорокин - Страница 6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
5
ОглавлениеВ 1930-х годах на волне индустриализации в областном центре началось строительство крупнейшего в Сибири химкомбината. Для строителей возвели временное жилье – целый поселок бараков рядом с химкомбинатом. Барак представлял собой длинное одноэтажное деревянное строение с двумя входами-выходами с торцов здания. В типовом бараке было двадцать комнат, по десять с каждой стороны. Отопление печное. Топки печей выходили в общий коридор. Это странное на первый взгляд решение было продиктовано мерами безопасности: из общего коридора любой жилец мог заметить вывалившийся из топки уголек, способный спалить весь барак. Туалеты в бараках располагались на улице. Рядом с ними была свалка бытового мусора, в которой активно размножались крысы. Централизованного водоснабжения не было. За каждым ведром воды приходилось идти на колонку, зачастую расположенную в сотне метров от дома. На весь поселок был один магазин и одна двухэтажная деревянная школа-семилетка. На планах градоустройства поселок назывался «Предзаводской». В перспективном плане развития города у него было другое название – «Промзона».
До середины 1950-х годов бараки считались сносным жильем. С началом строительства крупнопанельного домостроения из поселка в новостройки стали переселяться передовые рабочие химкомбината, инженерно-технический персонал. К началу 1970-х годов в поселке проживали не более двадцати процентов работников близлежащих предприятий, остальные комнаты в бараках заселяли далеко не лучшие представители советского общества: алкоголики, тунеядцы с фальшивыми справками об инвалидности, недавно освободившиеся из мест лишения свободы уголовники, пенсионеры, обменявшие благоустроенные квартиры на комнату в бараке с доплатой. В 1971 году руководство завода «Химпром» провело инвентаризацию жилого фонда и отказалось содержать инфраструктуру поселка за счет предприятия. Все коммунальные услуги: водоснабжение, подача электроэнергии, вывоз мусора, расчистка улиц от снега – легли на плечи Заводского райисполкома. Спустя год председатель райисполкома представил в районный комитет партии заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы о том, что проживание в непосредственной близости от химического предприятия вредно и даже опасно для здоровья. Поселок надо расселять, а на его месте делать промзону – свободное от жилищ пространство не используемой в народном хозяйстве земли. Четыре года ушло на согласование переселения жителей поселка в новое благоустроенное жилье. В 1978 году через дорогу от 34-й школы началось строительство микрорайона 56—1/2. В архитектурном плане новый микрорайон был построен без учета реалий конца 1970-х годов. При его возведении не учитывались тектонические изменения, произошедшие в молодежной среде за прошедшее десятилетие. Подрастающее поколение вместо того, чтобы пополнять ряды строителей коммунизма, активно криминализировалось, в культурном отношении ориентировалось на Запад. Нравы и обычаи дворовой жизни шли в ногу с развитием общества, но только не по дороге, на которую указывала партия, а параллельно – в свой, более интересный мир. Архитекторам перед тем, как провести на ватмане первую линию, стоило бы спросить подростков о голубях. Была такая задушевная песня со словами «На этой улице подростком / Гонял по крышам голубей…» Школьники середины 1970-х годов просто бы не поняли, зачем надо гонять голубей, да еще по крышам, с которых можно сорваться? В послевоенное время увлечение голубями было повальным. Через тридцать лет оно стало уделом любителей-одиночек. Если архитекторам было лень спрашивать молодежь, то надо было просто выйти на улицу и посмотреть, как одеты представители подрастающего поколения, какие прически носят, что слушают. К концу 1970-х годов появилась мода выставлять в раскрытое окно колонки от магнитофона и на всю мощь врубать записи западных исполнителей. У подъездов, слушая бесплатные концерты, покуривали на лавочках длинноволосые парни в джинсах и кедах. Девушки, не стесняясь, носили короткие юбки, пользовались косметикой. Оценив внешние перемены в молодежной среде, градостроителям стоило бы поинтересоваться дворовой жизнью. А она на седьмом десятке советской власти приобрела черты феодальной раздробленности средневековой Европы. Центром любого микрорайона стала школа. Дворы вокруг нее – отдельное государство, во главе которого стоял один или несколько лидеров. Далее система подчинения соответствовала схеме из учебника истории за пятый класс с разделением слоев общества не по сословиям, а по личным качествам и возрасту. За лидером микрорайона шли физически крепкие парни допризывного возраста, закаленные в уличных схватках, бесстрашные, дерзкие. Следом – школьники старших классов и учащиеся ПТУ, только готовящиеся стать уличными бойцами. Семиклассники и восьмиклассники в дворовых битвах играли роль толпы, были массовкой, призванной устрашить неприятеля. Каких-то особых прав они не имели, но считались полноправными членами дворового сообщества. Не участвующие в уличной жизни подростки назывались «тихушниками». Они жили сами по себе в замкнутом мире книг и безобидных хобби. «Тихушники», сидящие по вечерам дома, не были изгоями. Если кого-то из них прихватывали в соседнем микрорайоне, то вся школа могла встать на их защиту. Вопрос объявления войны одним микрорайоном другому зависел от причины конфликта – было то нарушение уличных законов или межличностные отношения. Псевдофеодальное устройство дворовой жизни устраивало руководство партийных органов и милицию. Разобщенная по дворам молодежь не задумывалась о переустройстве мира, о массовых протестах против диктата партии. Общественный порядок в микрорайоне, объединенном вокруг одной-единственной школы, был значительно выше, чем в районах без микрорайонного деления. Драки по схеме «двор на двор» исключались – все подростки учились в одной школе, ориентировались на одних и тех же уличных авторитетов. В 1980 году восьмиклассники всего Советского Союза писали выпускное сочинение по теме «Два мира – два детства». Юра Борзых как мог в сочинении превознес счастливое детство в СССР – единственной стране развитого социализма и как мог очернил детские годы подрастающего поколения в капиталистических странах. Вместо этого идеологически выдержанного, но насквозь фальшивого по содержанию сочинения следовало бы написать другое – на тему «Одно детство – два мира». Что мог знать обычный советский восьмиклассник о жизни на Западе, где было такое несчастливое детство? Ничего. К 1980 году молодежь уже не верила официальной пропаганде. Да и как можно верить телевизионным дикторам, если в любом репортаже из Нью-Йорка безработные парни все, как один, были в фирменных джинсах? «Монтана» или «Супер Перис» стоили в Сибири целое состояние – от 250 до 300 рублей. Какое же должно быть пособие по безработице, если заграничные бездельники могли себе позволить слоняться по подворотням в джинсах, на которые советскому рабочему надо два месяца трудиться, не есть, не пить, а только копить и копить каждый рубль с зарплаты? Ничего не зная о жизни за рубежом, советские подростки могли бы красочно описать свою жизнь, проходившую в двух параллельных мирах. В одном, связанном со школой или другим учебным учреждением, были пионерия, комсомол, ленинские уроки, коллективное чтение бессмертных трудов Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», «Целина», «Возрождение». В другом мире, вечернем, внешкольном, были вино, сигареты, рок- и дискомузыка, разговоры взрослых на кухне. «Опять куда-то молоко пропало. В Африку послали или детей братской Камбоджи решили досыта напоить?» Два параллельных мира в сознании советской молодежи не существовали одновременно, они сменяли один другого в зависимости от обстановки. Утром комсомолец со сцены читал стихи о Ленине, а вечером рассказывал про него веселые анекдоты. Такое раздвоение жизни никому не казалось странным. Оно стало нормой бытия, когда говоришь не то, что думаешь, а делаешь не то, что хотел бы делать.
При возведении микрорайона 56—1/2 устоявшиеся реалии молодежной жизни решили не учитывать и построили комплекс зданий по оригинальной схеме: средних школ в микрорайоне было две – № 57 и № 41. Школы разделял общий стадион. Учащихся в школы набирали в разных частях микрорайона. Второй градостроительной ошибкой было переселение всего Предзаводского поселка в одну часть микрорайона – 56—2. Отставшие в культурном развитии от остального города лет на двадцать, бывшие жители промзоны не желали интегрироваться в современное общество. В праздники женщины перебегали из подъезда в подъезд с кастрюльками и салатами, по вечерам у подъездов бывшие соседи по баракам устраивали посиделки с песнями под гармошку. Мужики почти в каждом дворе играли на деньги в карты и домино, подростки были предоставлены сами себе. Любимого поселкового развлечения – охоты на крыс – здесь пока не было, так что школьники из 41-й школы начали потихоньку осваивать другую часть микрорайона, где им были совсем не рады.
Учащиеся из Предзаводского поселка стали настоящим бичом педагогического коллектива сорок первой школы. Привыкшие к дисциплине и порядку на уроке, учителя были в ужасе от первоклашек. Совсем юные детишки никак не могли понять, почему в классе нельзя ругаться матом, если их мамы и папы других слов не знали. «Нам скучно по вечерам, – сказал как-то второклассник Дима. – Здесь даже нормальной свалки нет. Где нам играть?» В старших классах была другая проблема: раннее взросление подростков. Как-то одна учительница стала невольным свидетелем разговора между восьмиклассницами. Не догадываясь о присутствии педагога, девушки обсуждали насущную вещь – как на ранних сроках беременности вызвать выкидыш плода. Покраснев от стыда, учительница в смятении прибежала к директору.
– Они… они… – педагог не сразу смогла найти подходящие слова, – они говорили о прерывании беременности так обыденно, словно обсуждали рецепт праздничного пирога. Если мы не избавимся от промзоны, они нам всю школу развратят.
– Я бы рада их всех поголовно куда-нибудь сплавить, но куда? – обреченно вздохнула директор. – Мы не можем расселить целый микрорайон только потому, что у них семиклассницы считаются взрослыми девушками, имеющими право на личную жизнь. Вы не думайте, что я не вижу, что происходит. В соседней школе курят украдкой, убегают на переменах за теплицу, а в нашей пятиклассники смолят на крыльце, никого не стесняясь, и матом кроют так, что любой сапожник позавидует.
– Сколько нам их терпеть?
– Пока поколение не сменится и не появятся первые ученики, которые будут думать о продолжении образовании после окончания восьмого класса. Из нынешнего набора в девятый класс не пойдет никто. Даже в ПТУ никто не собирается.
В конце 1970-х годов каждый микрорайон имел свое неофициальное название. Дворы вокруг 34-й школы так и назывались – «Тридцать четвертая школа». В Ленинском районе города один из новых микрорайонов назывался «Швейцария». Почему «Швейцария»? Никто не знал, как произошло название, но все знали, где находится этот микрорайон. В микрорайоне 56—1/2 было две школы, так что называть его по номеру одной из них было нелогично. Со временем часть микрорайона, выходившую на проспект, стали называть «Страна Лимония», а бывшую промзону – «Страна Дураков». «Страна Лимония» заслужила свое название из-за бардака в дворовой жизни и своеобразного понимания уличных законов. Название «Страна Дураков» говорило само за себя. Как ни странно, подростки из 41-й школы гордились названием своей части микрорайона.
– Вы откуда? – прихватывали зазевавшихся школьников хулиганы в центре города.
– Из Страны Дураков, – с вызовом отвечали закаленные невзгодами ребята с промзоны.
– А-а… Тогда идите!
Связываться со шпаной, выросшей в бараках, городские парни не хотели. Считалось, что у них каждый второй носит нож в кармане и в случае чего без промедления пустит его в ход.
Индейцы в доколумбовой Америке передавали сообщения с помощью узелков на веревке. Если рассматривать историю, приведшую к трупу в офисном центре «Супер Плаза», как веревочное письмо, то первым узелком на нем было переселение промзоны вплотную к 34-й школе. Вторым узелком стал затяжной конфликт между Страной Дураков и соседними микрорайонами.