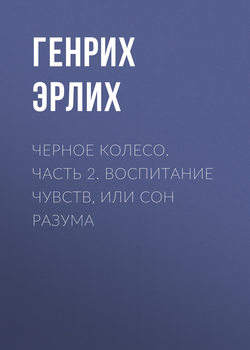Читать книгу Черное колесо. Часть 2. Воспитание чувств, или Сон разума - Генрих Эрлих - Страница 3
Глава 2. Говорит Москва
ОглавлениеПришло время рассказать об упоминавшейся уже встрече Ульяшина в Куйбышеве, которая повлекла столь далеко идущие последствия. Произошла она в первые месяцы нахождения Ульяшина в этом городе, вероятно, в конце ноября или в начале декабря, потому что было уже сильно холодно, этот холод проясняет наши воспоминания. Из-за него Ульяшин был одет в дублёнку, которая послужила поводом для «знакомства». Дублёнка в те времена была ярчайшим символом благосостояния и занимала второе место после машины. Как часто бывает, исконно русское и повседневное, сделав тур по западным странам и там облагородившись, вернулось обратно вожделенным идеалом. Тогдашние модники, не имевшие необходимых финансовых возможностей, действовали в стиле Эллочки Людоедки и прибегали к паллиативу в виде забытых и недавно еще презираемых овчинных полушубков и обкромсанных снизу тулупов. Добывали их всеми правдами и неправдами, а так как основным их источником были милицейские склады, то неправда преобладала.
Но у Ульяшина дублёнка была настоящая, югославская. Их ещё называли «комсомольскими», так как они служили униформой членов центрального комитета и бюро обкомов незабвенного ВЛКСМ. Перепадали они через спецраспределители и другим, приблИженным к власти людям, таким как Мария Александровна Ульяшина. Володя никогда не придавал вещам избыточного, мистического значения и использовал их строго по назначению, вот и свою дефицитную дублёнку носил почём зря, по погоде, тем самым провоцируя окружающих на противоправные поступки. Можно даже сказать, напрашивался на неприятности, так как разгуливал по городу в любой время суток, а при выборе дороги руководствовался не освещённостью и оживлённостью улиц, а расстояниями.
Впрочем, та встреча была всё же несколько случайной, потому что ждали не конкретно его, а кого-нибудь хорошо одетого. Было, по провинциальным понятиям, очень поздно, часов десять, на тихой улочке ни души, даже свет горел не во всех маленьких домишках, но от снега было достаточно светло. Ульяшин быстро шёл, прикрыв лицо от колючего ветра воротником, так что первого парня, притаившегося в тени крыльца, он пропустил, но когда метрах в пятнадцати перед ним вынырнули на тротуар ещё двое, он подобрался, опустил воротник, замедлил шаг и, не поворачивая головы, метнул взгляд по сторонам, отметил мелькнувший огонёк сигареты в подворотне на другой стороне улицы, прислушался к лёгкому поскрипыванию снега за спиной.
– Эй, фраер, дай закурить, – сказал один из парней, заступивших ему дорогу.
– Это пожалуйста, – ответил Ульяшин, останавливаясь, и отметил про себя: – Салаги!
Он принялся, не спеша, снимать рукавицу. Поскрипывание затихло у него за спиной. Стоящие перед ним парни как-то незаметно напирали, вынуждая отступить назад.
«Пора!» – немного отрешённо подумал Ульяшин, когда правый из парней поднял руку на уровень его груди. Он резко повернулся боком, захватил протянутую руку и швырнул парня на другого, пригнувшегося сзади. И тут же, не давая опомниться, сильно толкнул обеими руками в грудь третьему парню, забросив того в придорожный сугроб.
– Гопники недоделанные! – Ульяшин сплюнул в сторону барахтавшихся в снегу парней и спокойно направился на другую сторону улицы.
– Здравствуй, дядя! – сказал он притулившемуся в подворотне немолодому мужчине с изрезанным морщинами лицом. – Плохо пацанов учишь!
– Нормально учу, – проворчал тот, швыряя докуренную папиросу в снег. – Ты откуда такой смелый вылупился?
– Из Свердловска, – коротко ответил Ульяшин и достал пачку «Явы». – Закурим?
– У меня свои, родные, – мужчина достал пачку «Беломора». – К нам надолго? – спросил он, закурив.
– Это как масть ляжет. Может быть, и надолго. На адвоката учусь. Из Свердловска выгнали после одного конфликта с милицией, вот и решил здесь пока осесть.
Приплелись парни, как побитые собаки.
– Что, уши опухли? – усмехнулся Ульяшин, чуть повернувшись к ним. – Закуривайте, – он протянул им пачку, чуть встряхнул рукой и прихватил выскочившие сигареты.
Затем, не обращая больше внимания на молодых, поговорил ещё немного с мужчиной.
– Ладно, живи, – сказал тот, наконец, – возникнут проблемы, ссылайся на меня, меня Мотылём кличут. Ещё увидимся!
– Наш, что ли? – осторожно спросил один из парней, глядя в спину удалявшегося Ульяшина.
– Какой наш?! Фраер наблатыканный! – отмахнулся Мотыль и, задумавшись, добавил: – Но может оказаться полезным.
* * *
Следующая встреча не заставила себя долго ждать. Как мы помним, Ульяшин сам не готовил ничего сложнее бутерброда, поэтому в отсутствие матери питался в общественных заведениях. Он перебрал уже несколько ресторанов, дошёл черёд и до «Волги», расположенной в районе Новой набережной. Буквально в первый вечер, войдя в ресторан, он заметил Мотыля, сидевшего за столиком с двумя незнакомыми молодыми парнями. Мотыль, внимательно оглядывавший всех входящих, тоже узнал Ульяшина и призывно махнул ему рукой. Ради такого случая, против своего обыкновения, Володя попросил официанта принести пол-литровый графинчик водки и подобающую закуску. Так начался разговор, длившийся с недельными перерывами несколько вечеров. Мотыль дотошно расспрашивал Ульяшина о разных обстоятельствах его жизни и тот правдиво на всё отвечал, руководствуясь двумя своими золотыми правилами: не врать в том, что проверяется, и не говорить о том, о чём не спрашивают. Так, о деталях своего происхождения он не распространялся, но о брате Александре упомянул с вполне конкретной и уже известной читателю целью. Зато во всех красках расписал свою жизнь в Свердловске, естественно, в той её части, которая протекала за пределами центрального пятачка. Мотыль одобрительно кивал головой, подробно расспросил о Скоке, допытываясь до детального описания и мелких привычек, и затем, усмехнувшись, сообщил, что Скока он хорошо знает по совместному, достаточно долгому пребыванию в местах не столь отдалённых. Но лишь по прошествии нескольких лет Ульяшин узнал, что Мотыль специально связывался со Скоком, уточнял детали Володиного рассказа и выяснял его мнение о молодом человеке.
Судя по всему, сообщенными ему сведениями Мотыль был полностью удовлетворён, потому что постепенно он стал давать Ульяшину всякие мелкие поручения, маскируя их просьбами о дружеской услуге. Поначалу тоже не обошлось без проверок, но Ульяшин берёг доверенные ему деньги и секреты пуще глаза, так что постепенно он был допущен в ближнее окружение Мотыля. Произошло это не быстро, до своей летней поездки в Москву Ульяшин вообще держался немного отстранённо и лишь после возвращения активно пошёл на сближение. Впрочем, ни в каких криминальных делах он не участвовал – Мотыль его не привлекал, приберегая для другого, а Ульяшин не напрашивался. Приблизительно тогда же к нему привязалось его прозвище – Звонок. Согласно официальной версии, он служил связным между различными уголовными группами Куйбышева и целыми днями сновал по городу, разнося всякие важные и срочные новости, был, одним словом, «гонцом» или «атасником». Но нам кажется, что так его припечатали за излишнюю склонность к пустой, с точки зрения воров, болтовне. Очень явственно представляем мы какого-нибудь Мотыля, затыкающего уши и досадливо восклицающего: «Не звени!» – или «Умолкни, звонок!»
* * *
Как мы видим, Ульяшин перестал скрывать свои связи с криминальным миром. Так уж получилось, а точнее, так уж он решил, что теперь эта сторона жизни вышла на первый план. Пусть милиция да КГБ думают, что он приблатнённый, что трётся около воров, подхватывая крошки с их стола, что оказывает им за плату мизерные юридические услуги. Главное, не попадаться ни на чём серьёзном и держать язык за зубами, то есть о бабах и о красивой жизни – это сколько угодно, а о политике ни слова даже на уровне анекдота. Кому в этом случае придёт в голову, что у Звонка есть другая жизнь?
У этой, другой жизни пока была только цель, сформулированная по-ульяшински бескомпромиссно и чётко – свержение Советской власти. Непременно путем вооружённого восстания и с обязательной публичной казнью всех партийных функционеров и их прихвостней. Встававший перед глазами вид бесчисленных проспектов и улиц Ленина с висящими на столбах коммунистами веселил душу и придавал сил для поиска путей к этой заманчивой цели. Пока что никаких путей не просматривалось.
Революцию хорошо начинать с чистого листа. Когда народ десятилетиями терпит, веками иногда терпит, из последних сил терпит, и тут появляешься ты на белом коне (слоне, броневике, танке) и указываешь ему путь в светлое будущее. Тогда революция проходит весело и быстро. Неплохо удаются повторные попытки. Тут важно правильно улучить момент, когда народ залижет раны и накопит гнев. Страница перевёрнута, можно начинать второй тур.
Революция не может следовать за революцией, ничего хорошего из этого не получается, Россия же первая это и доказала – выдала на-гора две революции за год, буржуазную февральскую и социалистическую октябрьскую, так сто лет последствия расхлебывали. Нет, между революциями должен быть длительный антракт или хотя бы хорошая контрреволюция. Лишь хитроумный Лев Давидович Троцкий сумел обойти это препятствие, правда, на бумаге. Суть его теории перманентной[2] революции проста: устроил революцию у себя – устрой у соседа; пока обежишь с факелом восстания всех соседей, придёт время повторять революцию у себя дома.
Конечно, между 1917-ым годом и описываемым нами 1972-ым перерыв был вполне подходящий для следующей революции, но к чему было призывать народ? Вперёд к светлому будущему? Но мы и так ползли к нему семимильными шагами. Назад в Российскую империю? Но мы показатели пресловутого 1913-го года обогнали в среднем в сорок раз, а для прогресса в области производства атомных бомб человечество ещё числа не придумало. Вбок на Запад? Не нужно нам царства жёлтого дьявола и его звериного оскала! Куда ни кинь – всюду клин!
Впрочем, кое-какие революционные идеи всё же витали в то время в воздухе. Разрабатывались разнообразные варианты кардинального изменения действительности при сохранении цели – коммунизма – и символа веры – диктатуры пролетариата со всеми вытекающими следствиями. Выведенный нами выше запрет на последовательность революций обходился весьма изящно: Сталин-де осуществил контрреволюцию, так что пришло время для новой революции под старыми ленинскими лозунгами.
Ульяшина этой мякиной не провести! Он понимал, что коли уж рубить, так под корень. Вот только чем рубить?!
Таков краткий конспект мыслей Ульяшина после его летней поездки в Москву.
* * *
В России не может быть революции, революции происходят в рассудочных и прямодушных странах, там они вызываются злоупотреблениями власти и приводят к смене власти. Стихия России – бунт, взрывной протест против злоупотреблений власти, временное их уничтожение при сохранении самой власти. «Бунт не может кончиться удачей, в противном случае он называется иначе». Тонкость России – в дворцовых переворотах, в тихой смене власти при сохранении злоупотреблений. Все известные дворцовые перевороты в России были успешны. «Король умер! Да здравствует король!»
Россия – страна крайностей, поэтому в ней и не может быть нормальной революции как естественной стадии развития. Ульяшин полжизни ломился в открытую дверь, прежде чем осознал эту простую мысль.
Революция требует подготовки и планомерной работы. Эти два понятия глубоко чужды, скажем больше, противны русскому человеку. На национальных окраинах огромной страны ещё было какое-то шебаршение, Россия же традиционно лежала на печи. Бунтовать – изредка бунтовали, не без этого, но за семьдесят с лишним лет советской власти так и не сподобились ничего «организовать». Власть существовала при полном и безоговорочном попустительстве всего народа, так что в этом смысле советское государство было, несомненно, общенародным.
Ульяшину бы задуматься поглубже над этим феноменом, понять, что редкие льдинки на поверхности океана никак не мешают движению корабля коммунизма, а лишь оживляют пейзаж и живописно подчёркивают спокойствие и беспредельность океана. Он же принял эти редкие льдинки за вершины айсбергов, один из которых рано или поздно потопит-таки самоуверенный «Титаник».
В оправдание Ульяшина скажем, что ему просто не повезло. Подавляющее большинство российского народа, пережившее коммунизм, знать ничего не знало ни о каких выступлениях против советской власти. Слухи, конечно, были, как же без слухов! Но слухи к делу не пришьёшь. Были передачи западных радиостанций, но там говорилось всё больше о письмах и заявлениях. А вот чтобы вживую увидеть какую-нибудь демонстрацию, или листовку в руках подержать, или хотя бы прочитать намалёванный на заборе антисоветский лозунг – такого не случалось. Ульяшин же сподобился, причём дважды.
Дело было в Свердловске. Несколько молодых рабочих основали организацию под названием «Свободная Россия». Как водится, начали с благородной идеи расстрела областного начальства во время праздничной демонстрации, но из-за невозможности достать оружие (дикие времена! гримасы тоталитаризма!) остановились на пишущей машинке и писании прокламаций. Первая из них с поэтическим названием «Восходящее солнце» и попала в руки Ульяшина во время посещения им женского общежития завода «Уралмаш». Листовку Володя принёс домой, но затем по настоятельной просьбе матери изорвал в клочья и спустил в унитаз. О существовании второй листовки «Меч тяжёл, необходимо объединение сил» Ульяшин узнал уже из материалов уголовного дела, точнее говоря, из рассказа известного нам Никанора Михайловича Полубатько, главного милиционера области. За полгода, разделявшие две листовки, молодые революционеры успели переименовать свою организацию в «Российскую рабочую партию», приняли устав и программу и определились с размером членских взносов. Все это потянуло в сумме на пять лет лагерей, каждому.
Тогда же и из того же источника Ульяшин узнал о разгроме ещё одной организации молодых рабочих, называвших себя «Революционной партией интеллектуалистов Советского Союза». Детали ему были неизвестны, так как дело передали в суд уже после отъезда Ульяшиных из Свердловска, но это было и не важно, главное – сам факт существования подпольного движения.
Ульяшин не сомневался, что, останься он в Свердловске, он быстро бы вышел на этих подпольщиков. Но что делать в незнакомом Куйбышеве? Не будешь же подходить ко всем встречным и, заглядывая в глаза, задушевно спрашивать: «А как вы относитесь к Советской власти? Хорошо? Жаль. А не подскажите, к кому обратиться по вопросу её свержения?» Нужно было время, чтобы хорошо познакомиться с городом и людьми, обрасти связями, но Володя был по-юношески нетерпелив. И его взоры обратились к Москве. Ведь должен же быть у движения центр! И центр этот, естественно, должен располагаться в Москве!
* * *
Никаких зацепок у Ульяшина не было. Разве что несколько фамилий, мелькавших в передачах «Голоса Америки», «Би-би-си» и «Немецкой волны». И ещё где-то в Москве печаталась «Хроника текущих событий», единственное периодически выходящее «инакомыслящее» издание в стране. В то время Ульяшин не понимал ни принципиальных, ни тонких различий между разнообразными формами отечественного инакомыслия, для него все они были диссидентами, кто не с коммунистами – тот против них.
Ульяшин ещё в Свердловске познакомился с «Хроникой», получал её «на ночь» от некоторых из своих однокашников и небезызвестного нам Константина, фрондирующих таким образом против своих высокопоставленных родителей. «Хроника» ему импонировала своей внешне бесстрастной манерой изложения, представлением фактов без навязывания оценок и выводов.
«Но как же их найти? – думал Ульяшин. – Они, конечно, молодцы!..» В его памяти всплыли строки: «„Хроника“ ни в какой степени не является нелегальным изданием, но условия её работы стеснены своеобразными понятиями о легальности и свободе информации, выработавшимися за долгие годы в некоторых советских органах. Поэтому „Хроника“ не может, как всякий другой журнал, указать на последней странице свой почтовый адрес. Тем не менее, каждый, кто заинтересован в том, чтобы советская общественность была информирована о происходящих в стране событиях, легко может передать известную ему информацию в распоряжение „Хроники“. Расскажите её тому, у кого вы взяли „Хронику“, а он расскажет тому, у кого он взял „Хронику“ и т. д. Только не пытайтесь единолично пройти всю цепочку, чтобы вас не приняли за „стукача“». «Конец цитаты, – произнёс он, пародируя западных журналистов, и тяжело вздохнул. – А что делать, если тот человек, который дал мне „Хронику“, как раз и похож на стукача?»
Ульяшин вспомнил своего шапочного знакомого, который после двух нейтральных разговоров вдруг протянул ему скреплённую пачку из нескольких тонких сероватых листов бумаги со слепым текстом, четвёртая-пятая копия с несвежей копиркой, как определил навскидку Володя.
– Последний выпуск, только что из Москвы привезли. Не видел ещё? – спросил знакомый, стреляя глазами по сторонам.
– Да я и предыдущих не видел, – ответил Ульяшин и демонстративно безразлично посмотрел на напечатанное крупными буквами название. – «Хроника текущих событий»? Первый раз слышу!
– Ну что ты! – удивился знакомый. – Это будет похлеще всяких романов, гуляющих в самиздате[3]. Посмотри непременно! Возьмёшь?
– Давай посмотрю, – сказал Ульяшин, протягивая руку.
– Только ты обязательно завтра верни. За «Хроникой», знаешь, какая очередь стоит?!
– А как я тебя завтра найду? – спросил Ульяшин, едва сдерживая усмешку.
– Я сам, сам тебя разыщу! – воскликнул знакомый и поспешно отошёл.
Выпуск Ульяшин проштудировал очень внимательно, даже выписал несколько фамилий, а утром вернул листочки знакомому, заметив пренебрежительно:
– Скукотища! Я, честно говоря, заснул на третьей странице. По-моему, так враньё, а если в чём-то и соответствует действительности, то всё равно это ловля блох и копание в навозной куче.
– Ну, как знаешь! – протянул знакомый разочарованно.
Конечно, Ульяшин рисковал. Могли и взять с запрещённой литературой в кармане, но тут бы он отговорился незнанием содержания и без зазрения совести сдал бы своего знакомого – в этом случае подставка была несомненной. Пожалуй, было бы подозрительнее, если бы он не взял «Хронику» – где это видано, чтобы интеллигентный, свободный в мыслях и поступках молодой человек отказался от самиздата?
* * *
Никогда не пренебрегайте простыми решениями! Часто они оказываются самыми эффективными. На всякого мудреца довольно простоты.
Как-то раз, забежав по дороге к Буклиевым, Ульяшин увидел телефонный справочник города Куйбышева и, пролистав его, с удивлением наткнулся на алфавитный перечень зарегистрированных частных абонентов с номерами телефонов и, главное, адресами. Вечером он позвонил в Москву, попал на дядю Якова Каплана, который объяснил ему, что ничего подобного в Москве нет, это на гнилом Западе телефонные справочники лежат в каждом уличном автомате, но в Москве есть «Мосгорсправка», кабинки у каждой станции метро, и там при указании имени, отчества и фамилии, а также возраста можно получить домашний адрес практическим любого жителя Москвы.
Ульяшин помянул недобрым словом западные радиостанции и отечественных диссидентов, которые считают отчества излишними. Но после анализа имевшегося у него списка кое-что выкристаллизовалось, самое перспективное – Ирина Петровна Якир. С определением возраста помогла Мария Александровна, кладезь сведений о верхушке страны. Володя подозревал, что и нужные ему адреса мать нашла бы без труда, но не хотелось впутывать её во всё это дело – начнутся расспросы, отговоры, волнения.
Вскоре после ноябрьских праздников Ульяшин поехал в Москву.
«Авантюра, конечно, – размышлял он по дороге, – даже разговаривать не будут. Но чем чёрт не шутит! Попытка – не пытка. В милицию, поди, не сдадут, – усмехнулся он. – Надо будет им чего-нибудь наплести интересного, если до разговора дойдёт».
Ульяшин прогнал в памяти уже известную нам историю о молодых свердловских революционерах. «Сойдёт как история номер раз, – подумал он, – но там дело до суда дошло, это они, наверно, всё знают лучше меня. Надо бы им подбросить что-нибудь новенькое, неизвестное».
И Ульяшин принялся выстраивать историю номер два. Что-де есть группа из молодых рабочих и студентов, изучают марксизм, убеждаясь в отходе власти от её собственных основополагающих принципов, интересуются историей анархизма как незаслуженно забытой ветви социализма, слушают Голоса, вот только с литературой напряжённо, нет выхода на самиздат. Ульяшина, как самого продвинутого, направили в Москву, чтобы связаться с единомышленниками и обзавестись литературой. Невинная такая история, «Тимур и его команда» Гайдара, издание второе, переработанное, из неё никакого дела не сошьёшь, провокаторы с такими историями не заявляются.
Интересно, что нечто подобное Ульяшин впоследствии осуществил на самом деле. Организовал в Куйбышеве кружок и хотя сам не светился на его собраниях, но активно подбрасывал литературу и исподволь направлял деятельность. Народу в кружке по тем меркам было довольно много – на первую демонстрацию в 1976 году вышло около сорока человек. Что с того, что была она в День дурака и демонстранты скандировали шутливые лозунги?! Это, кстати, Ульяшин и придумал: смеясь преодолеть барьер страха перед выходом на несанкционированное властями шествие. Даже такую демонстрацию милиция разогнала, а некоторые участники схлопотали по пятнадцать суток ареста, но через год они вновь вышли на улицу и несли уже плакат с требованием свободы печати. Вскоре после этого Ульяшин навсегда покинул Куйбышев, но его молодые товарищи продолжали шуметь и кончили, как положено, лагерем.
* * *
– Дядя Яков, не подскажете, как удобнее добраться до этого дома? – Ульяшин показал Каплану листок с адресом, прикрыв, как бы невзначай, номер квартиры пальцем.
– Гм, и что же тебе надо в этом доме? – усмехнулся тот.
– Да познакомился с симпатичной женщиной в поезде, пригласила на чашку чая, – не задумываясь, соврал Ульяшин.
– И на память черканула тебе, конспиратору, адресок на бланке Мосгорсправки, – продолжил Каплан и, посмотрев на обескураженного племянника, сказал твёрдо, – не надо тебе ходить в этот дом.
– Что вы заладили: дом да дом. Меня же не дом интересует, а люди.
– Не поймёшь вас молодых, то женщина, то люди, ты уж как-нибудь определись.
– Ну, люди, а среди этих людей много женщин, – буркнул Ульяшин и тут уловил весёлые искорки, промелькнувшие в глазах Каплана. – Дядя Яков, вы же всё прекрасно поняли! – воскликнул он. – Что же вы всё ходите вокруг да около?!
– Это, оказывается, я хожу вокруг да около! – всплеснул руками Каплан. – Женщин ему, видишь ли, много подавай. А они тебя ждут?
– Не ждут, потому что ничего обо мне не знают, – притворно всхлипнул Володя, к которому вернулось его весёлое расположение духа, – и дальше порога меня, сироту, не пустят. Если только какой-нибудь добрый человек не позвонит и не объяснит им, какой Володя Ульяшин хороший несоветский парень…
– Добрый человек, говоришь, – улыбнулся Каплан. – Знаешь, что роднит добрых людей? Не пытайся отгадать! Их роднит то, что все они совершают глупые поступки. Что ж, пойдем, позвоним, – и, остановив движение Володи к телефону, – куда ты? На улицу, в автомат.
– Ирочка? Здравствуй, дорогая, это твой дальний родственник. Как у вас дела? – Каплан долго молча слушал, тяжело вздыхая, потом сказал: – Да, ужасная трагедия. Такой молодой! Летят молодые на жертвенное пламя. Вот тут ко мне приехал из восточной провинции один такой молодой, дальний родственник, я тебе о нём как-то рассказывал. К вам рвется. Уж лучше к вам, а то отчебучит что-нибудь без присмотру. Так я дам ему адресок, – с неопределённой интонацией сказал Каплан. – Что? Ирин? А, ну ясно. Хорошо. Прямо сегодня может зайти? А это удобно будет? Ладно, я ему передам. Ты там поосторожней, на рожон не лезь, береги себя. Увидимся. Целую, – Каплан повесил трубку и повернулся к Ульяшину: – Ну, ты всё слышал, запоминай адрес.
* * *
Встретили Ульяшина радушно. Как родного, пошутил он про себя. Кроме хозяйки дома было ещё человек пять-шесть, которые не чинясь представились по именам, хотя и были все раза в два старше Володи. Услышав от хозяйки, что он из Свердловска («Я об этом не говорил», – отметил про себя Ульяшин), попросили рассказать, что он знает о событиях последних лет. Ульяшин выдал первый из заготовленных рассказов. Слушали внимательно, но Володя почувствовал, что общая канва событий всем присутствующим известна и их больше интересуют детали, а также его личное восприятие происшедшего. Не стеснялись вставлять свои комментарии и замечания. Ульяшин терпеть не мог, когда его прерывали, но тут он понял, что всё это говорится в основном для него, это ему на примере его же собственного рассказа пытаются объяснить основные принципы движения. Именно объяснить, а не навязать, да и как навязать, если высказывания даже в столь узком кругу весьма различались и походили на отголоски вечного спора. Что ж, это, как правильно уловил Ульяшин, тоже относилось к «основным принципам» и это тогда ему очень понравилось.
– Вот вы упомянули слово «террор». Мы, правозащитники, принципиально отвергаем насилие как средство достижения какой бы то ни было цели, пусть самой высокой. Мы его осуждаем и никогда к нему не прибегнем.
– Наш путь гениально прост: в несвободной стране вести себя как свободные люди и тем самым менять моральную атмосферу и управляющую страной традицию.
– Вы правильно заметили, Володя, что этот путь имеет давние традиции. Мы не разделяем идеи анархизма, хотя и понимаем, что молодёжь может ими увлечься. Мы преклоняемся перед величием Льва Толстого. Но вы забыли упомянуть о Ганди. Вот пример, который опровергает все возражения скептиков о невозможности ненасильственного изменения существующих порядков.
– Да, Ганди противостояли англичане, которые более склонны прислушиваться к голосу разума, чем наши нынешние правители. Но те же самые англичане, и весь Западный мир в целом, могут теперь оказать давление на советское руководство, чтобы побудить его пойти на уступки в деле прав человека. В этом и заключается наша главная задача: донести до правительств западных стран, до прогрессивной общественности правду о положении дел в СССР.
– Но и внутри страны мы готовы оказать консультативное содействие органам государственной власти в создании и применении гарантий прав человека, в разработке теоретических аспектов этой проблемы и изучении её специфики в социалистическом обществе…
– …Есть своя специфика в социалистическом обществе, и мы должны пропагандировать на Западе советские документы по правам человека…
– Что с того, что власти не консультируются с Комитетом прав человека в СССР. Пока не консультируются! Но мы не теряем времени даром, мы изучаем состояние этих прав в советской практике, теоретически разрабатываем проблемы прав человека в советском законодательстве.
– Поистине непаханое поле! Ведь никто, и в первую очередь советские правовики, не занимались этими проблемами в теоретическом аспекте.
– Нам всем ещё надо учиться! В нашем движении много энтузиазма, много воодушевления, но большинство не обладают ни опытом, ни достаточными знаниями в правовой области.
– Вам, Володя, как юристу, найдется много работы!
– Возьмите проблему тунеядства, вам она должна быть близка и понятна. Извините, я не имела в виду ничего такого. Ведь что такое «тунеядец»? И можно ли за это уголовно преследовать? И как обстоит с этим дело в СССР?
– Мы представим вам материалы, напишете статью, сделаете доклад…
– …Загрустил наш молодой друг! Статьи, доклады… У него, наверно, в голове готова программа подрывной деятельности: создание политической партии, подпольные кружки, листовки и вооруженная борьба.
– Нет, нет! Мы против создания всяческих организаций! Неужели вам не надоел этот культ «коллектива», все эти октябрята-пионеры-комсомольцы, все эти якобы добровольные общества, о которых и вспоминаешь-то только при уплате членских взносов? Нам наше братство дорого именно добровольностью, полной свободой каждого в определении своего участка в общей работе и в выборе партнеров, наиболее близких ему до духу.
– У нас нет лидеров, нет подчинённых, нет формальных связей, ни между нами, внутри ядра движения, ни между ядром и периферией. Никто никому не поручает никаких дел, а просто сам, засучив рукава, принимается за намеченное дело. И каждый волен присоединиться к нему. Вы не представляете, Володя, сколько находится добровольных помощников, вы даже представить себе не можете!
– Организации нужны, нужны как рупор, как официальный, признанный голос нашего движения. Но без всякого членства, без всякой строгой иерархии, без диктата и «демократического централизма». Организации, действующие открыто, строго по букве советских законов, каково бы ни было наше внутреннее отношение к отдельным из этих законов.
– …Это очень важно, что в движение вовлекаются рабочие! Что они выходят из своего вечно забитого состояния и осознают свои человеческие права!
– Участие рабочих – один из самых наших больных вопросов. Ведь посмотрите на статистику «подписантов», её сделал Андрей Амальрик среди участников письменных протестов против политических репрессий в конце шестидесятых. Почти половина – учёные, почти четверть – деятели искусств, а рабочих – только шесть процентов, студентов – пять!
– Да какие это рабочие! Те же студенты, недоучки.
– Не принимайте на свой счёт, Володя. (Ульяшин, не вдаваясь в детали, упомянул о своем исключении из университета.) Недоучки – это не пренебрежительное, это самые лучшие, самые светлые представители нашей молодежи, люди, пожертвовавшие образованием и карьерой ради возможности свободного высказывания своих мыслей и открытой борьбы за права человека. Их выгоняют из институтов, их лишают прописки, разрешают заниматься только тяжелым неквалифицированным трудом, но они не ропщут. Внутренняя свобода, сохранение своего «я», отдача всего себя, без остатка, благородной цели утверждения общечеловеческих ценностей – вот их награда.
– К сожалению, рабочие не доросли до осознания общечеловеческих ценностей…
– Как ты можешь так говорить! А Толя?!
– Исключение, подтверждающее правило. Рабочие не идут дальше требований увеличения зарплаты, улучшения жилищных условий, в крайнем случае, независимости профсоюзов.
– А как же свобода печати, отмена цензуры?! Вот в Свердловске, по словам Володи, звучали эти требования.
– Что рабочий понимает в свободе слова?! Что ему в отмене цензуры?! Он просто повторяет чужие лозунги.
– Все на первом этапе повторяют чужие лозунги. Это наша задача разъяснить народу смысл этих лозунгов, сделать их для него своими, понятными, нужными, жизненно необходимыми.
– Нет, нет! Агитация – это не для нас. Мы должны только информировать общество о фактах нарушения прав человека. А уж каждый волен делать выводы, определять свой выбор в соответствии с зовом сердца.
– Вспомните рассказы Толи! Он ведь тоже после выхода из лагеря рвался обличать, бунтовать, раскрывать глаза своим землякам-рабочим в ответ на их застольные жалобы и ругань. Хорошо, что вовремя понял, что так он ничего не добьётся, только схлопочет новый срок. Пересилил себя, написал книгу, и какую книгу! Володя, вы читали «Мои показания» Анатолия Марченко? Обязательно прочтите, это написано кровью сердца!
– …Вот вы говорите – листовки! Обращение к народу! Глупость всё это. Незачем обращаться к народу. Народ не поймёт. В лучшем случае спустит в унитаз, как это сделал и совершенно правильно сделал наш новый молодой друг, а в худшем – отнесёт в КГБ. В результате власти рассвирепеют и начнут репрессии. Страшно не то, что безвинно пострадает кто-то из нас, всему движению может быть нанесён невосполнимый урон!
Тут раздался звонок в дверь, и вскоре на пороге возник новый посетитель. Внимание собравшихся переметнулось на него, и Ульяшин получил некоторое время для передышки. Он устроился в углу комнаты на продавленном кресле, переваривание всего услышанного оставил на более спокойное время и принялся осматриваться.
Да, небогато живут революционеры! Тесновато и, честно говоря, не очень чисто. Впрочем, о какой чистоте может идти речь при таком скопище курящих людей. Люди. Все заметно старше его, довоенное поколение. Мужчины с бородами, в России с петровских времен борода – символ инакомыслия. Женщины… «Почему во все времена революционерки выглядят лахудрами в салопе?» – усмехнулся про себя Ульяшин и тут же оборвал себя – не за тем пришел. Вон как у них глаза горят, да и приняли его с искренним участием, хорошо, надо признать, приняли, с одной стороны, по-женски, даже по-матерински, а с другой – как товарища по будущей борьбе.
«Надо им прозвища дать, пока не запутался», – подумал Ульяшин. Память на лица и имена у него была феноменальная, в этом его официальным биографам не пришлось ничего домысливать, они просто записывали многочисленные рассказы очевидцев. Вот только не упоминали они, по незнанию, о простом мнемоническом приёме, которым пользовался Ульяшин: он давал прозвища всем людям, с кем его сводила судьба в каком-нибудь месте, пусть на самое непродолжительное время. «Ира-Хозяйка, Ира-Тётка, Лариса, ей и прозвища не надо, Наталья-Синичка, Юра-Шухер, Вадик-Деловой», – обводил Володя взглядом людей в комнате. В это время открылась дверь, и появился очередной посетитель, который заметно отличался от остальных. Во-первых, в нём преобладала другая южная кровь – кавказская, во-вторых, он был одет в элегантный костюм, в-третьих, в чертах породистого лица сквозило высокомерие. «Князь», – определил его Ульяшин. Мужчину не обступили и не тормошили как других, он сам подошёл к одному, другому, чуть дольше задержался возле Иры-Хозяйки, по быстрому взгляду в его сторону Ульяшин понял, что речь идёт о нём. Затем мужчина подошёл и молча сел в стоявшее напротив кресло.
– Ну, и как там в провинции? – неожиданно прервал молчание Князь.
– В провинции плохо, – коротко ответил Ульяшин.
– Что, колбасы нет? – иронично протянул Князь.
– Колбаса тоже вещь нужная, – заметил Ульяшин.
– Тоже верно, – слегка улыбнулся Князь, – но всё же в провинции работать легче. Там все друг друга знают…
– Это точно, – встрял Ульяшин, воспользовавшись секундной паузой, – я вот жил в двух миллионных городах, Свердловске и Куйбышеве, а ощущение – как в деревне. С этим учился в школе, с другим – в институте, третий – сосед по дому, четвёртый – по даче, этот – кум, а тот – сват. На любого человека можно выйти если не через знакомого, то через знакомого знакомого. Но бывают и анекдотические ситуации. Прихожу как-то вечером домой и застаю незнакомого мужчину, добродушный такой мужик, живот через ремень переваливается, морда красная. Рассказал он пару анекдотов, я ему в ответ свеженький о Леониде Ильиче, посмеялись, слово за слово, выяснилось, что он начальник областного УВД. Зашел к матери об одышке своей посоветоваться, мать у меня врач, – пояснил Ульяшин.
– Ситуация, действительно, анекдотическая, но показательная, – сказал Князь, – о любом человеке в провинции можно быстро и легко выяснить, кто он есть, чем он дышит. Ведь вся наша работа основывается на дружеских связях, на глубоком взаимном доверии, без которого невозможно работать в обстановке постоянных преследований. В провинции проще распознать провокатора – бывают и такие, КГБ ничем не гнушается! А как быть в Москве?
– Меня сюда дядя направил! – с обидой взвился Ульяшин.
– Знаю. Не ершись! – осадил его Князь.
– Вот вы говорите, что в провинции работать проще, – продолжил Ульяшин после некоторого молчания, – что о любом человеке можно всю его подноготную выяснить, но так ведь и о тебе всё известно. Мне пока достаточно просто: я человек в Куйбышеве новый, уехал в Москву и никому до этого дела нет. А коренному жителю каково?! «Васька опять в Москву сгонял, а Петька с его работы говорит, что никакой командировки ему не выписывали, а Нюська, подруга евойной тёщи, говорит, что даже колбасы не привёз, только целую сумку каких-то книжонок, а Фроська-свояченица рассказывала, как Нинка, Васькина жена, жаловалась, что никакого проку от этих книг нетути: нет, чтобы продать, так задарма читать знакомым даёт. Ой, подозрительно всё это!» – передразнил Ульяшин. – Опять же, гэбэшники лютуют, им после такого подслушанного монолога обыск устроить ничего не стоит. Кому жаловаться?! Это в Москве есть иностранные корреспонденты, а те же Свердловск и Куйбышев – города для иностранцев закрытые.
– Коры тоже разные бывают! – зло заметил Князь. – Многие из них с нами и не общаются, кто из принципа, кто из боязни провокаций. Да и мы пошли на связь с ними относительно недавно. До этого считали предосудительным «выносить сор из избы». И сейчас с корами общаются единицы, у каждого из них свой канал, основанный всё на тех же дружеских отношениях и взаимном доверии. Вы, как я слышал, учитесь на юриста? – спросил Князь без всякого перехода и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Это хорошо. Парадоксально, но среди нас, правозащитников, нет юристов. Как, впрочем, и философов, и экономистов. Много людей, связанных с искусством, художников, одно слово. У них своё восприятие действительности, всё больше на эмоциях построенное. И другой полюс: учёные-естественники, физики, математики. Работали себе годами, уткнув нос в свою науку, ничего вокруг не видя, потом вдруг по какой-то причине подняли голову, оглянулись и ужаснулись. В сущности, те же эмоции. У них, правда, другое отношение к реальности. Они из своей науки принесли убеждение, что всё можно строго описать, рассчитать, создать оптимальную модель. Вот только в общественных отношениях это у них пока плохо получается по причине полной неграмотности. Знаете, что спросил Андрей Дмитриевич Сахаров в начале своей правозащитной деятельности? «А заключённых после решения суда можно бить?» К чести естественников, они быстро учатся, в отличие от зашоренных гуманитариев.
– Ты, Валера, сегодня какой-то очень нервный, – сказала подошедшая Лариса, – что случилось? Где Верочка? Она зайдет?
– Вера бегает по Москве, собирается. Собирается так, как будто мы навсегда уезжаем! – Князь раздражённо взмахнул рукой.
– Валера получил визу в Соединённые Штаты, его пригласили в Вашингтон и Нью-Йорк прочитать в тамошних университетах курс лекций по проблеме защиты прав человека, – быстро пояснила Лариса Ульяшину. – Просто удивительно, как это власти решились выпустить члена Комитета прав человека!
– Бывшего члена, – автоматически поправил её Князь и тут же воскликнул с прежней горячностью, – правильно сказала – удивительно! Чувствую, каверзу готовят. Вот только где?! Даже Вере разрешили ехать со мной – вдвойне удивительно! Но я им не дам повода! Как Брежнев буду говорить, строго по написанному, ни одного неосторожного слова, пусть те думают обо мне, что хотят, но этим я повода не дам!
– Повода к чему? – обеспокоенно спросила Лариса. – У тебя были с ними какие-нибудь разговоры? Они тебе угрожали? Что-нибудь требовали?
– Не было разговоров, – коротко отрезал Князь.
В этот момент внимание Ларисы переключилось на вновь прибывшего мужчину, высокого, с окладистой бородой и большими, под стать бороде, очками в роговой оправе.
– Алик приехал!
– Не мог вырваться! – басил Алик. – Жаль, что не мог быть позавчера. Слышал, знал, но никак не смог! Я тут прихватил кое-чего, давайте ещё раз Юру помянем, – говоря это, он выкладывал на стол три бутылки водки, полбатона варёной колбасы, сыр, хлеб.
– Я, наверно, не вовремя, – тихо сказал Ульяшин Князю, вспомнив обрывки дядиного разговора, – мне лучше уйти?
– Оставайся. В этой стране вся жизнь – сплошные поминки. Ты ещё молодой, у тебя вся эта жизнь впереди.
Ульяшин хотел было ответить, что свою пайку он уже выхлебал почти полностью, вот предпоследнего родного человека, деда Александра Борисовича, меньше года назад похоронил, но тут подошла Ира-Тётка и увлекла его в сторону.
– Вот он каким был, Юра Галансков, – сказала она, подведя Ульяшина к портрету сравнительно молодого человека с открытым и умным лицом. Среднего размера фотография была вставлена в простую рамку и перехвачена с угла чёрной траурной ленточкой.
– По сути дела, с его ареста…
– Январь шестьдесят седьмого, – донеслось сзади, это все присутствующие сгрудились у портрета.
– …и суда над ним, «процесса четырёх»…
– Январь шестьдесят восьмого…
– …наше движение заявило о себе в полный голос.
– Кристальной души человек был!
– Слово «был» с ним просто не вяжется!
– Его ничто не могло сломить! Ни преследования, ни издевательства следствия, ни оскорбления позорного судилища! Он и в лагере отстаивал права политзаключенных, объявлял голодовки!
– А ведь он был серьёзно болен, ещё до ареста болен! Эти сатрапы, тюремщики, не желали понять, что язва и голодовки несовместимы!
– Они вполне осознанно убивали его!
– Сколько мы требовали, чтобы ему назначили диетическое питание, провели полное медицинское обследование, но всё бесполезно!
– Довели до перитонита! Операция в лагерной больнице!.. Это же немыслимо!
– Они просто убили его!
Ульяшин кивал головой со скорбным видом, но при этом в душе его разгоралось чувство, чуть было не написал – радости, это, пожалуй, выглядело бы кощунственным, так что скажем – чувство приподнятости и бодрости.
«Революция не может быть без крови! Будут и ещё жертвы! Будет смерть! Но это – борьба! Это – жизнь! Какое счастье, что я попал к этим людям!»
Сели вокруг наскоро собранного стола, выпили по стопке, мигом смели скудную закуску. Говорили о том, что как хорошо, что разрешили поставить на могиле крест и написать имя, а то ведь большинство могил безымянны, некуда приехать поклониться родным и друзьям. Вспоминали позавчерашнюю панихиду в Никольской церкви в Москве, как всё было благостно и торжественно, народу было много и гэбэшники показали неожиданную совестливость, всех пришедших, конечно, зафиксировали, но никаких других действий не предпринимали.
Ульяшин с некоторым удивлением оглядел сидевших за столом: мало они походили на православных, да и вообще на верующих в Бога. «Что ж, если религиозные обряды раздражают власти, – подумал он, – то и такая демонстрация сойдёт. И красиво, и фига в кармане. Надо будет запомнить на будущее. Эх, жаль, скандала не получилось! Западники, конечно, ещё меньше наших веруют, но на такие вещи реагируют болезненно».
Настроение у собравшихся за столом было подавленное, а тут ещё раздался телефонный звонок, и по тому, как серело на глазах лицо у подошедшей к аппарату Иры-Хозяйки, все поняли: случилось что-то ужасное.
– Это был Юлик, – сказала опущенным голосом Хозяйка, положив трубку, – у них был обыск. Валю ещё допрашивают, а его уже отпустили. Изъяли двадцать седьмой выпуск! – тихо прокричала она.
«Вот она – борьба! Обыски, аресты, допросы!» – громко воскликнул Ульяшин, впрочем, в душе. Что-то содержалось в словах Хозяйки такое, что повергло всех в оцепенение. Володин энтузиазм был явно не к месту.
Кое-что он понял. Ещё с начала года по Москве, Киеву, Вильнюсу и другим городам прокатилась волна обысков и арестов. С каждым разом становилось всё более очевидно, что главной их мишенью была «Хроника текущих событий». Летом арестовали Петра Якира и Леонида Красина, людей, широко известных не только своими знаменитыми фамилиями, но и активным участием в правозащитном движении. Особенно большое внимание в передачах зарубежных радиостанций уделялось Якиру, и у многих людей, не имевших к «Хронике» никакого отношения, складывалось впечатление, что он имеет к её изданию самое непосредственное отношение и уж в крайнем случае имеет на неё кратчайший выход. Поэтому люди, стремившиеся получить выпуски «Хроники» для чтения и распространения, а также желавшие сообщить известную им информацию, пытались всеми способами познакомиться с Якиром. Так что в этом Ульяшин был не оригинален, как и в том, что, прослышав об аресте Якира, он перенёс свой интерес на его дочь, тоже связанную с правозащитным движением.
На этом знания Ульяшина исчерпывались, и теперь он в некотором замешательстве выуживал последние новости с поля боя из эмоционального разговора вышедших из ступора гостей.
То, что ни Якир, ни Красин не входили в редакцию «Хроники», а были лишь активными поставщиками информации для неё – это мелочи. Главное то, что Якир, судя по всему, сломался и пошёл, как тогда говорили, на активное сотрудничество со следствием.
– Он сказал, что изменил своё отношение к нашему движению и к своей деятельности в нём!
– До сих пор не могу в это поверить! Не мог он такое сказать!
– Но ведь сам сказал, Ире, во время свидания!
– Представьте, каково это было слушать Ире!
– В её положении!
– Варвары!
– Но ведь то, что материалы следствия убедили его в тенденциозном характере и объективной вредности «Хроники», – это не его слова! Его заставили это сказать!
– Как и то, что он просит прекратить выпуск «Хроники», так как каждый следующий выпуск будет удлинять ему и Красину срок заключения!
– Дело Сталина живёт и побеждает!
– Методы те же, да и люди!
– Какие они люди?!
Тихо прошелестела фраза, что Якир уже давно спился с катушек, его и пытать-то не надо было, разве что подержать несколько дней сухим, а потом пообещать море водки, если заговорит. Но эти слова только подлили масла в огонь.
– Да, он болен! Но это же бесчеловечно держать тяжело больного человека в тюрьме!
– Подло пользоваться его слабостью и такими недостойными, позорными методами выбивать из него нужные показания!
Понял также Ульяшин причину обеспокоенности всех собравшихся: Якир передал недвусмысленную угрозу КГБ, что с выходом каждого выпуска будут производиться новые аресты, причем арестовывать будут не обязательно тех, кто непосредственно принимал участие в работе над выпуском. Тут впервые в его голове промелькнула тень непонимания и сомнения. Чего они так волнуются? Понятно же, что на понт берут! Захотели бы арестовать – арестовали бы. Всё ж таки КГБ – солидная лавка, одно слово – Контора.
– Это произвол! Они не посмеют!
«Ещё как посмеют!» – воскликнул про себя Ульяшин и тут же услышал эхо с разных сторон стола.
* * *
В следующий раз он пришёл в этот дом месяца через полтора, вскоре после Нового года. Шёл с некоторым волнением: вдруг не узнают, мало ли таких, как он, ходит! Но всё обошлось: и узнали, и встретили радушно, и даже имя почти все вспомнили без подсказки. Ульяшин, уже усвоивший свободный стиль общения своих новых друзей, чуть ли не с порога, после первых приветствий, попросил объяснить, что же там произошло в Штатах с Князем. По радио сообщали, что его не пустили обратно в СССР и лишили советского гражданства, но хотелось комментариев – случай для новейшей истории был беспрецедентный. Последний раз такое случалось в далёком 1922 году, когда на знаменитом «философском пароходе» из страны выслали цвет интеллектуальной элиты. Больше большевики так людьми не разбрасывались. Проку от философа, конечно, немного, но всё же сучки на лесоповале собирать может.
Комментарии Ульяшин получил, целую россыпь, на любой вкус.
– Власти сознательно создали иллюзию, что он уезжает на время. Они выбросили его за границу буквально в одной рубашке!
– Без его архива, без рукописей, без милых сердцу мелочей!
– Бедная Вера!
– Бесчеловечно лишать человека родины!
– Это противоречит всем международным актам и Всемирной декларации прав человека, подписанной СССР!
– Так в СССР и не опубликованной!
– Он не дал им ни малейшего повода! Держался, как и обещал, подчёркнуто лояльно по отношению к советским властям.
– Помните его ответ на вопрос о сравнительном положении советских и американских заключённых после посещения тюрьмы в Нью-Йорке?! Даже тут сдержался, хотя ему было, что сказать, было!
– Власть ничего не смогла инкриминировать ему. И в бессильной злобе вышвырнула его в эмиграцию.
– Тем самым она де-факто признала, что вся его и наша публицистическая и издательская деятельность абсолютно законны.
– Это был смелый правовой эксперимент, поставивший власти перед необходимостью с очевидностью обнаружить противоправный характер своих действий!
– Мы буквально накануне распространили об этом письмо. Обязательно прочитайте его, Володя.
– Мы всё же вынудили власти пойти на смягчение внутренней политики!
Конечно, приятно было думать, что власть идёт на уступки и под совместным давлением изнутри, со стороны диссидентов, и извне, со стороны общественности и правительств западных стран, как-то смиряет свой репрессивный задор. Но Ульяшин не очень в это верил. «Всё это игра! – восклицал он, правда, несколько позже. – А большевики – большие мастера в игре краплёными картами. И овечью шкуру набросят, и соврут на голубом глазу, и слезу пустят, если понадобится. Как Сталин в Ялте – выплакал-таки Польшу у расчувствовавшегося в ответ Рузвельта. Так и тут: молча покивают, как бы соглашаясь, даже по головам погладят, заодно пересчитывая, а как поднимут расхрабрившиеся противники головы для очередного решительного требования, тут-то они бритвой по горлу, сразу по всем, благо, сами в ряд выстроились. Нет, господа хорошие, чёрного кобеля не отмоешь добела, тут Никита был абсолютно прав, если, конечно, относить эту поговорку не только к Сталину, но и к самому Хрущёву и ко всей этой хамской власти».
За подтверждениями далеко ходить не пришлось. Буквально накануне приезда Ульяшина, в первый рабочий день нового года КГБ произвел арест из серии тех самых, которые «не посмеют». Следователь, мило улыбаясь мужу арестованной Ирины Белогорской, заявил, что её арест связан с выходом 27-го выпуска «Хроники», хотя следствию и известно, что она не принимала участия в этом выпуске. Тут даже Ульяшин присоединился к всеобщему возмущению.
– Полный беспредел! – воскликнул он совершенно искренне.
– Нам необходимо как-то отреагировать, – сказала Ира-Хозяйка. – Давайте составим письмо, выразим протест, потребуем освобождения.
– Обязательно составим, – поддержала её Лариса, – нельзя спускать им ни одного случая произвола!
– Если дело так и дальше пойдёт, придётся нам каждый день по письму составлять, – заметил Юра, – похоже, органы настроились растоптать «Хронику».
– Так, может быть, надо выпустить сейчас очередной номер, нет, экстренный номер, – с энтузиазмом предложил Ульяшин, – дать туда это письмо с протестом, описать все последние события, историю с лишением Валеры гражданства, ваше заявление по этому поводу – материала-то сколько! Не номер будет – бомба!
Обычной живой реакции не последовало.
– Сделать выпуск, выпустить сделанное… – глубокомысленно протянул Алик. – Всё не так просто, наш молодой и горячий друг!
Ульяшин с удивлением обвёл взглядом задумчивые лица, понурые плечи. «Неужели их может остановить первое же и не столь уж серьёзное препятствие?» – растерянно подумал он.
Уловив эту мысль, Алик понимающе усмехнулся и прояснил ситуацию:
– Каждый из нас в своё время сделал осознанный выбор. Передавая запрещённую литературу, ставя в первый раз подпись под письмом протеста, выходя на площадь, мы знали, на что идём. Мы были готовы к гонениям на работе, к угрозам и провокациям, к тому, что нас в любой момент могут арестовать. И если любому из нас выпадет этой жребий, он с достоинством и мужеством выдержит любое давление, вынесет любой приговор, любое наказание. Так, как Ира, – Алик заметил удивлённое выражение на лице Ульяшина, – Ира уже прошла один раз этот круг, она получила год лагерей за распространение письма в защиту Толи Марченко. Это был её выбор, а сейчас её арестовали за то, что она не делала.
– Но ведь Ира, как я понимаю, имела прямое отношение к выпуску «Хроники», – не удержался Ульяшин.
– Да, имела, – с жаром вступила в разговор Лариса, – но конкретно двадцать седьмым выпуском, который ей инкриминируют, она не занималась. Так что этот арест и это обвинение – полицейский произвол!
Размышление над этой тонкой казуистикой Ульяшин оставил на потом, тем более что Алик спокойно продолжал свою речь.
– Власти недвусмысленно дали нам понять, что на очередной выпуск «Хроники» они ответят арестами, даже не редакторов, не остальных из нас, имеющих к ней непосредственное отношение, а людей, к этому никак не причастных. На наши плечи переложили ответственность за судьбу этих людей. Можем ли мы решать за них? Имеем ли мы право предпринимать действия, которые поставят под угрозу их свободу? Такие вот вопросы!
* * *
Ульяшину иногда казалось, что время остановилось. Когда бы он ни заходил в хорошо знакомую уже квартиру, через месяц, через два, через три, он наталкивался на обсуждение всё тех же проклятых вопросов. Более того, когда дело доходило до новостей, создавалось впечатление, что время стремительно несётся вспять. Каждый день приносил новые вести об арестах, допросах, очных ставках.
Раз начав говорить, Якир с Красиным уже не останавливались и наговорили на 120 томов уголовного дела, сдав около двухсот человек. До арестов доходило редко, но прессовали всех сильно, используя весь классический арсенал: и запугивания, и уверения, что про них и так всё известно, и разъяснения, что признание облегчит их положение. Но излюбленным и самым эффективным приемом, с учётом принадлежности большинства допрашиваемых к интеллигенции, была апелляция к нравственному чувству: «Вот вы на воле, наслаждаетесь свободой, – с лёгкой укоризной говорили следователи, – а отказываетесь подтвердить показания арестованных и тем самым утяжеляете их участь».
– Дешёвый приём! – не выдерживал Ульяшин. – Его последний… юрист знает, его на всех… семинарах описывают, – при благородном возмущении всё же приходилось аккуратно подбирать слова, чтобы не раскрыть источник знания, его университеты.
– Конечно, все это знают, Володя, но представьте себе, как тяжело приходится людям на очных ставках, когда тот же Пётр, глядя им в глаза, упрекает их в эгоизме, говорит, что сокрытием своего участия в «Хронике» они перекладывают всю ответственность за её издание на него. Мы не можем осуждать людей, которые в такой ситуации начинают давать показания. Не могут же они ставить под удар своих товарищей!
«Хороши товарищи! – воскликнул про себя Ульяшин. – Да таких соловьев в приличном обществе в параше топят!»
Быть может, зря он сдерживался, любая его эмоционально-нравственная оценка, пусть самая резкая, в этом кругу была бы воспринята и обсуждена. Ульяшин же старался взывать к рассудку и оперировать логическими построениями, и тут он наталкивался на неприятие. Эх, надо было ему внимательнее слушать Князя, умного человека, тот ведь пытался объяснить ему, что даже у учёных-естественников при занятиях правозащитной деятельностью напрочь отшибает свойственное им системное мышление и логику.
– Но ведь следователи только этого и добиваются! – продолжал горячиться Ульяшин. – Им же не сами эти показания нужны, они действительно всё это и так знают, а сам факт дачи показаний, факт признания, факт, как они говорят, сотрудничества со следствием. Коготок увяз – всей птичке пропасть. Кто со ссученным (спокойнее, Володя, спокойнее!) будет дело иметь?!
– Всё это так, Володя, – слышалось в ответ, – скажем даже больше: этим, как вы говорите, фактом сотрудничества со следствием они ломают человека, коверкают его психику, они лишают его не только доверия окружающих, но и внутреннего самоуважения. Вы только попытайтесь представить, какие нравственные муки испытывают те же Якир или Красин, предавая, под влиянием ли минутной слабости или изощрённых пыток, это не важно, своих друзей, разрушая своими руками дело своей жизни! Это ужасно! Это – ад!
– Так что же они тянут за собой в этот ад столько людей?! – не унимался Ульяшин. – Оставим в стороне их нравственные муки, но должны же они понимать, что все эти признания других людей им только вредят. Это же любому… студенту известно: попался, так иди по делу один. Своими же руками добавляют в обвинение групповщину, организацию – это же другая статья! Они что, на милосердие и снисхождение надеются?!
– Они никого не тянут… Нет, нет, Володя, дайте сказать! Они никого не заставляют и не могут заставить дать показания. Это собственный нравственный выбор каждого. Каждый сам решает для себя, сможет ли он жить дальше с грузом вины за несвободу, а возможно и гибель другого человека.
– Но они тем самым наносят непоправимый ущерб всему движению! КГБ не задумается растрезвонить на весь мир об их показаниях, особо упирая на показания на других людей – знают ведь, как не любят в народе стукачей! И публичные сцены раскаяния и осуждения прежней деятельности представят в лучших традициях системы Станиславского! Они же не дураки, бить будут по самому ценному в движении – по его нравственной привлекательности!
– Извините, Володя, но когда вы произносите слово «движение» невольно слышится «партия», – заметил кто-то из присутствующих, кажется, Алик. – Всё, что вы говорите, было бы справедливо применительно к структурированному, организованному движению, но ведь все мы, присутствующие здесь, в этой квартире, и все наши единомышленники – это лишь свободная ассоциация граждан, болеющих душой за свою страну, за свой народ. Мы – всего лишь люди, и только люди, а не составная часть, не винтики движения или, если угодно, партии.
– Вы, Володя, понимаете слово «движение» буквально, – вступила в бой главная артиллерия, Лариса, – подразумевая, что коли есть движение, то у него обязательно имеются ближние и дальние цели, выверенные стратегия и тактика, промежуточные этапы и результаты. Но всего этого нет, даже результатов, как ни горько это признавать, нет. Их не может быть! Я лично не верю ни в какое улучшение. Мрак вокруг нас будет постепенно сгущаться, а пространство света сужаться. Но мы должны, несмотря ни на что, гореть! Гореть чистым пламенем! Не потому, что этот луч света несет надежду на возрождение, а потому, что долг человека – прожить жизнь достойно. Понимаете? Прожить свою жизнь достойно. Большее не в наших силах!
* * *
Надо сказать, что все эти морально-этические проблемы были от Ульяшина бесконечно далеки, не обременял он себя подобными мелочами и уж тем более не руководствовался ими в своей жизни. «Все это интеллигентская рефлексия!» – говорил он пренебрежительным тоном, если же аудитория позволяла, то вместо мудрёной «рефлексии» звучала и «отрыжка», и «сопли-вопли». Ничего удивительного в этом не было, так как самого его, по его внутреннему складу, никак нельзя было назвать интеллигентом. Разве что интеллектуалом в западном понимании, да и то с оговорками. Вообще, интеллигент, интеллигенция – это сугубо русские продукты, это нерасторжимое единство знаний с христианскими заповедями в их православной интерпретации. При этом христианские заповеди прекрасно уживаются с неверием в Бога, а уверенность в конечном торжестве разума – с изрядной долей мистицизма. Всё это вместе и даёт загадочную русскую душу, а точнее, составляет загадку души русского интеллигента. Замените православие протестантскими корнями, а из неверия в Бога уберите приправу мистики, и вы получите западного интеллектуала, существо сухое и скучное.
Как же так, удивитесь вы, при чём здесь православие, если русская интеллигенция уже давно состоит на столько-то процентов (тут оценки сильно разнятся) из лиц семитского происхождения. Во-первых, не путайте «образованщину» с интеллигенцией, никакие дипломы и ученые степени не служат пропуском в этот клуб, что в равной степени относится и к представителям коренной национальности. Во-вторых, автор встречал много чистопородных евреев, которые были классическими русскими интеллигентами, в чём-то даже с перехлёстом. Не было в них «страха иудейска», а была широта души, любили они самозабвенно русский язык, русскую культуру, русскую природу и русских женщин и до седых волос сохраняли пренебрежительное отношение к материальным условиям своего существования и некоторое шалопайство, фирменные знаки или, если угодно, родимые пятна русской интеллигенции.
Всё же признаем, что недоумение Ульяшина от обилия умозрительных дискуссий в кругу его новых друзей и его прорывающиеся иногда призывы спуститься на землю, имели некоторые основания. Чего стоило долгое обсуждение текста поправки к одному из сообщений «Хроники». Предыстория дела была такова. Некий Баранов, заключённый одного из бытовых лагерей, выбежал в запретную зону и бросился на колючую проволоку, за что и получил три огнестрельные раны, в том числе одну в грудь. «Хроника» сообщила о его смерти, но заключенный Баранов невероятным образом выжил. Невероятность происшедшего объяснялась не характером ранений, а тем, что его вообще лечили и, судя по результату, достаточно квалифицированно. КГБ назвал это сообщение «Хроники» «заведомо ложным и клеветническим» и выставил его в качестве одного из основных пунктов обвинения.
Редакторы «Хроники» были в шоке и долгое время не хотели понять, что они установили абсолютный рекорд правдивости информации за всю историю человечества и получили на него свидетельство от самого строгого и пристрастного судьи – можно было не сомневаться, что КГБ просмотрел под микроскопом все сообщения во всех двадцати семи выпусках, но не нашёл ничего, кроме указанной мелкой неточности. Вокруг, можно сказать, мир рушился, а редакция и близкие к ней люди сидели и составляли текст опровержения, а затем с огромным трудом переправляли его на Запад. В то время было проще организовать демонстрацию, чем переправить страницу текста за рубеж. Наконец, один из неудобочитаемых листков достиг адресата, и текст поправки был опубликован, только после этого редакция вздохнула с чувством облегчения и выполненного долга.
Или взять ещё один пункт обвинения – о получении денег из-за границы. Ульяшин не сомневался, что и тут следствие не ошиблось, уж больно смехотворна была инкриминируемая сумма – четыре тысячи рублей. Но поддерживал упорное отрицание этого факта со стороны всех допрашиваемых диссидентов, ведь реальных доказательств не было. Тем больше было его удивление, когда не раз в его присутствии завязывалась ожесточённая дискуссия о том, можно ли брать деньги от иностранцев и зарубежных организаций или нельзя. «Я понимаю, признаваться в этом нельзя, народ этого не поймёт, – думал Ульяшин, – но среди своих, среди вождей, зачем тень на плетень наводить? Деньги же нужны, без денег в нашем деле никуда, а где их взять?»
Заметим, что Ульяшин прекрасно знал, как и откуда достать деньги, благо, за примерами в нашей истории ходить далеко не надо, но держал эти соображения при себе, понимая, что в этой аудитории его не поймут. «Они что, надеются набрать денег по подписке среди сочувствующих или с домашних благотворительных концертов? – продолжал он размышлять. – Смешно! Люди они все не богатые, прямо скажем, не жируют. Так что рано или поздно придётся идти на поклон к дяде Сэму. Пусть не на поклон, но брать всё равно будут. И чем дальше, тем больше и охотнее. Так чего из себя девушку строить?!» Эх, Володя, воображаешь себя великим знатоком жизни и людей, а рассуждаешь, извини за откровенность, архиглупо. Девичество – прекрасная пора, конец известен, его ожидают, но не торопят. Как приятно и для себя, и для окружающих – поневеститься, продлить эти чистые минуты, воспоминания о которых согреют душу в старости. Что же касается твоих тогдашних друзей, то, заглянув в соответствии с твоим советом в будущее и разглядев, чем всё это кончится, они бы немедленно бросили свою общественно полезную деятельность и занялись бы чем-нибудь действительно полезным.
* * *
Неизвестно, сколько бы ещё продлились дискуссии, если бы Князь не начал выпускать в Нью-Йорке информационный журнал «Хронику защиты прав в СССР», сразу на русском и английском языках.
– Ничего себе! – присвистнул от удивления Ульяшин, услышав эту новость. – Быстро же он раскрутился!
– Валера – прекрасный организатор, он очень целеустремлённый человек и умеет увлекать своим энтузиазмом окружающих, – сухо пояснила Лариса.
– Он снял с нашей души такое бремя! – воскликнула Ира-Хозяйка. – Теперь мы можем объявить о приостановке выпуска нашей «Хроники».
Как худой мир лучше доброй ссоры, так и любое, даже плохое решение лучше бесконечных споров о наилучшем решении. Лишь поставив крест на издании «Хроники», можно было перейти к работе по возобновлению её издания. Тут же стал проясняться истинный масштаб ущерба, нанесённого массированной атакой КГБ. Значительная часть корреспондентов «Хроники» из русской провинции и из нерусских республик не имели непосредственной связи с редакцией, информацию передавали через арестованных Якира и Красина, и теперь все эти цепочки были нарушены. Маета с передачей на Запад текста «поправки» показала, что и эти каналы ненадёжны. Всё нужно было восстанавливать, а лучше сказать, организовывать заново. «Ох уж эти личные связи! Да пропади они пропадом эти дружеские контакты и доверительные отношения! – чертыхался про себя Ульяшин. – Читать надо больше классиков советской литературы! Где адреса, пароли, явки?! Навели конспирацию без организации! Да это ещё хуже, чем организация без конспирации!»
Больше всего Ульяшин бесился из-за того, что у него этих самых личных связей и дружеских контактов пока не было, вот и болтался он без дела или, если угодно, болтал без дела. Поручений же или заданий ему никто не давал, это, как мы помним, противоречило принципам движения. Пришлось ему самому искать себе занятие. Кто ищет, тот всегда найдёт.
* * *
Журнал был оформлен строго, даже скупо, но всё равно его было приятно взять в руки.
– Молодец Валера! – воскликнул Вадим, передавая журнал Ире-Хозяйке.
– Смотрите, он даже сохранил наше оформление, с тем же колонтитулом «Движение в защиту прав человека в СССР продолжается» и с цитатой из Декларации прав человека в качестве эпиграфа, – умилилась та.
– Хорошо там у них! Захотел что-либо издать – издавай, пожалуйста. И быстро, и качественно.
– Только деньги давай! Давай – издавай!
– Деньги – дело второе, главное – свобода!
– Там, конечно, легко, но скучно. Пошёл, заплатил, расписался в накладной, получил. Зато у нас!.. Представьте, как мы будем смеяться лет через двадцать, вспоминая наши нынешние издательские мытарства.
– И наши книги с пожелтевшими от времени и замахрившимися от частого чтения страницами, с едва проступающим, убористым текстом с одной стороны листа будут нам милее самых роскошных фолиантов.
– Самиздат не может быть красивым! – рассмеялся Алик. – У нас ведь как: предложи человеку что-нибудь, завёрнутое в мешковину, да из-под полы, да в тёмной подворотне – с руками оторвёт. А покажи то же самое в яркой упаковке, перевязанной ленточкой с бантиком, да без очереди – он и не взглянет. Мне вчера байку рассказали: сидит старая машинистка, перепечатывает «Войну и мир» и на удивлённые вопросы знакомых отвечает, что её внук ничего, кроме машинописного самиздата, читать не желает. Вот так!
– Ой, Алик, спасибо, что напомнил, – всплеснула руками Ира-Тётка, – отдавайте журнал, мне его до послезавтра перепечатать надо. Я договорилась с Ангелиной и Светланой, что они будут размножать дальше. Всё, до свидания, побегу!
Ульяшин этому уже не удивлялся. Все его друзья довольно бойко стучали на пишущих машинках, пусть и одним пальцем, и с опечатками. Профессиональным машинисткам надо было платить, а с деньгами у правозащитников было туго. Да и обращаться можно было только к хорошим и проверенным знакомым – случалось, что машинистка, просмотрев текст заказанной работы, относила её прямиком в КГБ.
– Это каменный век какой-то! – не выдержал всё же Ульяшин. – Осталось только от руки переписывать!
– И такое бывает! – рассмеялся Алик. – Особенно, среди пламенных революционеров старшего школьного возраста.
– Но мы-то взрослые образованные люди! – экспансивно воскликнул Ульяшин, вызвав с трудом сдерживаемые улыбки у всех присутствующих. – Слава Богу, человечество много чего выдумало в области множительной техники, кроме пишущих машинок. Не поверю, что никто не пытался их использовать! Ведь без использования приличной множительной техники нам никогда не удастся выйти за пределы узкого круга мыслящей интеллигенции. Так и будем вариться в собственном соку, дойдём до коллективных читок вокруг самовара.
– А ещё лучше – вокруг костра. Обожаю! – мечтательно прикрыв глаза, протянул Алик и, переждав общий смех, серьёзно продолжил: – А относительно множительной техники вы, Володя, конечно, правы. Это и качество, и производительность. Вот только копировальные машины в нашей стране помещают в учреждениях в спецкомнаты и работать на них имеют право лишь проверенные в КГБ люди. Хотя не перевелись на Руси умельцы, тот же Александр Болонкин, выдающийся технарь, доктор наук, он со своей группой сделал машину с каким-то мудрёным названием…
– Ну и?! – в нетерпении подхлестнул его Ульяшин.
– Их арестовали после Якира, – каменным голосом пояснила Ира-Хозяйка.
Ульяшин понимал, что «после» не значит «вследствие», но, судя по всему, у Иры-Хозяйки были основания думать именно так. Дальнейшее не нуждалось в разъяснениях – всё сделанное группой пропало безвозвратно. Всё надо было начинать сызнова.
Сразу и начали. Как водится, наиболее активно в дискуссии участвовали люди, мало понимающие в предмете обсуждения, в данном случае – женщины. Советы и планы, один другого фантастичнее, сыпались как из рога изобилия. Извиняло женщин лишь то, что таким образом они спасались от утомившего даже их обмусоливания морально-этических вопросов. Впрочем, ничего конструктивного в ходе дискуссии не родилось.
– Так я займусь этим? – спросил Ульяшин, когда все притомились.
– Очень хорошая идея! Конечно, займитесь! Это чрезвычайно важно! – донеслось со всех сторон вместе с выдохами облегчения.
А Ульяшин уходил окрылённый – ему поручили важнейший участок работы! Пусть его друзья возражают против каждого из этих слов по отдельности и против всей формулировки в целом! Не в словах суть. Да и что слова?! Слова – песок, струятся, уносятся ветром, где-то что-то обнажают, где-то прикрывают. Ненадежная материя! Ничего на ней и из неё не выстроишь, обязательно надо что-нибудь добавить. Лучше всего – цемент дел. Можно и кровь. Тоже какое-то время простоит.
2
Постоянной, непрерывной. Не путать со способом завивки волос. (прим. авт.)
3
Самиздат – подпольное размножение неподцензурной литературы. Народ, как всегда, очень метко выразил сущность самиздата: сам сочиняю, сам издаю, сам распространяю, сам и сижу за это. (прим. авт.)