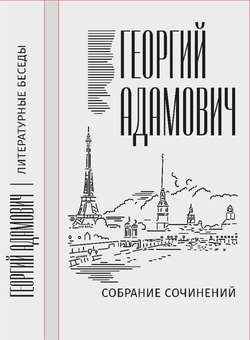Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 2. Литературные беседы («Звено»: 1923–1928) - Георгий Адамович - Страница 42
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1925
Литературные беседы [ «Преподобный Сергий Радонежский» Б. Зайцева. – О. Мандельштам]
Оглавление1
Давно уж хочется мне написать о книжке Б. Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский». Удерживало меня только сомнение, можно ли говорить о ней, как о явлении литературном.
Это своеобразное «житие» написано с подкупающей искренностью. До прочтения его мне казалось, что в подобной книге современный писатель непременно впадет в стилизованную упрощенность. И такого рода «примитив» внушал мне недоверие.
В книге Зайцева нет и следа стилизации. Она до крайности незамысловата, но очень содержательна.
Представьте себе человека, глухого и равнодушного ко всему, что в наши дни волнует «образованных» людей, но сохранившего тревогу о вечном: таков Зайцев. Он пишет о святом Сергии без усилия, понимая его душевный склад, простой, ясный и строгий. Он говорит о «печальных делах земли», о «горестном виде этого мира», не притворяясь и не подделываясь, не впадая в литературщину.
Легко и свободно он переходит от иконописных образов к рассуждениям о несчастиях России, и это не только не нарушает цельности книги, но придает ей живость. Писатель более заботящийся о художественности – П. Муратов, например, – этого никогда бы не позволил себе, но в конечном счете он оказался бы не прав: живое свидетельство о прошлом ценнее, чем самое тщательное его воспроизведение.
Рассуждения Зайцева до крайности несложны. Но так как эти рассуждения не имеют ничего общего с «умствованиями», так как они направлены на «единственно важное человеку», их читаешь с сочувствием, а порой и с волнением. Это очень русские мысли, очень северные и грустные.
Не доверяя знаниям и науке людей, не считаясь ни с какой критикой, Зайцев написал житие Сергия Радонежского, которое можно было бы слушать в церкви. Много читали мы православной беллетристики в разных «духовно-просветительных» журналах: первый раз мы прочли религиозный рассказ, не залитый патокой семинарского «благочестия»; первый раз мы не морщились эстетически и не были принуждены выбирать: или то, или это. Или мир этого рассказа, или тот мир, который мы – по Брюсову – «создали в тайных мечтах», т. е. вся наша художественная «идеология», все наши привычки и привязанности в искусстве.
Я хотел еще обратить внимание на пейзаж зайцевской книги, на фон ее. Этот северный русский лес, так давно знакомый, с пустынным озером, с медведем у ног отшельника, со злыми зимними вьюгами и бледным апрельским небом, вновь оживает в «житии» во всем своем величии и простоте.
2
Изредка доходящие в Париж, то в рукописях, то в советских журналах, стихотворения О. Мандельштама – настоящая радость для любителей поэзии. Пусть эти стихотворения судорожно-неровны, пусть они становятся все туманнее, риторичнее и сбивчивее – в них слышится такая музыка, которую трудно слушать без благоговения.
Мне кажется, что Мандельштама нельзя назвать первым современным поэтом; но вполне отдавая себе отчет в словах, с полной уверенностью я говорю, что если в русской поэзии за последнюю четверть века было что-нибудь действительно первоклассное, высокое и бесспорное, то это некоторые строфы Мандельштама. Блок непосредственней и мягче его, у Анненского больше горечи, остроты и иронии, Ахматова проще и человечней – но ни у кого из этих поэтов нет тех торжественных и спокойных, «ангельских», данто-лермонтовских нот, которые доступны Мандельштаму, да иногда еще Сологубу.
Я не хочу приводить примеры и цитаты. Пусть те, кто любит поэзию, и кого, может быть, несколько удивят мои слова, вновь перечтут «Камень» или «Tristia». Нет лучшего довода. Когда-то Лист, если при нем бранили Вагнера, ничего не отвечал – садился за рояль и начинал играть «Тристана». Он был прав.
Обыкновенно Мандельштаму приписывают способность «латинизировать» русскую речь, придавать ей латинскую звонкость и выразительность. Это верно, конечно. Мандельштаму удалось написать несколько стихотворений чрезвычайно пышных, но беда в том, что его тяготение к риторике больше всего сказывается именно в этих стихотворениях. Поэт стоит на ходулях и говорит в рупор. Строки подлинно патетические следуют за строками пустыми, в лучшем случае только эффектными. Кроме того, напряжение требует ясности. Мандельштам путает и сбивает композицию. Он весь во власти случайных ассоциаций, вызванных рифмой, образом, звуком.
Поэтому наиболее «латинские» стихотворения Мандельштама – в конце концов вещи неудачные. Признаемся, если бы они были вполне удачны и если бы в них было все значение Мандельштама, мы бы меньше любили его. Это был бы всего-навсего усовершенствованный Брюсов.
Но он слабеет. Воспоминания тускнеют в его сознании, он не владеет собой, он забывает мир и вещи, теорию о «ясном холоде вдохновения» и акмеистические выдумки. Тогда он принимается бормотать, и вдруг сквозь бормотание слышится голос удивительной и несравненной чистоты. Ненадолго, правда, – но все-таки стоишь очарованный.
Я люблю больше всего у Мандельштама его самые странные и темные стихи, те, в которых он перебирает слова почти без смысла и цели, – именно за эти прорезывающие их, чаще всего заключающие их строфы. Я понимаю, что поэзия может быть, даже и на этом уровне, ровнее и сдержаннее. Поэзия, может быть, даже и на этом уровне, общепонятна в самом простом и точном смысле слова. Эти требования предъявлять к Мандельштаму напрасно.
Поэтому нельзя удивляться или негодовать по поводу его непризнания или непопулярности. Едва ли и в будущем ждет его громкая слава. Вероятно, он останется навсегда заслоненным несколькими поэтами нашей эпохи – теми, которые мною были выше названы и которые имеют все права на «народную любовь».
Стихи Мандельштама – наперекор всем его суждениям об искусстве – всего только бред. Но в этом бреду яснее, чем где бы то ни было, слышатся еще отзвуки песни ангела, летевшего «по небу полуночи».