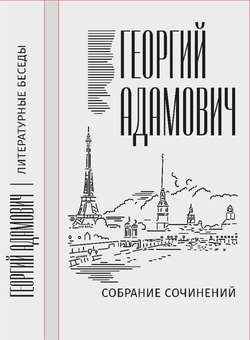Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 2. Литературные беседы («Звено»: 1923–1928) - Георгий Адамович - Страница 44
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1925
Литературные беседы [ «Голубое и желтое» В. Лидина. – Артисты и поэты]
Оглавление1
Вл. Лидин почему-то назвал свою книгу «Голубое и желтое». Вспомнил ли он о стендалевском «Красном и черном», или о Пушкине, любившем названия, которые «ничего не значат»?
Лидин – писатель далеко не бездарный, даже несомненно способный. Но едва ли его можно назвать талантливым. Он очень недурно умеет списывать с чужих образцов, но это вечный и безнадежный ученик. Каких только влияний нет в его книге! И Толстой, и Бунин, и Андрей Белый, и Пильняк – все перемешано. Отдельные фразы могли бы быть приписаны то одному, то другому писателю, а о целом не знаешь, читал ли уже где-нибудь эти рассказы, или нет. Все кажется знакомым. Это прежде всего крайне незначительная книга, хотя нельзя отрицать, что она «ловко» написана. Она напомнила мне стихи поэта, когда-то довольно популярного, особенно в Москве, – В. Шершеневича: все на месте, все изящно и неглупо, все по последней московской моде, а слушать – нет сил.
В книге Лидина шесть рассказов. Темы их – война и революция. Первый рассказ – «Повесть о многих днях» – должен был бы стать по замыслу автора стройной летописью – от дней сытого довоенного благополучия до времени, когда «в черной ночи, в крови, в муке, из годов метельных… вставал Октябрь». Но так как вся летопись ведется, говоря языком грамматики, в прошедшем времени несовершенного вида, т. е.: метель мела, поезд ревел, молодые в вагоне-ресторане пили кофе, в провинциальном городе гласные думы обсуждали в седьмой раз вопрос о канализации, Зоя Ярцева и адвокат ужинали за сдвинутыми столиками, министр после доклада отдыхал, жена наливала чай, земля подсыхала, трубы торчали в небо, апрель мягко и нежнейше веял и, наконец – о, наконец! – «вставал Октябрь», – и так на протяжении 44 страниц, без изменений, без видимой связи и последовательности, то уловить глубокий смысл этой «исторической панорамы» – задача хитрая и утомительная.
Другие рассказы проще: о белом офицере, перерядившемся матросом, о берлинском эмигранте, стремящемся «в Москву, в Москву». Это легкое чтение, и это наиболее удачные страницы книги.
К сожалению, Лидин не желает довольствоваться ролью обыкновенного рассказчика, а хочет потрясать сердца, прорицать, вещать и безумствовать. Напрасно! У него нет ни своих мыслей в голове, ни своих чувств в сердце. С мыслями же и чувствами, взятыми напрокат, хотя бы и у Льва Толстого, лучше все-таки держаться поскромнее.
2
Из глубины огромного зала Трокадеро глядя на Анну Павлову, я думал: это бессмертно. Нет другого слова, которое хотелось бы применить к Павловой. Погрешности вкуса не могут умалить ее.
Но была и другая мысль: это исчезнет сейчас через какие-нибудь две-три минуты. А через двадцать лет это исчезнет навсегда. И никакие силы в мире не могут этому помешать!
Поэтому, глядя на Павлову, испытываешь чувство острой, пронзительной грусти и вместе с грустью – блаженство. Этот хрупкий лебедь, трепещущий в синеватом сумраке сцены, кажется самым выразительным образом прелести мира и тленности его. «Ah, tout est perissable!» – хочется повторить. Но все-таки мы счастливы, что видели это.
Есть в искусстве последовательная «скала длительности». Она для художника обратно пропорциональна ощутимости, осязаемости успеха и славы, благодарности и любви, им возбуждаемых. Подумайте: Павлова, которая в лучшие минуты может быть сравнена со всем, что есть самого совершенного в искусстве, все же бессильна продолжать свое творчество во времени. Оно умирает, когда на сцене гаснет свет. И так все и всегда в театре – и Дузе и Рашель. От них уже остались одни лишь тусклые воспоминания. Зато какое счастье для них было видеть слезы и восторг зрителей, непосредственно чувствовать действие творчества, «осязать» славу. Но как те, которым слишком много дано было на земле, не удостоятся блаженства на небесах, – так и они. После смерти их ничего не ждет.
Изобразительные искусства, – живопись, архитектура, скульптура – живут долго, но ведь не бесконечно. Полотно Рембрандта или собор в Шартре могут на десятки веков пережить своих создателей. Но все-таки в момент распадения вещества картина Рембрандта исчезает окончательно и безвозвратно. Ее можно сжечь – и она навсегда погибла. Ее можно смыть, исцарапать. Она вещественна и потому не бессмертна.
И наконец, есть поэзия и музыка. Правда, поэты знают одно лишь «горькое счастье одиночества», по слову Ж. Мореаса. Но зато только у них есть твердая уверенность в бессмертии, и – правда, для того, кто в искусстве не мимолетный гость – это награда все искупающая. Стихотворение вполне бесплотно и вполне бессмертно. Можно уничтожить все рукописи и книги в мире, разбить все типографии. Но разве тютчевская «Последняя любовь» перестанет от этого существовать, разве она исчезнет из мира? Разве невозможно предположить, что через пять тысяч лет она будет восстановлена, по памяти, но все-таки целиком, вполне, не потеряв ни малейшей частицы жизни? И даже пятьдесят тысяч лет? Все сроки тут отпадают. Смерть языка, т. е. наречия, ничего не меняет. Если какой-нибудь ученый этот язык воскресит, сразу воскреснет и стихотворение, – хотя бы для одного только человека. Это головокружительно.
Так Бог вознаградил поэтов за обычные невзгоды их жизни надеждой «блистательной и дивной».