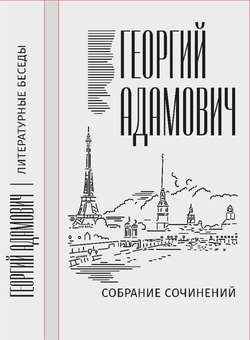Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 2. Литературные беседы («Звено»: 1923–1928) - Георгий Адамович - Страница 51
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1925
Литературные беседы [А.А. Блок]
Оглавление1
Четыре года, прошедшие со дня смерти Блока – 7 августа 1921 года, – успели уже приучить нас к этой потере, почти примирить с ней. Но они не отодвинули Блока в историю. Мы по-прежнему называем Блока поэтом современным, потому что длятся еще те смутные, «страшные годы России», с которыми он так крепко себя связал. Более того: мы по-прежнему называем Блока первым современным поэтом. Слово «первый» часто вызывает усмешки и даже брань. Нельзя мерить искусство на аршин, говорят нам. Нельзя знать, кто первый поэт, кто второй и третий. Где мерило?
Мерила нет, конечно. Об этом спорить нельзя. Но если совершенно невозможно указать второго и третьего в искусстве, то первый обыкновенно называется сам собою, по общему молчаливому уговору. На первом сходятся знатоки и невежды.
Сейчас, после смерти Блока, «первого» русского поэта нет. Есть несколько прекрасных, два-три на редкость прекрасных поэта. Очень возможно, что потомство предпочтет их Блоку. Мне, например, и сейчас кажется, что многие строфы Сологуба – если говорить о старших – для Блока недоступны. Он чище, он «выше». Но Сологуб ютится где-то в закоулках поэзии, в темном логовище, а Блок стоит на ее большой дороге. Сейчас эта дорога пуста. Или она только кажется пустой, потому что о «младших» судить с уверенностью трудно.
Говоря языком учебников, Блок был выразителем своего времени, певцом целого поколения, как Шиллер, Байрон, как Гюго. Ведь и у Байрона и Гюго были соперники, которых они художественно затмить не в состоянии, соперники, занявшие не менее прочное, хоть и более узкое место в искусстве. Мы сейчас живем жизнью другой эпохи. Мы судим Гюго одним только эстетическим судом и не в силах уже уловить все отклики, отзвуки, все дуновения эпохи в его поэзии. Поэтому он кажется нам слишком общим, недостаточно отточенным и индивидуальным, не столь единственным, как Виньи или Бодлер. Современники Гюго судили его иначе, чувствуя в нем исключительный дар выражать то, что безотчетно их волновало, приблизительно так, как мы сейчас судим Блока.
Не вина Блока, если, по сравнению с большинством признанно-великих поэтов, ему не хватает стройности в основе поэтического замысла: виновато время и страна, где он родился. Он был только верным их сыном. Сологуб мог, например, пробрюзжать революцию, отвернуться, не заметив ее в угоду своей «мечты». Блок должен был отнестись к ней со всей доступной человеку страстью, потому что Блок был «национальным» поэтом. Отрицательно или положительно отнестись – вопрос решительно второстепенный. Недаром он считал, что главное для поэта это слушать и уловить «музыку времени». В стихах Блока всегда есть привкус эпохи: 1905 год, потом предвоенное затишье, потом революция, те октябрьские ночи, тон которых так волшебно передан в «Двенадцати». Блоковские стихи никогда не бывают «вне времени и пространства». Нам, его современникам, они кажутся кусками, обломками нашей жизни, и поэтому мы к ним пристрастны, мы в них «влюблены». Прочтите человеку, прожившему полжизни в предреволюционном Петербурге:
По вечерам, над ресторанами
Горячий воздух дик и глух…
– он, наверно, вспомнит гораздо больше, чем сказано в словах стихотворения, и он едва ли поймет, почему это ему вспомнилось.
2
О надсоно-чеховском времени говорят всегда как о тоскливом «безвременьи». Потом будто бы пришел великий подъем, зазвучали песни о буревестнике и гимны солнцу. Освобожденная плоть, звериная радость жизни, будем как солнце, трехкопеечное ницшеанство – чем только себя не тешили и не обманывали?
Но вот послышался голос Блока, подлинного, не самозванного поэта этой «весенне-звучной» эпохи. После нескольких срывов он безошибочно уловил ее тембр. Неужели можно еще сомневаться, можно еще не чувствовать, что Блок есть великий, величайший поэт человеческой скуки, самый беспросветный, несравнимый с Надсоном или Чеховым, потому что у Надсона были спасительные «идеалы», Чехов думал, что если сейчас все очень скверно, то через триста лет все будет очень хорошо!
Блок, на первый взгляд, кажется поэтом довольно богатым по темам. Но он неспособен подняться над уровнем средне-поэтических упражнений, рассказывая о чем-либо или рассуждая. Зато зевающий – не плачущий! – Блок неотразим. Скука – единственная поющая струна его «лиры». Остальные натянуты только для вида, из грубой веревки. Вспомните большое и программное стихотворение «Скифы», в котором Блок пытается стать чем-то вроде левоэсеровского Д’Аннунцио: вождем, пророком, глашатаем. Что получилось? Мертвечина, плоская, вялая риторика, по брюсовскому образцу, но без брюсовского звона. И затем вспомните:
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь, начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Это удивительное восьмистишие едва ли не «высшая точка» в творчестве Блока. Но эти темы ему всегда и сразу дают вдохновение. Озираясь вокруг, он не видит ничего. Ничего не ждет – разве только смерти? – не вспоминает, ни на что не надеется. Но ведь всякое чувство, доведенное до крайних пределов, может стать великой художественной темой: даже и скука. Блок доказал это. Интересно сравнить Блока с Бодлером. У Бодлера есть несколько стихотворений, где, казалось бы, достигнут порог в выражении тоски – «Brumes et pluies» или тот «Сплин», где беседуют валет червей и пиковая дама. И все-таки, на мой слух, Блок переступает его.
Тут дело, вероятно, в языке. Французский язык слишком плавен, легок и как-то слишком наряден для выражения некоторых мыслей или чувств. На русский слух, французский стих, по самой плоти своей, всегда чуть-чуть сладок, и здесь никто, даже Бодлер, ничего сделать не может. По-видимому, преимущество русского языка (которое порой становится недостатком, конечно) в частом столкновении согласных, в твердости звука ы, от которого веет темной, тупой монгольской тоской. (Это, конечно, чувствовал Блок в своем «скифском» вызове Европе:
Мильоны вас. Нас тьмы, и тьмы, и тьмы!)
Относительно же столкновения согласных можно добавить, что благодаря им «варварская» речь Державина иногда выразительнее итальянизированного языка Пушкина.
3
Блока всегда влекло к театру. Первые его пьесы отражали влияние Метерлинка, правда, сильно преломленное. Затем он написал «Песню судьбы». Эта драма полна высокого лирического напряжения, но загадочность и условность образов превращает ее в ребус.
Последней пьесой Блока была «Роза и крест», которую долго ждали и встретили почтительно-сдержанным восторгом. Блок читал ее впервые в 1914 году, в расцвете своей славы. Драма едва ли кого-нибудь захватила, но ее заранее называли блоковским «шедевром», и так как она обманула ожидания не слишком резко, то ее шедевром и продолжали считать.
В «Розе и кресте» есть несколько по-блоковски бессмысленно-упоительных стихотворений:
Аэлис, о роза, внемли, Внемли соловью…
Замысел драмы неясен, но в нем есть что-то глубоко захватывающее. Однако самой драмы нет, развития нет, движение тягуче-замедленное, и даже по сравнению с ранними пьесами Блока «Роза и крест» – явная неудача.
«Балаганчик» и «Незнакомка» в чтении и до сих пор прелестны. Сцена обнаруживает их кукольно-механическое, поддельно-детское построение. Я не видел первой постановки, у Комиссаржевской. Но лет десять назад, в Тенишевском зале, их ставил Мейерхольд, патентованный специалист по Блоку, после сорока или пятидесяти репетиций, никем и ничем уже не стесняемый. Это было ужасно. Лучшее, что есть в этих пьесах – стихи, – погибло в «выразительном» чтении актеров. Только в странных диалогах танцующих пар в «Балаганчике», под милую, грустную и беспомощную музыку Кузмина, были моменты какого-то просветления.
Блок, стоя в проходе, смотрел на представление молчаливо, сурово и печально, как смотрят на похороны.