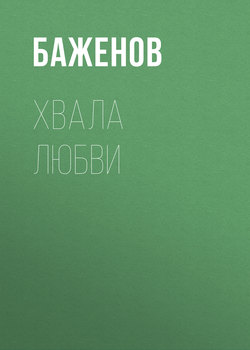Читать книгу Хвала любви (сборник) - Георгий Баженов - Страница 4
Музы сокровенного художника
Роман-портрет
Глава IV
Оглавление…Той весной Бажену исполнилось чуть больше года, и хорошо, конечно, было бы прожить с ним долгое благодатное лето на чистом воздухе, в родном домашнем приволье.
Что делать в Москве? Нечего делать. И Вера с Баженом уехали на Урал, в родной поселок. Чуть позже, с началом летних каникул, должен приехать в Северный Гурий с ребятами, а пока Вера с Баженом отправились на Урал вдвоем.
Огород копали сразу после майских праздников. Земля подсохла; лишь кое-где, по низким затененным мыскам близ заборов или надворных построек прощально полеживал ноздревато-крупистый грязный снежок, однако по огородью земля мягко, желанно принимала хозяйскую стопу, будто прося: вскопай, взрыхли, окропи меня семем – буду тебе благодарна, воздам сторицей, придет только время… Правда, на Верин вопрос: «Не пора ли копать?» – отец только хмыкнул: мол, рано девке подол задирать, коли еще не заневестилась, но Вера не послушалась отца, вышла на огород с лопатой – не терпелось окунуться в горячую желанную работу. А что до хмыканья отца, то она его вполне понимала: все еще не может простить, что не по-людски у дочери получилось: сначала родила, потом в невесты угодила. Да и в невесты ли еще? В жены ли настоящие? Вот жизнь-то покажет, ох, покажет…
Копать Вера начала с дальнего уголка огорода, от той березы, которую отец посадил, когда двадцать один год назад появилась на свет божий Верунька. Теперь, рядом с Вериной, давно окрепшей, густо-тенистой в летнюю пору березкой поднялся еще один росток. Посадила его сама Вера в прошлом году в честь рождения Бажена. И росток этот был не березка, а крохотный кленок, во славу мужичка, который, как ни хмурился Верин отец, все же продолжал именно его род, отцовский: фамилию Вера носила прежнюю – Салтыкова, под этой же фамилией жил и Важен.
Рядок за рядком продвигалась Вера вперед, копала неспеша, с упоенным чувством живой телесной радости, которая окатывала ее иной раз с головы до ног как бы совершенно без причины, просто от избытка чувственного наслаждения: теплое солнышко, теплая земля, горячая испарина по спине и плечам, рядом копошится крохотный ее сынок – с детской лопаткой в руке, чумазый, с белозубой простодушной улыбкой на пышнощеком лице… может, это и есть счастье?
Она не думала об этом, просто испытывала радостную слиянность нынешнего душевного настроя и того дела, которым занималась в эти минуты. Да еще дом родной рядом, да сынок-глупышок копошится поблизости, да еще и сам воздух словно напитан сладостью собственных детских воспоминаний и радостей…
Что еще человеку надо?
Конечно, посмотреть на ее жизнь сторонним взглядом – ой сколько бед да сложностей навалилось на молодую девку, уехавшую искать счастья в Москву, а с другой стороны, вот она, Верка, нисколько не потерявшая себя в столицах, не растерявшаяся от неожиданностей и козней жизни, наоборот, с достойным терпением несущая свой жизненный крест на щупленьких, будто еще совсем девичьих плечах. Откуда это в ней?
Ведь тогда, давно, в тот первый день, когда она осталась одна в общежитии, в той комнате, которая должна была стать для нее родным жилищем на долгие-долгие годы, когда опустошенно присела на краешек жесткой казенной кровати, ведь тогда именно душу ее окатил неожиданный и непонятный ужас, тоска окатила, страх, одиночество. И так стало жалко самое себя, что невольно, как у бездомного щенка, вырвался из груди стон не стон, а словно поскуливание какое-то, повизгивание, и она, обхватив голову руками, повалилась лицом на подушку и долго рыдала-плакала, пока в конце концов не унялась, не успокоилась от бессилья и душевного опустошения.
Странно, мечта ее, казалось бы, сбылась: она в Москве. Устроилась в ремонтно-строительное управление по лимиту, ей дали общежитие, живи, работай, радуйся, а она вдруг впала в страх, в тоску, в отчаяние. И, пожалуй, сильней, чем в этот первый день, никогда более не испытала такого страстного желанья уехать, бросить все: Москву, работу, комнату, лишь бы вернуться домой, ко всему привычному, знакомому, родному.
Вот когда она почувствовала (тогда, в тот первый день в чужом казенном общежитии): юность кончилась – началась новая, одинокая, серьезная, взрослая жизнь.
Да, почувствовала это. Страхом, тоской, отчаянием, захлестнувшими душу, почувствовала.
Но поняла ли? Осознала ли до конца?
Нет. Не поняла. Не осознала до последнего предела. Не могла еще осознать. Ибо слаба была душой. И телом. И духом.
Оттого и мучилась так долго. Оттого и слез столько пролила, прежде чем твердо, ясно и окончательно поняла однажды: она – взрослая. И спрос с нее – тоже как со взрослой.
Но до осознания этой истины много должно было воды утечь…
Ведь и Сережа Покрышкин, первый ее настоящий ухажер, первый мужчина, по сути дела, оказался случайным эпизодом в жизни. И все по той же причине: ей было страшно, одиноко, трудно и тревожно в Москве, не к кому прислониться плечом, а тут вдруг сразу поддержка, защита, сила, уверенность в себе. Дан хотелось как-то показать окружающим, девчонкам по комнате, что и она не лыком шита, ей все нипочем, все она знает, все умеет, во всем разбирается. А в результате…
Да ладно, Бог с этим со всем, чего теперь вспоминать!
Вера воткнула лопату в землю, отбросила со лба влажную прядь волос, повернулась лицом к солнцу и сладко прищурилась под его теплыми ласковыми лучами. Господи, сколько ни мотайся по свету, где только ни живи, а нет ничего лучше родного дома, вот этого свежего струистого воздуха, этого нежного тепла весеннего пригревающего солнышка, которое бывает таким только здесь, на родине, и только вот в эту пору, в майские благодатные дни. Казалось бы, жить да жить в родном гнездовье, так нет, все нас носит где-то по свету, все ищем счастье на стороне, вдали от родительских пепелищ. А находим ли счастье? Когда как… иногда находим, но чаще всего – нет, наоборот, теряем последнее, что имеем.
Может быть, думала Вера, это последняя моя свободная весна, последнее вольное лето, потому что осенью Бажену исполнится полтора года, придется возвращаться на работу, заниматься делом, которое вовсе не по душе, которое просто кормит тебя, дает средства для существования.
И так будет продолжаться всю жизнь? Может быть, может быть…
– Мамка, ты чего стоишь? Чего лин-тян-нича-ишь? – вывел ее из раздумий Важен, и Вера легко отмахнулась от мыслей, улыбнулась сынку:
– Ишь строгий какой, прямо инспектор! Ну, давай будем копать дальше, давай.
Наблюдая за ними с крыльца, наконец не выдержал и Верин отец Иван Фомич, подошел к ним с лопатой в руках:
– Устыдили мужика. Ладно, Бог в помощь!
– Становись рядом, отец. Втроем-то мы ого-го как быстро махнем!
– Ого-го! – поддержал их малыш и весело рассмеялся: забавно ему было повторять такое смешное «ого-го».
…К полудню вскопали две больших гряды, и хотя земля, действительно, была еще сыровата, можно бы и подождать с копкой, отец рассудил так:
– Ничего, солнышко погреет, ветерок посушит – в самый раз выйдет. Зато первые с картохой будем, так-то, ребята!
Шестого июня, в день рождения Поэта, приехал из Москвы Гурий, привез на лето старших сыновей Валентина и Ванюшку. Сам Гурий устроился жить в материнском доме, а Валек с Ваньком – в доме Ульяны, с бабушкой Натальей и дедом Емельяном. С тех пор, как Гурий ушел от Ульяны, он всегда сам привозил сыновей на Урал, но жили они не с ним, а с родителями Ульяны.
Так и получалось: Вера с Баженом – в одном доме (отец Веры не хотел признавать Гурия за дочериного мужа: не расписан – не муж); Гурий – в другом доме (со своей матерью Ольгой Петровной); Валентин с Ванюшкой – в третьем доме (у бабушки с дедушкой – с родителями Ульяны).
И все – соседи между собой; рядом друг с другом, но – не вместе. Вот какая штука.
Больше всех томился от этой несуразности Гурий. Во-первых, угнетало чувство вины, во-вторых, чувство неопределенности. Выходил утром из дома, садился на крыльцо – вон через забор, рядышком, строят самокат Ванек с Вальком. Бросал взгляд направо, через другой забор, – там грузит песок в детский самосвал Важен. Младший сынок работает самозабвенно, пыхтит, не замечает отца. А Валентин, тот сразу усмотрел Гурия, кричит:
– Папа, а как тут подшипник крепить, а?
Гурий, сонный, припухший, идет в одной майке к забору; идет огородом, по узким бороздкам между грядами; взошла уже картошка, полезли морковь, свекла, горох; огурцы расправляют листочки, редиска пошла в рост; пахнет свежестью, зеленью. У забора Гурий останавливается, говорит старшим сыновьям:
– Штырь надо потолще, понятно?
– А как крепить? – спрашивает Ванюшка.
Ну, разве объяснишь на словах? Гурий перемахивает через забор, подходит к ребятам. Через минуту забывает обо всем на свете, увлекается, как в детстве, вспоминает до мельчайших подробностей, как сами они, пацаны, в далекие послевоенные годы мастерили самокаты. Тогда не то что сейчас – тогда с подшипниками туго было, пойди достань! Да еще разных калибров… А сейчас? Сейчас подшипник найти – плевое дело, любого диаметра. Но вот смастерить самокат – тут, братцы, все равно смекалка нужна, и Гурий берется за ножовку, молоток, гвозди, начинает открывать сыновьям премудрые секреты самокатостроения. Причем что приметил давным-давно Гурий – что быстрей всех схватывает секреты – буквально на лету – Ванюшка; видать, мастеровой парень вырастет. Гурий и сам, надо сказать, в детстве сообразительным был, многое умел делать своими руками, за многое брался (и получалось, вот что главное), а с годами растерял навыки, разучился инструмент в руках держать; не то что починить что-нибудь в Москве, гвоздь толком не может в стенку вбить, вот до чего дело дошло. Или тут художество его виновато? захватило целиком? душу в плен взяло? Бог его знает.
Гурий вбил в ядро подшипника крепкий дубовый околышек, сквозь дерево пробил негнущийся стальной штырь в полмизинца толщиной, вставил подшипник со штырем в прорезь широкой доски, на которой будет стоять опорная, а не толчковая, нога, и гвоздями-скобами, предварительно остро обкусанными обыкновенными плоскогубцами, намертво закрепил штырь на доске.
– Вот так! – удовлетворенно хмыкнул он и даже, что редко с ним бывало, хвастливо прищелкнул языком: знай, мол, наших
– Спасибо, папа! – в один голос закричали ребята: подшипник, действительно, был накрепко приделан к доске.
Вдруг чувствует Гурий – кто-то трется около его правой ноги, пыхтит-сопит напряженно. Смотрит, а это младший его сынишка Важен, тоже рядом копошится. И главное – даже с самосвалом своим оказался тут.
– Ты еще откуда, пострел? – улыбнулся Гурий.
– Вон, видишь, дырка? – показывает Важен на забор. – Я там лазю. Я всегда! – и с гордецой это говорит, с самоупоением.
– Эх ты, клоп, – нажимает ему на нос Ванюшка, – все бы тебе в дырки лазить. А если б застрял?
– Не, не застрял. Я ух какой!
И все они, четыре родных мужичка, весело смеются.
– Я-то думаю: кто тут с утра веселится? А это вон кто. – Неожиданно к ним подходит мать Ульяны, бабушка Наталья Варнакова, первая теща Гурия. – Ну-ка, ребятня, пошли завтракать!
– Ну-у, бабушка-а, – недовольно заканючили пацаны, – мы потом, попозже…
– Быстрехонько, быстрехонько! – заворчала бабушка Наталья. – Ишь, спозаранку мастерскую тут открыли.
– Мы потом, – продолжали упрашивать ребята. – Ну-у, бабушка…
– Ладно, сынки, идите завтракайте, – поддержал тещу Гурий. – Самокат позже доделаем.
– И я с вами, – закричал Важен, – я тоже!
– Ага, пошли и ты с нами, – погладила его по голове бабушка Наталья. – Яичницу любишь?
– Не, я не есть, я самокат, – нахмурился Важен.
– Ну, пошли, пошли с нами, клоп, – Ванюшка подхватил младшего братца на руки. – У бабушки яйца не простые…
– А какие?
– А золотые… правда, бабушка?
– Правда, Ванюшка, правда, – улыбнулась мать Ульяны.
– Тогда ладно. Тогда пошли, – согласился Важен.
– Может, и ты с нами за компанию? А, Гурий? – как ни в чем не бывало спросила Гурия бывшая теща.
– Да нет, я уже позавтракал, – смутился Гурий. – Спасибо.
– А то смотри, – улыбнулась теща. – У меня к закуске и погорячей что найдется…
– Да нет, ладно, не надо, потом… – забормотал Гурий. – Спасибо.
– Вольному – воля, – вздохнула мать Ульяны. – Ну, пошли, ребятня!
И тройка братцев отправилась, как за наседкой, за нахохлившейся бабушкой Натальей в дом Варнаковых.
Гурий перемахнул через забор, снова уселся на крыльцо.
– Эй, муженек, – услышал вдруг, – здравствуй! Баженчика не видел?
Смотрит – за соседним забором стоит Вера, в легком цветастом сарафане, с открытыми, начинающими полнеть, но все равно такими прекрасными и родными плечами, улыбающаяся, свежая, прямо золотистая какая-то, светящаяся.
– К Варнаковым убежал, – ответил Гурий. – Завтракать его позвали.
– Ну и ладно, – продолжала улыбаться Вера. – Ты-то чего делаешь?
– Да вот, сижу…
– Приходи завтракать!
– Да нет, я уж как-нибудь тут перебьюсь.
– Чего ты? Дома все равно никого нет. Отец в лес уехал, мачеха в магазин ушла.
– Лучше ты сама приходи.
– Ох, дожили, – смеется весело Вера. – Жена мужа завтракать приглашает, а муж жену на свиданку зовет.
– Доживешь тут. С такой-то жизнью.
– Кто у тебя дома-то? – игриво спрашивает Вера.
– Мать дома, кто еще, – говорит Гурий.
– Ну вот, – огорчается Вера. – Не обнимешь тебя… – И вдруг переходит на шепот: – Гурий, Гуричка, ну иди ко мне, иди, я соскучилась. Честное слово.
– Да ты что, дурочка, белены объелась? Средь бела дня?
– Гуричка, честное слово, соскучилась. Ну, чего ты? Иди, ну иди, пока никого нет… ни ребят, ни отца с мачехой.
Гурий, странное дело, воровато оглядывается и вдруг, лихо гикнув, перемахивает через забор – прямо в объятия жены; правда, жены незаконной, не расписанной с ним… Но им-то какое дело?
Потом, когда они лежат в чулане, опустошенные счастьем близости и взаимной нежности, они долго и смешливо шепчутся обо всяких пустяках, но постепенно жизнь как бы отрезвляет Гурия, он начинает жаловаться Вере, что трудно ему здесь, неуютно как-то и неприкаянно, дома косятся, у тебя косятся, у Ульяны – тоже косятся… Не знаешь, куда и спрятаться от всех.
– А ты не обращай внимания, – шепчет, успокаивает его Вера. – Я тебя люблю. Сыновья любят. Это главное. А остальным до нас дела нет.
– Да что я как вор здесь живу?! На улицу выйдешь: «Гурий Петрович, – подзуживают соседи, – как Ульяна поживает? Как Вера? Ах, какие они обе у вас хорошие, красивые, пригожие! А детки? Сыночки? Ну просто прелесть… И главное – все на вас похожи. Вот счастливый отец!»
– И правда, – тихо смеется Вера, – не счастливый, что ли? Плюнь ты на этих соседок, им самое важное – языки почесать. Вот и все.
– Может, уехать мне?
– А мы на все лето одни здесь? Да ты посмотри, как сыновья к тебе тянутся. Вот и пользуйся моментом, воспитывай их. Сколько раньше переживал: как Ваня с Валей будут жить без меня?! Ну вот, они рядом – что же ты? Радуйся!
– Да они-то рядом… Это верно. Зато сколько косых взглядов вокруг?
– Плюнь, не обращай внимания. Лучше поцелуй меня! Еще, Гуричка, еще… вот так. Ах ты мой глупый, любимый, страдалец ты мой… Люблю тебя, люблю, люблю!
Иногда Гурий не выдерживал, уходил из дома.
Как прежде, как много лет назад, брал с собой альбом, карандаши или гуашь и бродил то по лесу, то забирался на Малаховую гору, а то оказывался на Высоком Столбе, откуда по-прежнему открывались безмерные уральские дали, леса, дороги, синие пруды и долгие извилистые речки – Чусовая и Северушка.
Опять и опять он делал наброски, эскизы, мучился все той же прежней идеей: хотел разом выразить суть жизни в каком-то одном рисунке, который бы объял собой все – и смысл, и красоту, и глубину, и единственность жизни. Однако странное дело: теперь, когда он стал старше, умней, опытней, эта идея еще больше ускользала от него: рука слушалась, но сердце молчало. Раньше сердце его разрывалось на части, кричало, неистовствовало, было переполнено горделивой мечтой поразить мир прекрасной совершенной картиной, ибо чувственная предтеча этого совершенства явственно ощущалась в душе, только нужно было передать ее через линию и красоту рисунка; а теперь? А теперь душа оставалась холодной и пресной, то есть никак не подключалась к тому, что назвал он «сердцем работы». Словно душа его – это одно, а рисунок, линия – совсем другое. С некоторого времени он стал все явственней ощущать в себе эту двойственность состояния, и это раздвоение мучило его не меньше, чем прежняя неопытность, когда не слушалась рука и не подчинялась линия; теперь – рука слушалась, линия подчинялась, но рисунок получался неодухотворенным, холодным и пустым, ибо оставался лишь слепой копией жизни.
Раздосадованный, опустошенный, Гурий возвращался домой, где тоже не находил себе места: здесь на его глазах продолжалась прежняя несуразная жизнь, и причиной несуразности был прежде всего он сам, Гурий Божидаров. И еще сильней начинало угнетать чувство вины, ирреальность происходящего.
Впрочем, почему ирреальность?
Вот он пришел домой, забросил на веранду альбом, краски и карандаши, вышел на крыльцо, сел на ступеньки; там, за забором, во дворе Варнаковых, кипит работа. Ванек с Валентином носят доски, что-то отмеряют, кладут доски на козлы; Вера, веселая, загоревшая, в одном купальнике (ее только там не хватало, думает Гурий, да еще в таком виде), так вот – Вера подхватывает ножовку и начинает азартно пилить доску. Рядом с ней вертится Важен, придерживая доску за свободный конец, и Вера не прогоняет сына. («Еще оттяпает ему руку», – думает Гурий.) Отпиленные по определенному размеру доски Ванюшка с Валентином уносят в сарай, а Вера с Баженом продолжают работать дальше. Вот слышится: застучал молоток, а через несколько минут – перебранка ребят:
– Да не так, не так бей! Эх, мазила!
– От мазилы слышу! На, забивай сам, если такой умный.
– Ну и буду. Давай.
И опять слышится стук молотка, а через некоторое время новая перебранка:
– Что, съел? Тоже мне – народный умелец! – Ладно. Я хоть по пальцам не бью. А ты… – А я что? Один раз только и долбанул тебя. – Ага, мало одного? Молотком по пальцу?! Раскрасневшиеся, злые друг на друга, ребята выскакивают наружу, и тут Валентин замечает на крыльце отца, кричит:
– Папа, помоги нам! Слышишь?
И все разом – и Вера, и Важен, и Ванюшка – тоже поворачиваются к нему и кричат:
– Пожалуйста, папа! Помоги!
Он, с не очень большой охотой, поднимается со ступеньки, подходит к забору:
– Ну, чего тут у вас?
– Нам дедушка с бабушкой курятник отдали, – объясняет Валентин.
– Курятник? – усмехается Гурий. – Теперь будете вместо кур на шестках сидеть? – Гурий и сам не знает, почему говорит эту глупость, просто никак не может справиться с неожиданным внутренним раздражением.
– Ну, зачем ты так с ребятами? – укоризненно качает головой Вера. – Лучше посмотри, как они его отчистили, отскребли.
– А ты бы лучше халат накинула, – говорит он ей в прежнем раздраженном тоне. – Тут не пляж, кажется.
Густо покраснев – от обиды, от унижения, – Вера накидывает на плечи яркий цветастый халат и, подойдя к забору поближе, тихо говорит Гурию:
– Не с той ноги встал сегодня? Дед Емельян им курятник отдал, чтоб у них своя комната была. Вон, посмотри, как они ее отмыли.
– А ты здесь что делаешь? – Гурий продолжает ядовито усмехаться.
– Как что? Помогаю им.
– Дешевый авторитет зарабатываешь?
В глазах у Веры появляется укоризненная слезная пелена:
– Ну зачем ты так, Гурий?
Он и сам чувствует, что переборщил; берет себя в руки, перемахивает через забор. Тут же к отцу подбегает Важен, берет его за руку и тащит к сараю:
– Смотри, папка!
Гурий с некоторым недоверием входит в курятник. То, что он видит, действительно удивляет его. Раньше в этом небольшом отсеке сарая все было загажено курицами и петухами, внизу были кормушки, наверху – насест, длинные толстые жерди, тоже все изгаженные, а теперь… Ну просто блистала комнатенка от свежести и чистоты! Все жерди убраны, кормушки выставлены, стены и потолок отчищены, отмыты (горячей водой с порошком, как объяснили позже ребята), а пол не просто вымыт, а поначалу выскреблен лопатами, вычищен ножами, а затем три раза промыт горячей водой с порошком, с добавлением дезодоранта. Чистая благоухающая комната!
Странное дело: у Гурия неожиданно меняется настроение, он невольно улыбается:
– А что, молодцы, пацаны. Честное слово, молодцы!
И всем становится хорошо на душе, у всех теплеет в груди, а Вера даже говорит:
– То-то же!
И Важен тут же повторяет за ней:
– Те-те же, папка, эх ты! – Он всегда чутко улавливает настроение родителей.
– Так… ну, и в чем тут у вас заминка? – интересуется повеселевший Гурий.
– Понимаешь, папа, – очень серьезно начинает объяснять Ванюшка, – внизу у нас будет жилая комната, а наверху мы сделаем полати. Бабушка обещала сшить из старого материала большой матрац, набьем его сеном, застелим одеялом, подушки возьмем и будем здесь спать, когда тепло. Здорово? Внизу настелим половики (бабушка отдаст нам старые), сделаем стол, табуретки, еще кой-чего придумаем, и будет у нас свое жилище. Даже вас будем в гости приглашать!
– А точно пригласите?
– Точно! – в голос кричат Ванюшка с Валентином. И Важен тоже кричит за ними следом:
– Точно!
– Ну, и что у вас не получается?
– А вот, видишь… По бокам мы хотим прибить бруски, потолще и покрепче, чтоб доски на них укладывать. Тетя Вера сказала: бруски лучше дубовые, они надежней. Взяли дубовые, а прибить не можем – гвозди гнутся. Вон, смотри – толстенные такие, а не идут. Все пальцы отбили.
– Силенки не хватает?
– Да нет. Просто не идут гвозди, и все.
– Не идут – и все, – повторил серьезно и деловито Важен.
– Тихо, клоп, – останавливает его Ванюшка. – Не мешай.
– Я не мешаю, я наоборот, эх, ты!
– Так, ладно, сейчас посмотрим. – Гурий подхватывает молоток, берет гвозди-двадцатку; под первым же его ударом толстенный гвоздище, действительно, гнется, как проволока. И главное – потом этот гвоздь никак не вытащишь плоскогубцами, так уцепист этот дубовый брусок-поперечина.
Намучился Гурий изрядно, прежде чем сумел-таки «пришить» бруски. Тут главное было сообразить, – как наносить удар: вначале несколько тихих, как бы нежных ударов по шляпке, а потом один – сильный и резкий, затем опять несколько тихих, как бы примеривающихся ударов, и снова – один резкий и мощный. В чем тут секрет – неизвестно, но при таком способе гвоздь не гнулся, а потихоньку-помаленьку, хоть и упрямо, но подвигался в глубину дуба. И уж, действительно, когда бруски были приколочены, а на бруски уложены толстые, сантиметра в три, доски, настил получился таким крепким и надежным, что мог вынести не только десятерых пацанов, но и пятерых взрослых в придачу.
Сколько было радости у ребят!
А когда закончили настилать доски, из дома вышел хозяин, старик Емельян Варнаков; за последнее время он заметно сдал, как-то усох, сгорбился, к тому же отпустил густую белую бороду и стал изрядно походить на лесного гнома-боровичка. Поздоровался с Гурием за руку, похвалил ребятишек:
– А смотри-ка, молодцы, ребятёшки, молодцы… – и улыбнулся заискивающе Гурию.
Гурий стыдился старика, отводил от него глаза.
– А что, сынок, – напрямую обратился Емельян к Гурию, – не заглядываешь к нам? Вон мать говорит – приглашала. Не идешь.
– Да так как-то… вроде некогда, что ли, – забормотал Гурий.
– Иди, иди, загляни к ним, – подтолкнула Гурия Вера.
Гурия как током ударило:
– Ну, ты-то чего?!
– А чего? – как ни в чем не бывало проговорила Вера. – Не чужие небось. Зайди, попроведай.
– Ага, ага, – обрадованно закивал головой старик, благодарный Вере за поддержку. – Пошли-ка, сынок, а?
Что делать? Гурий вздохнул с сомнением:
– Да не одет я… в трико, в майке. Неудобно…
– Э, брось, брось, сынок, – заулыбался старик, чувствуя, что Гурий начинает сдаваться. – Какие там неудобства среди своих?
Гурий растерянно взглянул на Веру, а та улыбнулась ему ободряюще:
– Иди, иди… Ну, чего ты?
И пошел Гурий за стариком в дом; за ним, правда, тут же увязался Важен, но Вера остановила его:
– А ты куда? Мы тут дела делаем, а ты бежать от нас?!
– А папка?
– У папы свои дела. Взрослые.
– А у меня?
– А ты с нами дом строишь!
– Дворец, мама, ага?
– Дворец. Точно.
– Ладно. Строю. Папка, я с Ваньком-с Вальком дворец строю! – закричал он вслед уходящему отцу.
Гурий ничего не ответил, они со стариком Емельяном поднимались уже по крыльцу в дом, не до младшего сына ему было.
В доме, на кухонке, как по заказу, был накрыт стол. Это старуха Наталья, завидев еще в окошко, как во дворе разговаривают Емельян с Гурием и как они потом медленно пошли к дому, тут же сообразила накрыть на стол. Соленые огурцы поставила, маринованные маслята, капусту хрустящую, буженинку домашнего копчения, холодную вареную картошку, графинчик с медовухой; а если что еще надо – сообразят сами, подумала старуха, и чтоб не мешать мужикам, даже не стала встречать зятя у порога, а скрылась, спряталась в «малухе», в малой комнатенке, где обычно занималась рукодельем, обшивала семью одеждой.
А сидение на кухне у мужиков получилось удивительное. Выпили по одной, по второй, по третьей, почти не закусывая, потом просто сидели, молчали, вздыхали. Старик Емельян все не решался расспросить Гурия поподробней, поосновательней, как оно у них так с Ульяной получилось, что за напасть нашла и отчего семья развалилась… Кое-что знали они, конечно, со старухой, знали, что Ульяна сама выгнала Гурия из дома, и нет, не хвалили ее, не поддерживали. Гурия-то она выгнала, он и ушел: мужик, он нигде не пропадет, он с другой бабой жизнь построит, вон хоть с Веркой, чем девка плохая, молодая, красивая, добрая, замуж за Гурия не вышла, а сынка от него родила, вот и разбирайся теперь, думай, что к чему. А к Гурию, как ни странно, не было у старика со старухой вражды, дочь-то свою, Ульяну, ох хорошо они знали, горячая, взбалмошная, упрямая, дров в любой момент наломать может… А по их разумению так: вышла замуж, поехала за мужиком по столицам – так слушайся его там, не перечь, палки ему в колеса не ставь; он хоть и не совсем мужик простой, художник, а все же мужик, а мужик не потерпит, чтоб баба поперек его шла. Выгнала? С сыновьями осталась? Кукуешь теперь? Это еще хорошо – Верка ему подвернулась, своя, поселковая, от Ванюшки с Валентином отца не отвращает, а пожалуй, что и наоборот: все подталкивает его к ним, во как бывает… И вздыхал, вздыхал старик Емельян рядом с Гурием, но так ничего и не спрашивал. Им как-то и без разговора было все понятно, а от выпитого да от обоюдного молчания-согласия легче становилось на душе, теплей, прощённей. Да и что мог спросить старик Емельян? Что мог ответить и объяснить Гурий? Уважали старик со старухой Гурия, вот хоть убей – уважали, потому что был он какой-то иной, загадочной породы, не как все они тут, в поселке; а в то же время – и свой он был, свой, другой бы, может, давно про сыновей забыл, а этот нет, не только помнит, а вот каждое лето с ними здесь, в Северном. Да и там, в Москве, ребята когда захотят, тогда и едут к отцу, к Вере с Баженом, никто от них не морщится, не отказывается, оглобли назад не поворачивает…
Так они сидели, пили, пьянели. И в основном молчали. И оттого, что Гурий знал, что старик относится к нему с непонятным почтением, в нем, в Гурии, иногда возникал пронзительный внутренний стыд и протест: он не хотел принимать этого почтения. Он чувствовал и знал, что не заслужил его, ибо в нем, в Гурии, нет того, чем наделяет его в своем воображении старик. Но как он мог объяснить такое Емельяну? В каких словах? В каких понятиях?
…Старуха Наталья слышит через час – полное молчание на кухне. Вышла потихоньку из «малухи», заглянула на кухонку – так и ахнула: спят, голубчики, свесив головы. Сначала старика подхватила под руку: отвела на диван; Емельян даже не очнулся, послушно передвигал ногами и улегся на подушки, не открыв глаза. А Гурий пришел в себя, встрепенулся на минуту:
– Что? Что такое?
Но старуха Наталья успокоила его:
– Ничего, ничего, сынок, все хорошо, пойдем-ка на веранду, отдохнешь малость, отдохнешь, голубчик…
На веранде, с трудом скинув с себя ботинки, Гурий повалился на диван и разом провалился в глубокий сон. Пока еще шел сюда, поддерживаемый рукой старухи, билась в голове мысль: домой, домой надо, а как лег – сразу все забылось, и он уснул крепким богатырским сном.
Между прочим, диван, на котором он спал, был давний его знакомец. Некогда, в пору их любви с Ульяной, сколько вечеров провел Гурий на этой веранде, сколько поцелуев и объятий случилось именно на этом диване, да и первая их дивная близость тоже произошла здесь, на этом диване.
А теперь Гурий спал на нем, как пустой выпотрошенный мешок. Странная жизнь…
Впрочем, почему странная?
Иногда она была самая что ни на есть обыденная, реальная.
Например, на речке, на Чусовой, во время рыбалки, натолкнулись ребята на рассохшуюся лодку, спрятанную в кустах тальника. Сколько она там пролежала, эта лодка, неизвестно, но и дно ее, и борта были изрезаны крупными расщелинами, иногда с мизинец толщиной; да и это бы еще ничего, главное: нос лодки был наполовину сколот, так что вода, пусти только лодку на Чусовую, залила бы посудину в одно мгновение. Но сколько Ванюшка с Валентином мечтали о своей лодке! И тут вдруг такая находка… Неужто ничего нельзя сделать – как-то отремонтировать, подлатать посудину? Конечно, вдвоем-то им лодку даже с места не сдвинуть, и они пришли к отцу: папа, помоги! Гурий поначалу рассердился на них: что за лодка?! Чужая наверняка, раз в кустах, значит, кто-то спрятал до лучших времен?! Но когда сам пришел на речку, убедился: нет, лодка давным-давно заброшена, давно никому не служит, да и послужить вряд ли сможет – видать, вышел ее срок… Но сыновья не отставали от Гурия: давай попробуем, давай отремонтируем! Что делать? Гурий понимал возможную зряшность затеи, но и отказать ребятам вот так сразу, резко, тоже не мог. А с чего начинать? С великими трудами вытащили вчетвером (Вера тоже помогала, да и Важен под ногами вертелся) лодку из кустов, перевернули вверх дном. Затем на костре, в старом мятом ведре, растопили вар и стали заливать щели густой тягучей массой. Вар схватывался быстро, начинал глянцевито и красиво блестеть; казалось, лодка прямо на глазах оживает. Когда дно и борта залили варом с внешней стороны, то лодку перевернули и установили ее на дно. К отколотому носу аккуратно прибили березовую баклажку, а затем и нос, и дно, и борта лодки густо просмолили варом и с внутренней стороны. Получилась, кажется, не лодка, а загляденье!
– Ур-ра! – закричали сыновья.
Но когда спустили лодку на воду, из всех расщелин (казалось бы, так плотно залитых смолой) стала густо сочиться вода, а потом вода откровенно потекла внутрь лодки, будто и преграды никакой не было; а уж о том, что нос тотчас залило водой, и говорить не приходится. Ребята сразу сникли.
– Ну вот, – обреченно махнул рукой Гурий, – я же говорил: ничего не получится…
А Важен, видя, как опустили головы братья, как враз испортился у них такой веселый и радужный настрой, даже заплакал, на что тут же отреагировала Вера:
– Ну, ты еще будешь портить настроение! – и хотела в сердцах шлепнуть его, но тот быстро смекнул и спрятался за спинами старших братьев.
Что делать?
Дня через два Вера уговорила своего отца, Ивана Фомича, прийти к реке, посмотреть на их «рукоделие». Очень не хотелось Ивану Фомичу приходить – видеть он не мог Вериного «суженого», но, с другой стороны, пацаны Ульяны и Гурия, Ванюшка с Валентином, вызывали в нем чувство сродни скрытому уважению: уж больно самостоятельны, любознательны, не ленивы, совсем на городских не похожи, тем более на москвичей… Был Иван Фомич мужиком еще молодым, сорока трех лет от роду, всего на десять лет старше Гурия; в далекие годы, случалось, даже в одних игрищах приходилось им принимать участие, например в игре в лапту, где и взрослые пацаны по 14–15 лет, и малые по 4–5 лет едва ли не на равных бегают за мячом. Даже странно и подумать нынче такое: Иван Фомич и Гурий – в одной игре забавляются. Ибо теперь, по прошествии-то многих лет, Иван Фомич с его густой черной бородой, с широкими вразлет бровями, с недоверчивым взглядом колюче прищуренных глаз и серьезно сжатыми неулыбчивыми губами мог бы, наверное, и в самом деле сойти за отца Гурия, безбородого, безусого, мало что умеющего и ни к чему, по мнению Ивана Фомича, не приспособленного, кроме как портить бабам судьбу да плодить детей-безотцовщину. А это тем более грех, при живом-то батьке. Не только не любил Иван Фомич Гурия, главное – не уважал; и слышать не хотел от дочери, что она теперь – жена Гурия. Хорош гусь: с одной еще не развелся, а уже с другой живет как с женой. Сладкая малина получается… Но что делать? Ради пацанов, Вани и Валентина, согласился Иван Фомич заглянуть с дочерью на реку.
Пришел, посмотрел на лодку. Покачал головой. Усмехнулся недобро. Усмешка эта относилась прежде всего к Гурию, который сидел замшелым пнем на берегу Чусовой с удочкой: делал вид, что занят рыбалкой.
Прежде всего вырубил Иван Фомич тройку ваг да несколько бревнышек потолще, и накатили они все вместе лодку на бревна, чтоб постояла да просушилась она основательно на ветру да на солнышке. Затем остро, цепко осмотрел нос лодчонки: да, дела невеселые… Что нос расколот – это полбеды, хуже, что он сгнил основательно, раструхлявился. Тут никакая латка не поможет, новый нос нужно рубить. А стоит ли? Задумался Иван Фомич. Конечно, если по-хозяйски подходить, серьезно, лодку надо бы на слом да на дрова, вон хоть в тот костерок дровишки пойдут, что дымится на берегу Чусовой. Но, с другой стороны, понимал Иван Фомич пацанов: свою лодку охота им иметь, пусть плохонькую, да свою. Так что сомнения Иван Фомич отбросил, постоял рядом с лодкой, помороковал над ней, измерил носовую часть рулеткой, щели получше рассмотрел. А через три дня в рюкзаке принес выструганный и ошкуренный до лоснящегося блеска новый нос для лодки: выделал он его из доброй смолистой сосны, из крепкого комелька, который сохранился у него в дровянике еще с прошлого года, когда рубил делянку по красногорской дороге. Не все тогда на дрова пошло, кое-что оставил Иван Фомич для хозяйства, а несколько сосенок, особенно прямоствольных, строевых, пустил в продольный распил, на доски; можно бы, пожалуй, из досок новую лодку сварганить, да решил отложить такую затею Иван Фомич до других времен: пацанам ведь главное – свою лодку отремонтировать, ту, которую нашли, которая их собственностью стала. А что толку, если им кто-то новую лодку сварганит? Это неинтересно.
Что удивительно – новый нос, посаженный на шипы и деревянный клей, так слился со старым остовом лодки, будто век сидел здесь: недаром Иван Фомич делал точные замеры рулеткой. Ванек так и присвистнул:
– Вот это точность, американская!
– Не американская, – усмехнулся Иван Фомич. – Мастерить-то меня отец учил. А отца – дед. А деда – прадед. Понял, Ванюшка?
– Понял? – повторил вопрос и Важен.
– Нуты-то, клоп, помалкивай, – Ванюшка подхватил братца на руки и стал щекотать. – Вот сейчас защекочу – тогда узнаешь!
– Тихо, тихо, ребята, – стала успокаивать их Вера.
– Вы вот что, пацанва, подбросьте-ка дровишек в костер, – приказал Иван Фомич, – да гудрон в ведре ставьте. Пусть растапливается пока.
Ребята, вся тройка, бросились к костру, а Иван Фомич сказал Вере:
– Принеси-ка рюкзак сюда… Шнур мне нужен. Вера тотчас принесла отцу рюкзак.
– А этому своему, – кивком головы указал Иван Фомич на Гурия, – скажи: пусть черпалку возьмет, гудрон помешивает.
Надо сказать, Вера относилась с юмором к взаимоотношениям отца с Гурием; не то что бы она не переживала, что отец не признавал Гурия за ее мужа или что Гурий побаивался и сторонился ее отца (переживала, как не переживать), но умела настроить себя так, что видела в этом и смешную сторону: два мужика, как два индюка, надулись друг на друга, а смысл какой? Вера все равно живет с Гурием. Будет отец признавать Гурия или нет, будет Гурий сторониться отца или нет, Вера давно породнила их, через себя породнила, через Бажена, так что смешно ей частенько было, что два взрослых мужика никак не уяснят себе такой простой и очевидной истины. Вот и тут не выдержала, рассмеялась на кивок отца: – У сына твоего имя есть!
– Какого еще сына? – не понял Иван Фомич. – У мужа моего, – продолжала смеяться как ни в чем не бывало Вера.
– Мужа?! – Глаза Ивана Фомича налились презрением и насмешкой: – Двоеженец он, а не муж! С одной бабой поваландался, с другой, а бабы, дуры, детишек ему рожают. Да я бы на их месте!.. – он вытянул узловатую руку вперед и, крепко, до боли сжав кулак, так, что пальцы побелели, наглядно показал, чтоб он сделал на месте женщин.
– Все б тебе воевать, – отмахнулась Вера. – Лучше б свадьбу сыграл.
– Чего?! – поперхнулся на слове Иван Фомич.
– А что?! Не заслужила я, что ли, как у людей?
– Ты, девка, вот что заслужила: вожжами по заднице! И брысь от меня, пока я вконец не озлился…
Вера, насмешливо покачав головой: эх, мол, отец, дурень ты дурень, – направилась к Гурию, а Иван Фомич, досадливо сопя, достал из рюкзака большой тюк просмоленного шнура и стал потихоньку распутывать его.
– Ну-ка, Важен, держи! – он подал один конец внуку. – Да держи крепко, понял?! – Важен, радостный и польщенный, что дед поручил ему настоящее взрослое дело, ухватился за шнур обеими руками. – Вот так, – похвалил его Иван Фомич, а сам стал распутывать шнур дальше.
Повесив ведро с гудроном на толстую жердь над костром, Ванюшка с Валентином вновь подошли к деду:
– А шнур зачем? – спросили с интересом.
– А шнур затем, что щели-то надо законопатить сначала, – показал Иван Фомич на лодку. – И только потом гудроном заливать. Что толку, если вы сверху залили, а внутри – дыра?
– Ага, я ж тебе говорил! – развернувшись к Валентину, закричал Ванюшка брату.
– Чего ты мне говорил? – презрительно усмехнулся Валек.
– Что надо паклей сначала. А ты?!
– Нет, ребята, пакля тут не пойдет, – прервал их спор Иван Фомич. – Тут шнур нужен крученый, вот как этот, – показал он. – И просмолить его надо прежде. Да хорошенько. А когда в воде он разбухнет, то так щель закупорит – комар носа не просунет.
Ребята понимающе переглянулись.
– Ну вот, шнуром прошпаклюем сейчас, а потом гудрончиком зальем – изнутри и снаружи, – лодчонка как сказка будет. Поняли, ребята?
– Поняли! – в один голос закричали братья. И Важен тоже поддержал их:
– Поняли, поняли!
Дед повеселел на глазах и потрепал внука по русым, выгоревшим волосам:
– Ну-ну, ишь ведь, растешь… ну-ну!
Пока они (кто конопаткой, кто стамеской) заделывали на дне и бортах лодки щелястые прогалины, Гурий, изредка подкладывая дровишки в костер, длинным черпаком мешал в ведре гудрон; гудрон медленно наливался жаром, пыхал и побулькивал, пока наконец не превратился в жидкую единообразную массу.
– Скажи отцу: готово, – Гурий показал Вере на ведро.
– Сам и скажи! – весело-насмешливо обронила Вера.
– Чего ты? – нахмурился обидчиво Гурий.
– А чего? – она делала вид, что ничего не понимает. Гурий обиженно отвернулся от нее, крикнул Валентину:
– Валек! Скажи Ивану Фомичу: готово.
– Дядя Иван, готово! – повторил Валек слова отца, хотя Иван Фомич прекрасно слышал, что прокричал Гурий.
– Иди скажи ему: пусть еще покипит малость, – буркнул Иван Фомич.
– Ага, хорошо, дядя Иван! – Валентин стремглав бросился к отцу, Ванюшке тоже захотелось передать отцу приказание Ивана Фомича, он бросился следом за братом, и тут они умудрились столкнуться – стукнулись лбами, да сильно, и от боли чуть не взвыли в один голос. Но усилием воли сдержали себя, только переругивались лениво да морщились.
Иван Фомич поглядел на них, усмехнулся: молодцы, ребята, крепки на калган, как говорили у них в детстве. И что интересно: Важен стоял рядом с братцами и тоже, как они, растирал лоб ладошкой.
– Ты-то что дразнишься, клоп? – упрекнул его сквозь слезы Ванюшка.
– Не, я не дражнюсь. Я тоже! – горделиво произнес Важен и начал еще усердней тереть лоб, будто там была шишка.
Все так и прыснули от смеха, сразу легче стало на душе.
Гудроном заливал щели Иван Фомич сам. Самодельной черпалкой (длинная палка, а на ней намертво примотана проволокой пустая консервная банка) захватывал из ведра кипящий вар и тонкой осторожной струйкой, не спеша, методично, заливал щели, туго проконопаченные просмоленным шнуром. Гудроновые швы получались у Ивана Фомича как ровнехонькие красивые дорожки, бегущие то по дну, то по бортам лодки: любо-дорого посмотреть. Нос лодки Иван Фомич залил погуще, поосновательней, чтоб уж совсем полная надежность была. А когда гудрон застыл, лодку перевернули, и теперь Иван Фомич залил кипящим варом все щели уже с внешней стороны.
Через час Иван Фомич прошелся гудроном по второму кругу – для большей надежности. Потом на два дня оставили лодку на берегу – просыхать, проветриваться, прокаливаться на солнце. А когда на третий день спустили лодку на воду, она поплыла по Чусовой как игрушка: ни одной капли не просачивалось внутрь.
– Ур-ра! – первыми закричали Ванюшка с Валентином.
– Ура! – поддержал их Важен.
– Ур-ра! – подхватила и Вера. Гурий молчал, только улыбался робко.
А Иван Фомич, сидя в лодке, за веслом, зачерпнул широкой ладошкой водицы, испил, как из ковшика, сказал весело:
– Ну, пацаны, смотри, чтоб нынче рыбой нас угостили! Ушицей первоклассной!
– Ур-ра! Угостим! Ур-ра! – кричали в восторге ребятишки.
В тот вечер они и в самом деле сварили на костре уху – из окуней и ершей. Правда, не было с ними у костра Ивана Фомича – ушел к вечеру домой, хозяйство не ждет, требует ухода. Так что у костра сидели впятером: Ваня, Валентин, Важен, Вера и Гурий. До утра почти сидели… Один только Важен к полуночи умаялся, заснул на фуфайке.
А ухой все же угостили Ивана Фомича. Вера отлила из ведерка ушицы в котелок, отнесла утром отцу на пробу. Иван Фомич уху похвалил, ел с азартом, аппетитно причмокивая.
Не знал он, что уху варил Гурий, а то вряд ли бы вырвалось из него хоть одно похвальное слово…
Еще больше, чем сам Гурий, переживала за него родная мать – Ольга Петровна. Долгие годы проработав в школе, учительницей географии, она безраздельно властвовала в душе сына, и пока он рос тихий, послушный, вежливый, внимательный, она считала себя самой счастливой матерью на свете. Но вот сын вошел в пору юности, и для Ольги Петровны начались тревожные дни. Не то что бы Гурий стал грубить или не слушаться, просто однажды он вдруг замкнулся в себе, перестал делиться с матерью сокровенными мыслями и мечтами, подолгу бродил где-то – то по улицам Северного, то по лесу (а это было небезопасно – одному по лесу, переживала мать, мало ли что может случиться). И не знала, конечно, Ольга Петровна, не догадывалась, что уже тогда в душе сына начали брезжить неясные и мучительные образы, какая-то тайная и властная сила требовала, даже диктовала ему, чтобы он не смел думать о себе, как о простом смертном, ему даровано природой чувствовать и понимать жизнь так, как мало кому дано из людей. Душа его, словно обожженная неведомым огнем, изнывала под гнетом особых чувств и переживаний, то есть он воспринимал и чувствовал жизнь совсем не так, как, скажем, воспринимали ее сверстники или даже взрослые люди, которых он знал и встречал до сих пор. Гурия в прямом смысле мучило ощущение трагичности жизни, душа его изнывала под тяжестью этого ощущения, ему странно было видеть и понимать, что все люди вокруг живут так (или делают вид, что живут так), будто нет никакой смерти на свете, а значит, нет трагедии существования, нет обреченности, нет той тяжкой и мрачной безысходности, которая и есть суть человеческой жизни. Но, с другой стороны, чем больше проникалась его душа трагедийным самоощущением жизни, тем сильней и явственней он замечал и прелести, и радости, и свет непосредственной жизни. Он не умел принимать участия в этой радостной жизни, сторонился веселых компаний, развлечений, смеха, открытых ясных отношений между людьми; да, не умел и не хотел принимать в этом участия, но самоё эту радость жизни принимал душой, понимал ее, воспринимал с тайным восхищением, а порой и с завистью к тем, кто открыто радовался жизни и пользовался ее дарами. Одно то, как страстно, например, хотелось Гурию поцеловать красивую девочку Лизу, и то, что впервые ему удалось поцеловать девушку только в институте, через много лет после мучительных юношеских переживаний и вожделений, уже это говорит о Гурии немало. И вот эта двоякость его внутреннего состояния, раздвоение души, может, и были той причиной, которая далеко удалила его от матери, от ее девственных и неглубоких представлений о нем, о сыне, как о совсем еще маленьком, глупом и чистом мальчике. Нет, он не был глуп и давно перестал быть маленьким, ибо познал мучение от страшной догадки: жизнь – трагедия, но как она прекрасна! Как она мучительна в своей красоте, прелести, загадочности и в том вожделении, которое трепещет в каждом человеческом сердце!
Как он жаждал одиночества в те годы!
И как, одновременно, ему хотелось обладать всем, буквально всем в этом мире, что несет в себе чувственную радость, наслаждение и философскую глубину!
Вот причина его юношеского одиночества, вот почему подолгу бродил он по улицам Северного, с болью в душе ощущая, как он глубинно и жестоко одинок. В то же время в каком-то неистовом восторженном блаженстве Гурий упивался красотой и нежностью женских лиц, их плавными и чувственными движениями, линией их ног, талий, грудей, изгибом их прекрасных лебединых шей: женщины были и остались для него на всю жизнь загадкой из загадок… Итак, он подолгу бродил по улицам Северного или с таким же упоением бродил по лесу, уходил на Малаховую гору, забирался на Высокий Столб, и здесь открывалась ему вторая тайна жизни – сама природа, ее красота, беспредельность новизны ее, сложности и очарования. Каждый листик или лепесток был полон загадки, нес в себе ту же тайну, что совсем недавно открылась ему в людях: жизнь – трагедия, но как она прекрасна!
Ах, если б он умел выражать свои чувства в словах, он, возможно, окунулся бы с головой в писание стихов, как делают это тысячи и тысячи юношей, но догадки свои и внутренние открытия он лишь ощущал сердцем, язык его был нем и беспомощен, и писанием стихов, слава Богу, он не занялся. Но другим даром, кажется, наделила его природа: с какого-то времени, почувствовал он, рука его неудержимо потянулась к карандашу, он стал делать наброски, эскизы, рисунки; впрочем, в этом не было, казалось бы, ничего удивительного: он и в раннем детстве, и даже в отрочестве недурно рисовал, то есть не рисовал, а неплохо копировал то, что видел перед собой, но тогда это было чем-то механическим, непроизвольным, а теперь подключилась душа, и именно потому, что она подключилась, рисунок стал меньше даваться ему. Он исстрадался из-за этого противоречия: чем лучше и глубже он чувствовал натуру, тем хуже и бледней получался эскиз. Поразительно!
Он стал резок, невозможен в разговорах с матерью; до прямых грубостей не доходило, но, Боже мой, его замкнутость, холодность и неожиданные вспышки раздражения были для матери хуже открытой грубости и брани. Ибо как она могла смириться с тем, что ее тихий вежливый послушный мальчик вдруг превратился в глубоко страдающего человека. Она это чувствовала, хотя причину его страданий не понимала, а потому не могла понять и принять его неожиданную холодность и резкость.
Вообще мать Гурия была в определенном смысле уникальная женщина. Всю жизнь проработав в школе и с почетом уйдя на пенсию, будучи строгой, требовательной и педантичной в работе, Ольга Петровна обладала странной особенностью: она не понимала детей. То есть практически, конечно, никто не знал об этом, даже сама она вряд ли до конца осознавала такую простую истину, и тем не менее это было так: детей она не понимала. Они были чужие для нее, больше того – она боялась их, не могла смириться с тем, что они никогда не слушаются взрослых, что им нужно говорить и объяснять одно и то же двадцать раз на день, что в голове у них постоянные глупости и баловство, что никто из них всерьез не думает о будущем, и так далее, и так далее. Соответственно и школьники относились к ней как к пустому месту, верней – как к нереальному существу: вот она есть, конечно, их учительница, но одновременно как бы ее и нет, они не воспринимали ее слова, наставления и строгости вполне серьезно, слова учительницы отскакивали от них, как барабанные палочки от барабана.
Но еще больше, чем учеников, Ольга Петровна не знала и не понимала их родителей. Воспитавшая сына сама, в гордом одиночестве (отчего и почему – это особый разговор), Ольга Петровна воспринимала мужчин (отцов детей) как грубых и неотесанных существ, особенностью которых было то, что они совершенно подавляли своих жен; и жены, вместо того чтобы тонко и умно воспитывать детей, занимались только домашним хозяйством и ублажением мужей-мужчин, куда входило (нет, не только стирка и готовка пищи) и потаканье таким слабостям мужчин, как выпивка, курение, матерщина, грубость, оскорбления и рукоприкладство.
Мужчин Ольга Петровна просто-напросто боялась.
Женщин, живущих с ними, не понимала: как они могут спокойно переносить издевательства и глумление не только над женским началом жен, но и над собственными детьми?!
Не понимала и не принимала Ольга Петровна и детей: несерьезные, глупые, невоспитанные, никого не уважающие, ни о чем не думающие… Боже мой!
И какой же вывод? А вывод простой: Ольга Петровна не знала жизни. И только по одной причине: жизни этой она боялась.
И вот странное дело: женщина, которая считала себя умной, вежливой, тактичной, образованной, глубокой, в действительности представляла из себя забитое и испуганное существо, главным стремлением которого было, во-первых, оградить родное дитя, сына, от всех возможных и невозможных напастей, а, во-вторых, оградить и себя от всего сложного, непонятного, грубого и трудного в жизни, то есть оградиться от самой жизни. Неудивителен поэтому тот образ жизни, который она вела почти все годы в Северном: полное затворничество. Соседи, даже самые близкие соседи – ну хоть Салтыковых взять, хоть Варнаковых – были для Ольги Петровны загадочными существами: их грубые неотесанные будни, вечная забота о хлебе насущном и только о нем, полное отсутствие тяги к культуре, нередкая взаимная ругань, вплоть до мордобоя, и тут же шумные перемирия, кончающиеся общей гульбой и пьянкой, – что могло быть страшней и непонятней для Ольги Петровны?
И потому, когда взбунтовался ее собственный сын, вначале тихо и неприметно, а затем явно и недвусмысленно, Ольга Петровна буквально впала в панику. Как жить? Что делать? Как спасти их такую спокойную, понятную им обоим, культурную и вежливую жизнь?
Но эту жизнь спасти уже нельзя было. Сын вырос, сын потянулся за самим собой, за собственным смыслом бытия, который так просто не дается в жизни, за него нужно платить полной мерой – призванием, талантом, судьбой, наконец.
Вот почему так поспешно ринулся Гурий во взрослую жизнь, то есть поначалу, конечно, не совсем во взрослую, а в студенчество. Он должен был уехать от матери, освободиться от ее домашнего изнуряющего плена, который убивает все первородное и истинное в собственной натуре; нужно было найти себя; нужно было спасти себя. И Гурий уехал в Москву, поступил учиться в педагогический институт на художественное отделение. Мать, поначалу напрочь убитая бегством сына (так она воспринимала отъезд Гурия), вскоре сумела найти для себя некоторое утешение; утешение заключалось в мысли: нет, не зря я столько лет учительствовала, зерно упало в добрую почву, сын пойдет по моим стопам, станет педагогом, учителем, будет наставлять и направлять бездумную молодежь на праведную дорогу…
Но если б сын сам мог найти эту праведную дорогу в жизни!
Хорошего учителя из него не получалось.
Художником он не стал.
Первая семья развалилась.
Вторая семья держалась на честном слове.
Как жить?! Как найти себя, свой смысл, свое назначение?!
Вот и метался Гурий в душе своей из пустого в порожнее, мучился, страдал безмерно. И разве мать не чувствовала его страданий?
Чувствовала, но мало понимала их. Да и понять не могла, ибо не понимала главного – жизни. А не понимала ее по прежней простой причине – не умела принимать, видеть и чувствовать ее такой, какова она в действительности, а не в воображении, не в мечте.
Вот и смотрела сейчас Ольга Петровна на взрослого сына, порядком уже полысевшего, состарившегося, осунувшегося и поблекшего, как на некое непонятное загадочное чудо: что же это за человек такой, ее сын? отчего он мучается? что ему надо? почему никогда и ни в чем не принимает моих советов? не признает моих мыслей? не разделяет моих взглядов?
Одно только то, что Гурий, однажды приехав из Москвы в поселок, ни с того ни с сего сделал предложение Ульяне Варнаковой, молодой взбалмошной вздорной соседке, да чего греха таить – просто недалекой и глупой бабе, одно это ввело Ольгу Петровну в кошмарный шок на долгие-долгие годы. И никак не могла она привыкнуть, что обыкновенные ее соседи по огороду, Наталья и Емельян Варнаковы, люди простые, грубые, давней заводской и одновременно крестьянской закваски, – эти люди теперь ее родственники. Нет, не хотела этого принимать Ольга Петровна, и как жила прежде в одиночестве, так и продолжала жить еще большей затворницей, никого не признавая за родственников, кроме самого Гурия. Об Ульяне и говорить не приходится. Кто она была для Ольги Петровны? Подлая совратительница, окрутившая Гурия и заставившая его жить вместе с ней. К внукам – Валентину и Ванюшке – она относилась терпимей, то есть понимала, что они – сыновья ее сына, но сердцем не могла поверить, что в них течет общая с ней кровь. Она, конечно, разрешала им бывать в своем доме, но, странное дело, внуки никогда не стремились к этому, даже тогда, раньше, когда у Гурия с Ульяной все было хорошо, когда они приезжали в Северный одной семьей: Ульяна с детьми жила с родителями, а Гурий – где хотел: хоть у матери, хоть у тестя с тещей. А когда у Гурия семья разрушилась и он связался совсем уж немыслимо с кем – с другой соседкой, с молодой и тоже недалекой Верой Салтыковой (мало ему в Москве достойных женщин?! обязательно надо деревенщин выбирать, о, Господи!), – тут уж Ольга Петровна совсем в доме притаилась, как таракан в щели, никуда носа не показывала. То, что отныне и Иван Фомич Салтыков, мужик молодой, бородатый, страшный, дикий в гневе и в пьяном похмелье, теперь тоже ее родственник, вконец доконало Ольгу Петровну, а попросту говоря – свалилась Ольга Петровна в постель, заболела. А там и другие прелести начались: новый внук появился, Важен. К этим-то варнакам, Валентину с Иваном, никак не могла привыкнуть Ольга Петровна, так теперь еще один, Важен, к тому же незаконнорожденный…
Бог ты мой, к такой ли старости готовила себя Ольга Петровна?
К такой ли судьбе предназначала своего единственного сына, когда столько лет берегла и лелеяла его?
О том ли мечтала в жизни?
Все пошло прахом…
И тем не менее, видя, как мучается Гурий, даже вот сейчас, в этот его приезд, Ольга Петровна, давно изболевшись сердцем, продолжала переживать за сына так, будто он оставался прежним, маленьким и беззащитным мальчиком. Обе его семьи, жены, дети, обязательства перед ними ничего для нее не значили, кроме одного: они терзали ее мальчика, и это было для нее главное знание и мучение. Вот почему однажды она сказала сыну (впрочем, она пыталась сказать это не раз, да сын не слушал ее):
– Гуринька, маленький, может, тебе плюнуть на все и остаться жить с твоей мамочкой?
Гурий побледнел как полотно и долго смотрел на мать пристальным горячечным взглядом: может, она просто сумасшедшая? невменяемая? не от мира сего? Если нет, откуда тогда такая юродивость в словах? такая кротость взгляда? такая невинность в улыбке? И из губ его вырвалось жестокое, страшное, убийственное восклицание:
– О Господи!!! – после чего он с немыслимой силой хлопнул дверью и выбежал вон из дома.
Опять он бродил по лесу, метался, как загнанный зверь, на этот раз без альбома и карандашей, к черту все! Душа его изнывала от чувства полного бессилия и проигрыша в жизни; казалось бы, он ни в чем не виноват перед жизнью, во всяком случае, изначально не виноват, и все же судьба его катится вперед так (а может, не вперед она катится, а в пропасть?), что повсюду, как вехи, остаются события, главный смысл которых: виноват в этом! виноват в том! виноват в пятом! виноват в десятом! Везде и всюду и во всем – виноват, виноват. Разве можно жить спокойно и размеренно, работать полноценно и нравственно при этом постоянном, изнуряющем чувстве вины?
Да и вины в чем?! перед кем?! за что?!
Непонятно, непонятно…
А от этой непонятности жить на свете еще трудней, еще невыносимей…
И вдруг он слышит: голоса в лесу; стук топора; вжиканье пилы. Выходит на пригорок – и что же видит? Вон, совсем недалеко, на крохотной делянке, взявшись за ручки пилы, разделывают кряжистую сосну Иван Фомич с Верой; видит даже капельки пота на взопревшем лбу Веры. Раскрасневшаяся, в легком цветастом сарафане, Вера работает весело, азартно, с упоением, а Иван Фомич, спокойный, уверенный, иногда поправляет дочь: «Не дергай, не дергай, плавней держи…» Неподалеку от них тюкают двумя топорами Ванюшка с Валентином; один стоит на одном конце сваленной наземь сосны, другой – на втором. Стоят на ногах крепко, уверенно (видать, обучил этому дед, не иначе), а крепость и уверенность нужна тут потому, что рубят они сучки очень острыми, надежными в деле топорами (сам Гурий, конечно, ни за что не доверил бы топоры сыновьям). Каждый из пацанов, широко расставив ноги, стоит над сосной так, чтобы ствол был между ступнями; шаг за шагом, метр за метром продвигаются они вдоль лежащей на земле сосны и отрубают сучки верными расчетливыми движениями; причем рубят правильно, от комля – к вершине. Важен тоже рядом вертится, но дед следит за ним, иногда покрикивает:
– Эй, пострел, а ну-ка топай к нам, не лезь к братцам под топор!
И как ни хочется Бажену быть рядом с Ванюшкой и Валентином, деда он слушается, да к тому же и в самом деле боится топора. Впрочем, он не в обиде на деда, потому что тот разрешает ему ставить клеймо на полутора-двухметровых бревнах. Разделают сосну Иван Фомич с Верой, сложат бревна в небольшую кучку, а Важен ходит с головешкой от костра и ставит на торцах клеймо. Клеймо такое: с одной стороны – крестик, с другой – галочка. И крестик, и галочка Бажену даются легко, а чтоб еще лучше получалось, он высовывает изо рта язык.
– Эй, парень, язык не проглоти! – кричит ему иной раз дед.
– Не, не проглочу. Вот он! – И Важен, весь чумазый, перепачканный в саже, показывает им длинный розовый язык. Вера, любуясь сыном, ласково улыбается ему, а ребята, оторвавшись от работы, вытирая со лба пот, смеются над ним:
– Эх ты, клоп, посмотри на себя, на чертика похож!
– Сами вы шертики, – пыхтит Важен, продолжая сосредоточенно и серьезно ставить на свежих торцах угольные кресты и галочки.
Ах, как болит в эти минуты душа у Гурия; даже не душа, а именно сердце, так и покалывает, покалывает его мелкими иголками. Почему бы это? Сам не знает. Ощущение такое, что вот она, жизнь, рядом, совсем рядом, идет своим чередом, а ему, Гурию, как бы и нет в этой череде места.
Но почему же нет?
Гурий выходит из своего укрытия (но разве он прятался? нет! просто они, занятые каждый своим делом, долго не замечали его) и, петляя между соснами и березами, вдруг появляется на делянке, как по волшебству. Первым его замечает Важен и со всех ног бросается отцу навстречу; Гурий подхватывает его на руки, Важен жмется к отцу, обнимает его крепко-крепко обеими ручонками и перемазывает ему щеки и нос, и Вера, завидев их обоих, таких чумазых и смешных, начинает весело хохотать:
– Господи Боже мой, истинные чертенята! Посмотрите на них!
Смеются над ними и Ванюшка с Валентином, один только Иван Фомич смотрит на Гурия настороженно-недоверчивым взглядом: этот, мол, откуда еще взялся здесь?!
– Папа, – подходит к нему Валентин, – ты сучки умеешь рубить?
– Ага, умеешь? – спрашивает и Ванюшка.
И спрашивают горделиво: мол, мы вот умеем, а ты?
– Да вроде рубил в детстве, – отвечает Гурий.
Опустив на землю Баженчика, Гурий подходит к густоветвистой сосне, берется за вострый топорик и, широко расставив ноги меж кряжистым стволом, начинает рубить толстый сук. С непривычки ничего не получается: тюк да тюк, а тонко-золотистая кора скользит под лезвием топора, никак не дается сучок.
– Да ты не так, – говорит Ванюшка. – Угол держи наклонный. Вот так! – И он показывает другим топором, как именно надо делать.
– Ага, понял, – с азартом подхватывает его слова Гурий и начинает рубить несколько иначе; и теперь, кажется, получается: сук отваливается на землю, а по вискам Гурия текут обильные дорожки пота.
– Ладно, чего встала? – неожиданно резко говорит Иван Фомич Вере. – Держись за пилу, поехали!
– Может, мне с вами попробовать? – вдруг предлагает Гурий Ивану Фомичу, оторвавшись от топора. – Все же силешки побольше будет?
– Силешки-то? – прищуривается насмешливо Иван Фомич. – Может, и побольше. Да с Верой оно сподручней… – Нет, никак не хочет Иван Фомич идти навстречу «зятю».
– Ну и ладно, – соглашается Гурий. Странное дело: на душе у него становится легко, даже весело, хотя он чувствует настороженность и недоверчивость Ивана Фомича. Да привыкать, что ли? А вот кровь от работы действительно разогрелась, разыгралась у Гурия, и он, вновь взявшись за топор, лихо и молодецки рубанул по толстому сучку. Эх, да как неудачно!.. Топор скользнул по шелушащейся коре и сыграл по ноге Гурия. Кровь так и брызнула из раны! Гурий удивленно смотрит на ногу, Ванюшка с Валентином от неожиданности побледнели, Важен расплакался – видать, от страха, завидев кровь, а Гурий стоит, кривя губы то ли от боли, то ли от растерянности.
Первой, кажется, пришла в себя Вера, бросилась к Гурию:
– Быстро, быстро, скидывай брюки!
Гурий непослушными руками с трудом снял с себя брюки; враз набухшие от крови, они цепко прилипали к телу. Вера посмотрела сюда, посмотрела туда, крикнула:
– Ванюшка, снимай рубаху! Ну, живо!
Тот сразу все понял, скинул с себя рубашку; Вера распластала ее на узкие полоски – в виде бинта – и начала быстро заматывать Гурию рану. Но кровь шла густо, просачиваясь через тонкую материю.
– Валек! Давай еще твою! – приказала Вера.
И снова распластала рубаху на лоскуты – теперь уже Валентинову, а когда стала бинтовать ногу, почувствовала: кто-то толкает ее в бок.
– Ну, чего? Чего? – раздраженно обернулась Вера. Господи, а это Важен стоит рядом, тоже скинул с себя рубаху и сует матери.
– Ах ты, глупышок! – говорит она. – Спасибо, спасибо, сынок, уже не надо… – и даже времени нет в этот момент улыбнуться, усмехнуться: рубаха у Бажена, как и сам он, напрочь перепачкана в саже и вряд ли может пригодиться.
Когда кровь перестала сочиться, все, конечно, облегченно вздохнули. Вера сидела рядом с Гурием, отходила от нервного напряжения. Подошел Иван Фомич, посмотрел с презрением на Гурия, сплюнул в сторону:
– Р-работничек, язви его!
– Не надо, папа, – попробовала защитить Гурия Вера.
– А, да идите вы! – махнул рукой Иван Фомич и, подхватив пилу, зашагал домой.
Артельная, такая слаженная и веселая, работа была на корню загублена.
Через неделю Гурий уезжал в Москву.
Он уезжал, а семья его оставалась здесь, в Северном. И Ванюшка с Валентином оставались, и Важен, и Вера. Всех вместе Вера привезет в Москву осенью, к началу школьных занятий.
Конечно, у Гурия была формальная причина ехать: он должен был, как всякий преподаватель, явиться в школу заранее, подготовиться вместе с другими педагогами к новому учебному году. Но в том-то и дело, что уезжал он совсем не поэтому. Не мог он больше жить в Северном, где всем было хорошо – и сыновьям, и Вере, – только ему одному жить здесь представлялось невмоготу. Нет, он тоже любил свой родной поселок, вырос в нем, но продолжать жить в подобной сумятице семейных отношений просто-напросто был не в силах.
Не в силах был жить рядом с матерью. Это просто непереносимо.
Не в силах жить и рядом с Иваном Фомичем Салтыковым, который открыто презирал Гурия. Несмотря на то, что Вера родила от Гурия сына и жила с Баженом в доме отца, Иван Фомич не хотел признавать за Гурием никаких прав на свою дочь и на своего внука. Мало ли кто от кого родит, мало ли по каким неведомым тайнам зарождается жизнь, – все это не имеет никакого отношения ко всяким проходимцам и прохвостам, вроде Гурия Божидарова.
Не в силах был Гурий жить и рядом с другими соседями, Натальей и Емельяном Варнаковыми, в доме которых каждое лето, как пчелы в родном улье, поселялись – и поселялись на законном основании – его сыновья Ванюшка и Валентин. И здесь были совсем другие причины, почему он не мог жить рядом с Варнаковыми, прямо противоположные тем, из-за которых он не мог жить рядом с Салтыковыми. Если Иван Фомич знать не знал Гурия и не хотел признавать его за «зятя», то Варнаковы, наоборот, только и мечтали о том, чтобы у Гурия с Ульяной все наладилось, они не питали никакого зла к Гурию, больше того – любили, уважали и боготворили его: уже за одно то уважали и превозносили, что он был далеко не чета поселковым жителям, он был выше, образованней, умней их – рисовал картины, был художником.
Как мог продолжать Гурий безмятежно жить в поселке в такой семейной неразберихе и сумятице?
К тому же он ощущал себя не только семейным банкротом; может быть, в семейных своих делах он в конце концов как-то разберется (и он верил иногда твердо: должен разобраться и разберется обязательно, иначе как жить дальше?), а вот как быть с более сложной и трудной проблемой – его творчеством? Кто он, Гурий Божидаров, художник ли он? Сможет ли в конечном итоге реализовать себя, выразить через художество свою суть, сердце свое и душу? Дано ли ему от Бога?
Вот почему уезжал Гурий Божидаров в Москву; вот отчего бежал и вот к чему стремился.
Вера восприняла его отъезд спокойно; она была молода, хороша собой, смешлива, весела, энергична… она верила в себя, в свою звезду. К тому же она, как никто другой, наверное, понимала и чувствовала Гурия, хотя сам он вряд ли догадывался о полноте и глубине ее чувства к нему, понимания его души. По его представлениям, она была все-таки недалекой женщиной. И по представлениям многих других людей – тоже. Но она любила его, а если любишь – понимаешь и принимаешь в душе любимого все. Все!
Вот она и осталась в Северном, с тремя ребятишками: один свой, Важен, а двое Ульяниных – Ванюшка и Валентин. И ничего – весела была, радостна, кипела энергией. Надо же, счастливая женщина!
Семья Баженовых: отец Виктор Авдеевич, мама Татьяна Андреевна, сестра Элеонора, старший брат Юрий и Георгий – 4 года. 1950 г.
Прощание с детским садом. Гера Баженов – крайний справа. Поселок Северский, Урал, 1953 г.
1-й класс. Баженов – крайний слева во втором ряду. Урал, 1953/54 г.
Старший брат Юрий, сестра Элеонора, Георгий – воспитанник Свердловского суворовского военного училища, 1959 г.
Друзья детства: Виктор Конюхов, Владимир Тельминов, Володя Федюнин
16 лет
Институт иностранных языков, переводческий факультет, группа № 105 (Баженов – крайний слева во втором ряду), г. Горький, 1965 г.
У общежития института. Крайний справа – Баженов. 1965 г.
Первая жена – Любовь Федоровна Баженова (Абрамова). Безвременно ушла из жизни в возрасте 25 лет
Любовь и Георгий Баженовы с дочерью Майей. Урал, 1969 г.
Бабушка и внучка. Майя с бабушкой Верой Михайловной Абрамовой. 1970 г.
Лучшая подруга жены Любы – Татьяна Заболоцкая. Поныне верный друг семьи Баженовых
Индия. Бомбей 1967 г.
Семья друга-переводчика Эдуарда Чехалова: жена Ирина, дочери Тома и Саша
Индия. Баженов – переводчик английского языка
С другом инженером-переводчиком Гари Осокиным и его женой Дитой. Индия, 1967 г.
Индия. В пещерах Эллоры (Баженов – в центре), 1968 г.
Прощание с индийской красавицей Султаной. Штат Махараштра. Индия, 1968 г.
Индия. Пещеры Аджанты и Эллоры. Группа переводчиков. Баженов – второй слева. 1968 г.
Литературный институт. Диплом вручает Владимир Лидин. 1973 г.
Египет. Пирамида Джосера. Баженов – переводчик английского языка. 1974 г.
Африка, Египет. Ливийская пустыня. Май 1974 г.
Жена переводчика Леонида Горбика – Алла, директор фирмы «Агат-МедФарм». Неустанная хранительница очага – братства выпускников Горьковского института иностранных языков
С осетинским писателем Гастаном Агнаевым
Киев. С писателем Иваном Евсеенко
Группа писателей на Севере во главе с Сергеем Залыгиным. Сентябрь 1981 г.
С женой Людмилой в гостях у писателя Николы Радева и его жены Райны. Никола Радев – в центре. Болгария, 1981 г.
С поэтом Виктором Макукиным, его женой Тамарой и их друзьями. Брянщина, июнь 1980 г.
В редакции местной газеты «Северский рабочий». Редактор Сомов В. А. и корреспонденты Евгений и Алексей Кожевниковы. Урал, 1985 г.
С художником Владимиром Смуруженковым и сыном Ваней. 1986 г.
В гостях на Брянщине болгарская писательница и переводчик Венета Георгиева
Дочь Майя, сыновья Валентин, Иван и внук Андрей. Москва. Парк Лианозово. Рядом – Музей художника Константина Васильева.
Жена Людмила Ивановна Баженова (Аникеева), дочь Майя, сыновья Иван и Валентин. Новороссийск, июль 1982 г.
Брянщина. Деревня Подгородняя Слобода.
Сыновья Валентин и Иван. 1985 г.
Валентин с бабушкой Валентиной Ивановной Аникеевой, 1976 г.
Деревня Подгородняя Слобода
Август, 1987 г.
Брянщина. Река Сев. Сын Иван с Евгением Чичериным
Семья жены Татьяны. Киргизия, 1990 г.
Тётя жены Татьяны – Наталья Федоровна Михайлова
Зять Эдуард Моргун с сыном Михаилом. 1984 г.
Сестра Элеонора со своим мужем Эдуардом Моргуном. Сибирь, Тюмень
Тётя жены Татьяны – Наталья Федоровна Михайлова
С женой Татьяной и сыном Баженом. Киргизия, Фрунзе. 1990 г.
Сын Бажен на рыбалке. Река Сев. Лето 1990 г.
С Дочерью Майей и внуками Андреем и Любой
Деревня Гидеево на Владимирщине. С сыном Баженом и зятем Николаем Романовым
Сын Бажен с бабушкой Евдокией Григорьевной Лёвиной
С сыновьями Валентином и Иваном
Центральный дом литераторов.
С женой Татьяной и поэтом Тимуром Зульфикаровым
Переделкино.
С писателем Борисом Екимовым
Подруга Жены Ольга Герасёва
Подруга жены Ольга Залипаева
Подруга жены Нина Тремасова
Аня в гостях у художника
С Надеждой… 1992 г.
Музы художника
Музы художника
Жена Татьяна
Муза художника