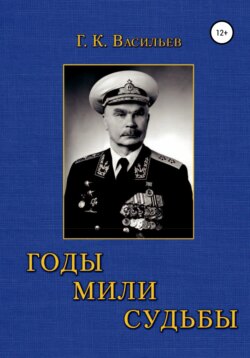Читать книгу Годы. Мили. Судьбы - Георгий Константинович Васильев - Страница 5
Годы. Мили. Судьбы.
Начало жизненного пути
Оглавление23 апреля (15 по старому стилю) 1916 года в Малой Дубровке я появился на свет.
Сохранился документ.
«Выпись из метрической книги. Часть первая. О родившихся за 1916 год. Выданная причтом Вознесенской церкви Валдайского уезда, Новгородской епархии
за № 792.
– месяц и день рождения – апрель 15 дня;
– имена родившегося – Георгий (в честь великомученика 23 апреля);
– звание, имя, отчество и фамилия родителей, какого вероисповедания – Валдайского уезда, Дубровской волости, деревни Малая Дубровка, крестьянин Константин Васильев и жена его Ирина Меркурьева, оба православные;
– звание, имя, отчество и фамилия восприемников – той же волости, деревни Балакирево, Игнат Осипов и из Малой Дубровки дочь Матрона Константинова;
Совершил таинство крещения священник Иоанн Троицкий с диаконом псаломщиком Александром Вознесенским.
Подписали: Новгородской епархии, Валдайского уезда, Дубровской волости, Вознесен-ской церкви священник И. Троицкий, диакон А. Вознесенский».
К выписи приложены: мастичная печать с изображением собора и приклеены две гербовых марки по 50 копеек каждая.
Большинство российских деревенских семей с давних пор были многодетными. Рожать детей считалось нормальной потребностью здоровых женщин, появление ребенка было рядовым явлением. Средств, регулирующих рождаемость, не знали.
Выпись из метрической книги о рождении Георгия Васильева
Рождение детей не приносило родителям большой радости, а их потеря – большого горя. Эти события воспринимались как «Бог дал, Бог и взял».
В
нашей семье было девять детей, я появился на свет восьмым. Пятеро мальчиков: Игнатий, Иван, Михаил, Павел и я, четыре девочки: Матрена, Прасковья, Евдокия и Александра.
Родители не испытывали неудобства от многочисленного семейства. Главной заботой было накормить, одеть и обуть всех нас, пока не станем самостоятельными. Они воспитывали первых двух-трех ребят, потом старшим поручали нянчить, заботиться и воспитывать младших. Жили мы в деревянном доме с четырьмя окнами. В северной стене была прорублена входная дверь. Перегородок в доме не было. В одном углу стояла глинобитная печь размером 2 ×3 метра. Раньше в русских деревнях возводили глинобитные печи, целиком вылепленные из густой глины, из такой же гончары делали керамическую посуду. Напротив печи стоял стол, вдоль стен лавки из толстых струганых досок и две-три скамьи.
С другой стороны двери находилась кровать родителей на деревянных столбиках. В переднем красном углу висели пять икон с лампадкой, которую зажигали по праздникам.
Дети спали на полу на холщовых матрасах, набитых соломой. Периодически, а перед праздниками обязательно, матрасы стирали, солому в них меняли. Под голову клали подушку, набитую сеном, или свернутую одежонку. Укрывались мы сшитыми из лоскутов одеялами или дерюгой – сотканными из тряпок ковриками. Дорожки (узкие тряпичные коврики), изготовленные таким же способом, можно и сейчас купить на деревенских рынках. Днем наши постели укладывали на родительскую кровать, они возвышались почти до потолка. Летом спали обычно на чердаке, в чулане или на сеновале, где было удобнее, прохладнее, меньше мух и комаров. Частью дома были сени – неотапливаемое холодное помещение с чуланом для хранения нужных в хозяйстве вещей. Сени примыкали к стене дома и имели ширину около четырех метров. К сеням под одной крышей с домом был пристроен «двор» – помещение для скота, а также туалет – площадка над вырытой в земле ямой с жердочкой, чтобы не упасть в нее. Дом и «двор» были покрыты соломой. На краю деревни, в одном месте, поодаль от огня, семьи строили амбары для хранения зерна. Там же были гумна, где обмолачивали хлеб, и сараи для хранения сена – «пуни».
Баня по-черному
На берегу озера у каждой семьи была своя баня. В субботу и перед праздниками бани топили по-черному. Баня по-черному – деревянный сруб с высоким порогом, низким потолком и плотно закрывающейся дверью, чтобы не выходил жар. Внутри небольшая печь без дымохода, обложенная крупными камнями. Над печью в стене оконце для проветривания после протопки. Вдоль стен полоки (скамейки) для парящихся. Под порогом маленькое оконце для стока воды и подсветки. Когда топят баню по-черному, огонь нагревает до высокой температуры камни, уложенные сверху топки.
Горячие камни являются источником тепла после завершения топки печи. На них плескали воду и таким образом поддавали пар. Баня приобретала особый дух за счет дыма и деревянных конструкций сруба. Копоть, оседающая на стенах, полу и потолке, делала их стерильными. При этом погибали вредные грибки и бактерии. После того, как прогорала печка, стены потолок и пол обмывали горячей водой, протирая их старым веником. Закрывали окна, двери и парились. Холодную воду брали за порогом в озере. Напарившись, из бани прыгали в озеро. И снова в баню мыться. В банях ставили деревянные кадки для холодной и горячей воды. Воду в кадках нагревали раскаленными в печи камнями. Их бросали в кадки с водой перед помывкой. Русские женщины не случайно рожали в бане – самом теплом, чистом и удобном для этих целей помещении.
Зимой и летом в избе ежедневно топили печь дровами. Заготавливали их зимой на два года вперед, чтобы хорошо просохли. Лучшими считались березовые и сосновые дрова, еловые и ольховые похуже. Один раз в неделю в печи пекли хлеб, по праздникам пироги с рыбой, морковью и различной крупой, ватрушки с картошкой и творогом, которые на местном наречии назывались «кокорки». На печи зимой сушили обувь и рукавицы (дянки), отогревали закоченевшие руки и ноги. Согревшись, часто засыпали, подложив под голову валенок. Печь была источником тепла и лекарем. Разболелся живот или поясница, начнут ныть ноги или руки – ложись больным местом на горячую лежанку печи. Всегда становилось легче, и боль проходила. В памяти остались события 1922 года. Наши деревни взбудоражила новость, передаваемая из уст в уста: «Продразверстка отменена!»
Радио и телевидения еще не существовало. Газеты приходили только в волостной совет – районную администрацию. Его создали для изъятия сельскохозяйственной продукции у крестьян и обеспечения хлебом и продуктами рабочих и жителей городов. Все излишки хлеба, принадлежавшие крестьянам, принудительно и безжалостно отбирали и вывозили из деревень. Понятие «излишки» было неопределенным и толковалось каждой стороной по-своему. То, что представители власти считали излишками, для крестьянина было семейными запасами, а при изъятии – неоправданной потерей. Сила была на стороне власти. Кроме милиционеров в Красной даче находился небольшой конный отряд красноармейцев. Они-то и занимались сбором так называемых излишков. Мужику оставалось хитрить, обманывать, прятать и утаивать все, что удавалось. Позже, вместо проразверстки ввели продналог. Размеры продналога были значительно меньше. Они определялись ВИКом (волостным исполнительным комитетом) в зависимости от размеров земельного надела и состояния дел в крестьянском хозяйстве. Исполнительный комитет взаимодействовал с местными комитетами бедноты.
В это же время повсюду начали появляться частные торговцы, их называли нэпманами (представители Новой экономической политики страны). Они открывали магазины и частные мастерские. Стали оживать ремесла, в продаже появился широкий ассортимент товаров и продовольствия. На Березайке, на улице Революции, коренастый сорокалетний мужик, купец Романов открыл частную торговую лавку. В этом помещении до сих пор находится промтоварный магазин Коопторга (кооперативной торговли). На Почтовой улице Вася Кабатчик (видимо, это не фамилия, а прозвище) открыл торговлю. Он продавал продовольствие, промышленные и другие ходовые товары – от керосина до соленых судаков. На Школьной улице другой Романов торговал колбасой, которую сам изготавливал и продавал по 30 копеек за фунт (410 граммов). На улице Октябрьской открылся железнодорожный кооператив, там сейчас находится государственный продмаг. Мой отец был членом кооператива и имел «Заборную книжку». Время от времени покупал там белую муку и сахар. До НЭПа свободная торговля запрещалась, но широко использовался обмен продовольствия на одежду, обувь и другие городские товары. Деньги цены не имели. Миллионы рублей, заработанные на железной дороге, лежали у отца в сундуке. На них ничего нельзя было купить. Реальная стоимость 100 тысяч совзнаков (новых советских денег, знаков) в 1921 году равнялась стоимости одной дореволюционной копейки. В обращении ходили царские кредитные билеты, пятаковки, керенки, сов-знаки, многочисленные суррогаты и местные деньги. С 1 января 1922 года была введена в обращение твердая валюта – червонец, приравненный к 10-рублевой золотой монете царской чеканки, обеспеченный на 25 % своей стоимости золотом и другими драгоценными металлами. Отец стал получать несколько десятков рублей вместо миллионов.
Зашевелились деревенские мужички. Боялись, как бы не опоздать и не отстать от других. Распахивали пригодные для земледелия участки, расчищали заросшие кустарником сенокосы. Каждый хозяин стремился выбиться в люди. Все, кто мог и хотел, вы-возили из леса бревна и строили дома. Для любого дела нужны были ловкие, крепкие рабочие руки и лошадь. Других приспособлений, инструментов и источников энергии – ав-томобилей, электромоторов, дизелей, бензиновых двигателей – в деревнях не было. Железо было дефицитом и использовалось в производстве изделий, где нельзя без него обойтись: топоры, пилы, лемеха для сохи, подковы для лошадей, косы, серпы. Сельские умельцы изготовляли из дерева: телеги, сани, дровни, сохи, бороны, грабли, ведра, кадки для воды, ковшики, чашки, ложки, лопаты, вилы и многое другое.
В каждом хозяйстве производили все необходимое для существования семьи – пищу, одежду, обувь, орудия труда. Семьи жили по безотходной технологии и замкнутому циклу. Потребляли все, что производили. Продукты питания добывались изнурительным крестьянским трудом на земле, разведением домашнего скота и птицы, сбором лесных ягод и грибов. Основной пищей были хлеб, картошка и молоко. Для производства тканей, одежды и обуви выращивали лен, использовали шерсть и шкуры животных. Кормилицей была корова. Круглый год она обеспечивала семью молоком, сметаной и творогом. Во время постов из сэкономленного молока делали топленое молоко и кислый творог. Овцы давали мясо, шерсть на валенки и одежду. Из овчин (шкура, снятая со взрослых овец и молодняка старше 6 месяцев) шили шубы, теперь их называют дубленки. Большинство деревенских жителей зимой носили шубы. Это было признаком бедности, а не благосостояния. Коз до середины 1930-х годов в наших краях не держали даже бедные семьи. Этих бородатых животных крестьяне не любили за разборчивость в кормах и специфический вкус молока.
Обойтись собственными силами часто не удавалось. Возникала необходимость в услугах тех, кто имел специальное оборудование и обладал профессиональными навыками. Чтобы перемолоть зерно на муку, ехали на мельницу. Подковать лошадь или выковать какое-либо нужное в хозяйстве изделие из железа, шли к кузнецу. Для обработки шкур овец обращались к овчинникову, скатать валенки – к валяльщику, сшить праздничную одежду – к портному. Работу оплачивали натурой – зерном или продуктами. Цены устанавливали по договоренности. Бутылка водки или самогона, как универсальное средство оплаты затраченного труда, хождения не имела.
Для разовой большой работы, на которую сил одной семьи не хватало, – собрать дом, сложить печь, выкопать колодец – приглашались соседи. Сообща за один или два дня выполняли трудоемкую работу. Дело завершалось хорошим застольем. Оплатой были благодарность и обед с водкой.
Общественные работы в интересах всех жителей деревни – строительство мостов, прокладка зимников (зимних дорог по глубокому снегу), ремонт дорог – производили по решению общего собрания с обязательным и равным участием работников от каждого хозяйства. Пригодная для обработки земля и покосы время от времени (раз в 10–15 лет) заново делились между хозяйствами деревни. Власть в жизнь деревни не вмешивалась. Что и где сеять, сроки начала работ, кому, когда и что делать, крестьяне решали сами. Крестьянин больше всех был заинтересован в конечном результате – обеспечении семьи хлебом. Сам планировал, сам работал и сам нес ответственность за результаты труда.
Дом Васильевых в Дубровке
Мы тоже построили себе новый деревянный дом взамен старого, таких же размеров, как предыдущий. Сохранили привычную планировку. В нем долго жила наша семья. Дом до сих пор стоит на улице Кирова, № 69. Там живут незнакомые люди.
В нашем семейном хозяйстве трудились все с детских лет до совершеннолетия. Старшие братья и сестры не имели возможности учиться в школе более четырех лет, только младшая сестра Шура и я закон-чили семилетку. По достижении совершеннолетия дети уходили трудиться на завод. Отец и старший брат Игнат служили на железной дороге в должностях кондукторов товарных поездов. Воздушных тормозных систем тогда не существовало. В поездах было 6–8 вагонов со специальными тормозными площадками, на которых, по одному на каждой, ехали кондукторы. По сигналу машиниста, подаваемому паровозным гудком, они, вращая винтовой привод, тормозили колеса или прекращали торможение своего вагона. Работа неквалифицированная, тяжелая и низкооплачиваемая. Зимой и летом, днем и ночью, в снег и дождь стой на площадке, слушай сигналы машиниста и «крути, Гаврила, мазаное твое рыло».
Работа на железной дороге для отца была вынужденным и оптимальным вариантом. Ни кондукторская зарплата, ни семейное хозяйство не обеспечивали даже минимальных
потребностей многочисленной семьи. Сопровождение поездов на участке Бологое–Окуловка и обратно, поездки к месту службы (смена бригад происходила в Бологом) отнимали много времени.
Семейное хозяйство тянула мать и подрастающие дети. Отец занимался им, когда оставалось свободное от работы на железной дороге время. Обычно ограничивался дачей указаний. Мать вставала раньше всех, часов в пять, растапливала печь, доила двух коров, готовила завтрак, потом будила нас, ребят. Умывались кое-как из глиняного рукомойника с двумя носиками, подвешенного на веревочке к потолку. Мыло мы не употребляли, его просто не было. Полотенце одно на всех. Завтракали одновременно 6–8 человек. Обычно мама ставила на стол чугун (горшок из чугуна для тушения и варки продуктов в русской печи) с вареной картошкой в мундирах (не очищенная от кожуры картошка).
Ели ее иногда с квашеной капустой или солеными огурцами, зачастую просто с солью, с куском черного хлеба и льняным маслом. На обед обычно были щи из зеленого крошева или белой капусты, заправленные молоком, иногда рыбный суп, реже мясной. На второе обычно каша овсяная или перловая, или картошка, жаренная на сметане или сале, реже картофельное пюре, запеченное на сковороде. Ужинали после окончания рабочего дня тем, что оставалось от обеда. Ели из общей глиняной миски деревянными ложками. На праздничные обеды для гостей ставили глубокие тарелки, одна тарелка на двух-трех человек.
мать Георгия Константиновича Ирина Меркурьева,
Летом распорядок дня менялся. Раньше вставали, раньше ложились спать. Завтракали и ужинали основательно, более сытно, а на обед брали в поле кусок хлеба и бутылку молока. В период напряженных летних работ расходовалось много энергии. Силы восполняли за счет созданных зимой запасов – топленого масла, вяленого мяса и кислого творога, который хранили в небольших деревянных кадках. Лучшая и обильная пища была осенью. Хлеб нового урожая к столу давали без ограничений, картошкой был засыпан полный подвал дома, в сенях стояли заготовленные бочки с огурцами, капустой и солеными грибами. С наступлением устойчивой холодной погоды родители резали выросших за лето ягнят и телят. Ежедневно варили щи или суп с мясом. Сначала съедали сердце, легкие, почки и печень. Желудок и кишки животных очищали, отмывали и тоже использовали в пищу. Только потом ели мясо. Для питания летом в период тяжелых работ засаливали и вялили лопатки домашних животных, подвешивая их на чердаке. Почвы в наших местах в основном легкие супесчаные и суглинистые, быстро просыхают весной. Время начала работ сельчане определяли по религиозным праздникам. В день Святого Георгия – 23 апреля – в первый раз выгоняли скот на пастбище. В Петров день – 23 июня – начинали сенокос. Со Спасова дня – 19 августа – приступали к жатве овса, ржи и ячменя. Заканчивали ее к середине сентября. Перед началом жатвы крестьяне срывали несколько соломинок ржи, скручивали их и совали за спину, чтобы спина не болела. Эти соломинки держали дома в течение года за иконами. Считалось, что спина болеть не будет, да и хлеб на следующий год вырастет хорошим. К 1 октября, празднику Покрова Пресвятой Богородицы, все полевые работы заканчивали. Сельчане ориентировались по датам проведения полевых работ на опытных удачливых соседей, тех, кто собирал высокие стабильные урожаи. Семьи наделялись одинаковыми по размерам и качеству участками земли.
Каждому хозяйству доставался кусок, равнозначный соседскому и находившийся на примерно одинаковом расстоянии от деревни. Система земледелия была трехпольной. На одном поле в августе сеяли озимую рожь, которую убирали следующим летом. На втором поле весной сеяли яровые хлеба, ячмень, овес, лен и сажали картошку. Третье поле отдыхало. Его удобряли навозом, пахали, боронили и в августе засевали озимой рожью. Специальных пастбищ не было. Скот пасли на полях и прилегающих к ним луговинах и болотах. Весной пасли на первом поле, после жатвы на озимом, а осенью на яровом. Первым начинали распахивать яровое поле под посев ячменя, овса и посадку картошки. Пахали с помощью деревянной сохи, не углубляясь ниже пахотного слоя и не переворачивая земли. Этот способ вспашки теперь называется прогрессивной безотвальной обработкой. После вспашки кочковатую поверхность выравнивали боронами с деревянными зубьями (боронили).
Самую ответственную операцию – сев – выполняли родители. В сеялку, сплетенную из березовых лык корзину емкостью полтора-два ведра, насыпали зерно. Вешали через плечо на живот с помощью привязанного полотенца или веревки. Сеятель, перекрестившись, взмахом правой руки равномерно разбрасывал зерно по земле. Так, взмах за взмахом, шаг за шагом, и засевалась вся полоса. Чтобы заглубить зерно в почву, после сева поле еще раз боронили.
Сеятель
Помню один яркий счастливый день. Мне было лет семь. В ясный, прохладный вечер мать досевала последнюю полосу. Она что-то пела. А я, завернувшись в освободившийся от овса мешок, лежал на телеге и смотрел в высокое-высокое, бесконечное небо. Там где-то между редкими, освещенными заходящим солнцем облаками звенел жаворонок. Все было так хорошо, легко и просто. Теперь телегу заменил автомобиль. Жаворонка я не слышал уже лет пятнадцать-двадцать. И не было повторения того чудесного вечера.
В середине мая высаживали картошку, сначала на огороде около дома, потом в поле. Работа нетрудная и делалась довольно быстро. После сева наступала «навозница». Владимирский писатель Владимир Солоухин описывал это время, как самое интересное и счастливое. У меня таких впечатлений не осталось. Это была грязная, но необходимая работа. Со скотного двора накопившийся за зиму навоз накладывали вилами на телегу и вывозили в поле на свои полосы, равномерно разбрасывали и закапывали. Эту работу заканчивали к празднику Святой Троицы. Готовились к празднику всей деревней. Делали уборку в домах, мыли полы, стены и окна. Стирали белье и одежду, мылись в бане, парились свежими березовыми вениками. Приносили из леса и прибивали к стенам домов молодые зеленые березки. Деревня свежела, молодела, хорошела и зеленела.
Лучшим временем года для подростков было лето – пора сенокоса. Мальчишки с двенадцати лет косили траву. Сначала мы выкашивали между кустами, по кочкам и другим неудобным местам, чтобы взрослые не тратили на это время и силы. Потом косили наряду со взрослыми. Ширина прокоса у ребят была поуже, когда кто-то оставлял нескошенные травинки, один из взрослых произносил неизменную фразу: «Смотри, не зевай!» Этого замечания было достаточно. Сушка сена и укладка в пучки были обязанностью детей и подростков. Подсушенную на лугах траву в солнечный день привозили в деревню, раскидывали ровным слоем на лужке и несколько раз за день граблями переворачивали. Досушенное сено сгребали и переносили в сарай, укладывали и утрамбовывали ногами, чтобы больше вместилось. Сенная труха забивалась под одежду, колола и щекотала.
С большим удовольствием после работы бежали на берег озера и, вытряхнув одежду, купались в прохладной воде. Часть сенокосов деревни, протяженностью километров пять и шириной около двух, была в пойме реки Березайки между деревнями Угрево и Горнешницы. Весной пойма затапливалась паводковыми водами, местные жители называли это место «ножни». Когда вода спадала, пойма зарастала травой. Около берегов реки образовывались сухие кочковатые участки, а дальше них вода держалась все лето. Чтобы подойти к этим участкам приходилось по колено брести в зыбкой мягкой жиже. Удобными местами были участки берега, свободные от ила, длиной метров подвести, у первого и второго рога (мыса). Скошенную траву сушили на месте и складывали в стога. Сметать стог, чтобы он не протекал, было непросто, требовалось уменье. Обычно взрослые подавали вилами сено, а подростки, стоя на стоге, прижимали его и утрамбовывали. Сено из поймы вывозили зимой, когда «ножни» замерзали.
Были у нас и детские радости. Купались в речке, вытекающей из озера. Названия она не имела и, кажется, до сих пор не имеет. Глубина в основном была по колено, а в ямах достигала двух метров. На мелководье нам иногда удавалось заколоть вилкой зазевавшегося пескаря. После дневной жары, закончив работу, шли купаться на озеро. Озеро мелководное, илистое, заросшее тростником и осокой. Больше половины берегов заболочено.
Жатва
«Бабки»
Уровень воды в нем поддерживался за счет родников и притоков из окрестных болот. В нем водились плотва, окуни, ерши и щуки. В начале тридцатых годов приезжие люди попытались осушить озеро, углубив вытекающую из него речку. На осушенном участке хотели посеять траву. Из проекта ничего не получилось. Инженеры осенью уехали, озеро не высохло, обмелело и превратилось в болото. Теперь нет ни озера, ни луга. Охотники вмешаться и «исправить» природу появились уже тогда.
Вслед за сенокосом наступала жатва, работа тяжелая, но радостная. Женщины надевали, как на праздник, яркие кофточки, повязывали белые косынки на головы, обували лапти, чтобы не повредить ноги. Начинали работу рано, когда высыхала роса, и заканчивали поздно вечером. Целый день, нагнувшись, под палящим солнцем срезали серпом с корня рожь.
Затем ее связывали в снопы диаметром сантиметров тридцать, колосьями в одну сторону. Снопы по девять штук ставили вертикально в так называемые «бабки», колосьями вверх и сверху накрывали десятым. Издалека «бабки» действительно напоминали женщин в широких длинных юбках.
После жатвы дозревшую на полосе рожь свозили на гумно и складывали в круглые скирды, похожие на африканские хижины. Часть ржи обмолачивали на семена для осеннего сева и для питания, остальную оставляли до осени – более свободного времени. После ржи убирали ячмень и овес. Технология такая же, только на гумнах овес и ячмень складывали не в круглые скирды, а стеной метровой толщины и трехметровой высоты, колосьями вовнутрь.
В сентябре после занятий в школе сразу же шли копать картошку. Копали деревянными лопатами, они меньше повреждали клубни. В полдень над полем поднимались столбы дыма от костров, варили ее на обед. За время работы в согнутом состоянии спина изрядно уставала. К вечеру просушенную от влаги картошку ссыпали в мешки и везли домой в подвал (подпол), там она хранилась. Обычно семьи расходовали собранный урожай с таким расчетом, чтобы картофеля хватило до конца мая – середины июня. Тогда проблема питания считалась решенной на целый год. Ежедневно по вечерам на костре за огородами мы варили картошку на ужин для всей семьи. Подростки работали наравне со взрослыми. Никто не освобождался от работы, но и не принуждался делать что-то сверх сил. Чем тяжелее был мешок, тем сильнее было чувство удовлетворения. Это было мальчишеское самоутверждение, мы думали: «И я могу». Осенью, обычно в первой половине дня, молотили хлеб. Для этой цели были построены гумна – длинные деревянные сараи из бревен с широкими воротами и глинобитным полом. Одна треть гумна, отделенная внутренней стеной, обогревалась по ночам и называлась ригой. В ней 12–16 часов сушили снопы хлеба. Высушенные снопы расстилали на полу гумна в два ряда. Три-четыре человека, медленно продвигаясь вдоль ряда снопов, молотили – ударяли в такт цепами по колосьям, выбивая из них зерна. (Цеп – орудие для обмолота, состоит из двух подвижно связанных концами палок. Более длинная, до 2 метров, рукоятка и более короткая, до 0,8 метра, рабочая часть, которой ударяли по злакам.) Выбитое зерно отделяли от соломы и сгребали в кучу – ворох. Затем веяли – отделяли зерна от мякины и плевел. Для этого деревянной лопатой смесь обмолоченного зерна, мякины и мусора бросали против ветра на расстояние 4–5 метров. Мякину относило ветром в сторону, а более тяжелое зерно летело дальше в груду. После веяния зерно везли на мельницу и перемалывали на муку. Мельница находилась на речке между Большой и Малой Дубровками.
.
Мельница
Капусту выращивали на огороде около дома. С первыми морозами ее срезали. Зеленые листья отделяли от белого кочана и сечками рубили в длинных деревянных корытах. Получалось зеленое крошево. Затем рубили белую капусту и заквашивали вместе с крошевом в больших деревянных кадках. Кочерыжки съедали сырыми и в пареном виде, часть их давали скоту. Всем хватало. Капусты заготавливали столько, чтобы хватило семье до лета. В июне на лугах вырастала кислица (дикий щавель), из нее варили зеленые щи. Выручали окрестные леса. Осенью собирали грибы для сушки и соленья, по берегам речки бруснику и чернику, в моховых болотах росло много крупной клюквы. В голодные годы в начале лета сдирали с сосен верхний слой коры. Под ним находился мягкий слой молодой древесины, который мы срезали ножом продольными полосками и ели. Это называлось «глотать сок».
Осенью и зимой женщины занимались обработкой льна. Сначала в период ранней желтой спелости его теребили – вместе с корнями выдергивали из земли, вязали в снопы и сушили в риге. Деревянными колотушками на плахе выбивали (отделяли от стебля) семена. Затем стебли расстилали рядами на скошенных лугах – росяная мочка, или расстил. Иногда лен замачивали в водоемах. Под воздействием росяной влаги и микроорганизмов разрушалось клейкое вещество внутри стебля и получалась треста. Через две недели собирали и сушили. Потом на специальном приспособлении – мялке – мяли, волокно отделялось от одеревеневших частей стебля (костры). На следующем этапе лен трепали. Ударами трепала, деревянного инструмента, похожего на меч, выбивали остатки костры. После мятья и трепанья оставались отходы из костры и обрывков волокна – отрепья. Отрепья (паклю) использовали для свивания жгутов, которыми перевязывали лен, для витья грубых веревок и для конопачения бревенчатых строений. На завершающем этапе щетинными или металлическими щетками лен чесали – отделяли короткие волокна, кудели, от длинных, которые называются кужели. Кудели шли на второстепенные поделки, не требующие большой прочности. Из кужелей пряли нити, а из нитей ткали холст. Деревенские мастерицы умели ткать холст белый, в полоску, клетку и елочкой. Для окраски нитей использовали отвары коры и листьев разных деревьев и лесных растений. Отбеливали холст, расстилая весной по снежному насту. Верхнюю одежду шили из ткани, основой которой были льняные нити.
Быт русского дома, глинобитная печь и приспособления для обработки льна
Зимой большинство сельчан носили валенки – универсальную деревенскую обувь, пригодную при погоде с температурой ниже нуля градусов. Ночью их сушили на печке или в печке. Валенки от высокой температуры не коробились. Чем больше они сохли, тем легче и мягче становились. Протертые задники зашивали кожей, а подошвы голенищами старых валенок. Летом рабочей обувью были ленты. Их умел плести любой деревенский мужик из березовых или ракитовых лык – узких полосок коры. Ленты не предохраняли от воды и не задерживали ее. Они немного похожи на современные босоножки. Дети ходили босыми с мая по сентябрь, за исключением случаев, когда нужно было идти в лес за грибами или на болото за ягодами. Взрослые носили сапоги. Летом надевали их только по праздникам, а весной и осенью – в мокрую, холодную погоду. Сапоги шили местные сапожники из выделанных телячьих кож. Смазывали их дегтем – черной масляной жидкостью, применявшейся для смазки осей тележных колес. Деготь изготовляли методом сухой перегонки корней деревьев в специальных печах, вроде кухонных духовок, имевших размеры 2 ×2 ×3 метра. Деготь собирали в бочки для продажи, образовавшийся древесный уголь использовали в кузницах. Березовый деготь применяли как антисептическое, противовоспалительное средство. Широкое распространение он получил во время Великой Отечественной войны в качестве основы мази Вишневского. Теперь эта мазь применяется редко, ее заменили антибиотики.
Кроме участия в полевых работах обязанностью мальчишек был уход за лошадьми. Летом нужно было найти лошадь в поле, привести домой, днем накормить, а вечером снова отвести на пастбище. С окончанием полевых работ мужчины уходили из деревни на заработки. В окрестных лесах заготавливали дрова для стекольного завода и Ленинграда. Работа тяжелая. Осенью приходилось валить деревья, стоя в воде, зимой по колено в снегу. Два человека ручной пилой спиливали дерево, затем топорами очищали от сучьев. Ствол разрезали на части метровой длины, сносили в одно место и складывали в штабели. Оплата была сдельной по низким расценкам, но другой работы не было. Зимой дрова по болотам и озерам вывозили на станцию. Там, где не было больших подъемов, прокладывали дороги – зимники, по ним тянулись обозы с дровами. Для Ленинграда дрова загружали в вагоны, для стеклозавода укладывали на склады. Вывозили их из леса крестьяне дальних деревень. Они приезжали со своим сеном и овсом для лошадей и запасами продуктов для себя. Жили по две-три недели в малочисленных семьях, где можно было спать на полу, а на печке сушить валенки и одежду.
Кибкало (Васильева) Анна Георгиевна в музее народного быта.
2018 г. Фото А. А. Кибкало
Во второй половине зимы начиналась подготовка к лету. Чинили телеги, сохи, бороны, делали новые грабли. Из леса привозили, пилили, кололи дрова для дома и плели корзины. Для этого заготавливали лучины. Выбирали в лесу молодую, стройную, тонкослойную сосну, обычно на болотах. Из ствола выкалывали бруски шириной 8–10 см, распаривали в печке, а затем отдирали от них слой за слоем лучины. Из лучин плели корзины разных размеров. Большие, емкостью до кубометра, предназначались для переноски сена. Средние – для сбора грибов, ягод и картошки. Кузова – наспинные корзины с закрытым верхом – использовали для переноски всяких вещей и грибов.
Носить в дом дрова и воду было женской обязанностью. Зимой после возвращения из школы дети выполняли работы по дому – то сена принести корзины три-четыре, то снег расчистить, лед обколоть. А потом бегали, играли и развлекались. Как только замерзало озеро, катались на самодельных коньках. Брали трехгранный кусок дерева, для лучшего скольжения снизу к нему крепили кусок проволоки. Раскаленной кочергой в бруске прожигали отверстия для веревки, которой прикручивали конек к ваенку. И стрелой, на одной ноге, неслись по ледяному озеру.
Случалось, дети проваливались под лед, но это никого не пугало и не останавливало. Несколько березайских мальчишек катались на настоящих коньках-снегурочках, прикрепленных к кожаным ботинкам. Нам такие вещи были недоступны.
Самодельные коньки и санки
Выпадал снег – на лыжах, санках и «быках» катались с довольно высокой, по нашим понятиям, Желтой горы за крайней избой деревни. Теперь горы нет. Ее срыли и на самосвалах увезли на строительство дороги. Санки мастерили сами из дерева без единого гвоздя или какой-либо железки.
Делали санки как простые, так и финские с длинными полозьями и ручкой для толкания сзади. Также мастерили «быки» – на длинную доску крепили скамеечку, чтобы можно было сидеть. Для лучшего скольжения на нижнюю поверхность доски намораживали лед. Изготавливали лыжи. Выкалывали пластины из ствола березы, обстругивали их рубанком, загибали носки – и лыжа готова. Нечем было сделать продольные желоба, обходились без них. Предметом зависти были лыжи фабричного производства. Ими могли похвастаться только Вера Романова, купеческая дочь, и сын дьякона Вознесенского. Играли в прятки и войну. В снежных сугробах рыли окопы, пещеры, строили крепости. Нашим оружием были снежки и палки. Позднее появились игрушечные пистолеты с бумажными пистонами и стрелявшие пробками пугачи. Как только сходил снег, «гоняли попа», играли в лапту, рюхи (подобие городков) и другие игры, их названия уже забыты. В возрасте семи лет меня отправили учиться в начальную школу, она располагалась недалеко от церкви. Рядом находился дом учителей. В школе учились дети из шести деревень Дубровской волости.
В нашем классе было восемнадцать учеников. Четверо из Малой Дубровки: Шурка Лясников, Шурка Ефимов, Николай Боровский и я; четверо из Большой Дубровки, остальные из окрестных деревень. Девочек было четыре, в том числе одна из Березайки – Верочка Романова, дочь купца. В березайские школы – заводскую и железнодорожную – ее не приняли из-за принадлежности к классу эксплуататоров. Первые два года я учился плохо, не понимал материала. Преподавал Алексей Петрович Белозаров, высокий, тощий, сердитый мужчина по прозвищу «журов» (журавль). Он не вызывал симпатий у учениов, и мы, видимо, не представляли для него интереса. Иногда для поддержания порядка в классе он пускал в ход линейку. Время от времени учитель выдавал нам по две-три тетрадки в обмен на несколько фунтов ржи (фунт – 410 граммов). На учебный год полагалась одна ручка с пером № 86 и немного фиолетовых чернил. Перья у учеников ценились высоко и были предметом купли и обмена. Мои успехи в школе мало интересовали родителей, обремененных житейскими заботами. Реальный контроль с их стороны отсутствовал. Отец умел читать и писать, а мать была неграмотной. Действовало данное отцом напутствие: «Учись, а то в пастухи пойдешь».
Со второго класса увлекся чтением книг. Читал все, что попадало под руку. В основном это были исторические очерки, изданные Сытиным в конце XIX века для народного чтения. Помню до сих пор книги: «Брат на брата» о междоусобных войнах русских князей, о Дмитрии Донском и Мамаевом побоище, о святом Евстафии Плакиде – римском военачальнике, принявшем христианское вероисповедание, за это его отдали на растерзание львам. Книги мне давал Шурка Лясников, они валялись на чердаке их дома.
В третьем классе нашим учителем стал Алексей Федорович Большаков, только что окончивший педагогическое училище. Сразу разрушилась стена отчуждения между учителем и учениками, постепенно пробудился интерес к учебе, знаниям и книгам. Кроме уроков в классе он знакомил нас с окружающим миром. Организовывал экскурсии на стекольный завод, походы в лес, рядом с котором мы жили и росли, но мало что о нем знали. Спланировал поездку на только что построенную гидроэлектростанцию, но она не состоялась – не было денег на билеты. Жил учитель один в доме рядом со школой. В зимние вечера иногда приглашал учеников к себе. При свете керосиновой лампы читал нам повести Гоголя, стихи Некрасова, позволял рассматривать и читать все, что находилось в его комнате. Был он человеком большого ума и трудной судьбы. Я нашел его через сорок лет, в 1965 году, в Москве. Он рассказал, что после работы в нашей школе окончил институт. Преподавал. В 1936 году его арестовали, как английского шпиона. Отбыл заключение, был реабилитирован. С началом войны призвали в армию и отправили в строительный батальон рядовым, как не заслуживающего доверия. После войны преподавал, заведовал кафедрой в институте почв, защитил докторскую диссертацию. До войны женился на донской казачке, сохранившей ему верность на всю жизнь. Много в моей жизни было учителей, преподавателей, воспитателей, командиров и начальников, но ни один из них не повлиял на мою судьбу так, как Алексей Федорович Большаков.
В начале четвертого года обучения Алексей Федорович заболел и уехал из деревни. Наш класс доучивали горбатая Ольга Петровна, худенькая, просвечивающаяся насквозь Лиза (Еркина Елизавета Яковлевна скончалась в 1989 году) и Н. Николаев. Под их руководством мы завершили начальное образование – закончили «школу первой ступени».
Школа в Дубровке
В четвертом классе нас всех записали в пионеры. Родители мне сказали, что после смерти придется кипеть в смоле в аду, а когда сменится власть, нас перевешают на красных галстуках. На этом их противодействие закончилось. Не было у нас походов в белых рубашках с красными галстуками, со знаменами, горнами и барабанами. Не уезжали на каникулы в пионерские лагеря, не проводили сборы у костров. Мы, пионеры, как все ребята, бегали босиком по деревенской улице в холщовых рубашках и портках, работали в поле с утра до вечера. Были у нас костры, но не для песен, а для того чтобы сварить к ужину картошку. Взрослые жили по старым, давно заведенным порядкам. Большое влияние на деревенскую жизнь имела церковь, особенно священник Иван Троицкий. У него был твердый характер. Он ревностно исполнял обязанности священника и строго соблюдал правила церковной православной жизни. Хорошо знал и держал в повиновении жителей своего прихода, возвращая под власть церкви тех, кто уклонялся от церковных обрядов. По праздникам проводил богослужения. Мать и отец старались их посещать. Раз в год исповедовались в совершенных грехах. Дома утром читали молитвы: «Отче наш, иже еси на небеси…», «Богородица дева, радуйся…». Верили в существование Бога, черта и нечистой силы, но особенно боялись после смерти попасть в ад.
Праздновали Рождество, Масленицу, Пасху, Вознесение, Петров день и Покров. Гостей приглашали на Масленицу, Пасху и Петров день. Перед праздником тайно гнали самогон, зимой дома по ночам за плотно занавешенными окнами. Летом приспосабливались гнать самогон за огородами, в болоте на релке (сухое место среди болота). Власти боролись с самогоноварением, но безуспешно. Изготовление домашнего пива не запрещали. Варили пиво в бане. Специального оборудования, кроме больших бочек, не требовалось. Технология была хорошо известна. Сырьем служили солод – пророщенное высушенное и крупноразмолотое зерно ржи, мука и хмель. Несколько раз мне доводилось этим заниматься под руководством соседа Феофана Евдокимова.
Гостей приглашали из других деревень. Из Коры-нова приезжали родственники матери. Она была родом из этой деревни. Родственники по отцовской линии из Балакирева. После возвращения из церкви гости усаживались за стол, покрытый клеенкой с изображением памятника гражданину Минину и князю Пожарскому. На стол ставили четыре–шесть глубоких тарелок, по одной на два-три человека, деревянные ложки, хлеб и соль. Самогон пили чайными стаканами. Угощать из граненых стаканов считалось признаком скупости. Обычно подавали два первых блюда – суп и щи, два вторых и на третье клюквенный кисель. Потом пили пиво домашнего приготовления или чай из самовара и вели долгие разговоры.
Самовар
Молодежь выходила на улицу и собиралась вокруг гармониста. Плясали, взяв друг друга под ручку. Ходили в ряд по улицам по 6–8 человек, распевая под гармошку частушки. Девки пели про любовь, неверность и измены своих «миленьких» и «золотеньких», не называя их по именам. Рядом идущие парни орали во все горло частушки такого нецензурного содержания, что одной из них было бы теперь достаточно, чтобы получить 15 суток ареста за сквернословие. Девушек это не смущало. До сих пор помню слова деревенского фольклора, но вслух произнести уже не могу. Между подвыпившими парнями случались драки. Редко пускались в ход ножи, обрезы и револьверы. После Гражданской войны оружия в деревне было много. В одной из драк убили парня из Большой Дубровки – Ваську Пыркина. Убийцу не нашли, пулю не обнаружили и дело замяли. Подозревали в убийстве заведующего избой-читальней из деревни Балакирево.
Красивым и торжественным праздником была Пасха. В этот день заканчивался семинедельный Великий пост, когда запрещалось употреблять в пищу мясо, молоко, масло, сметану, яйца и птицу. Можно было есть рыбу и продукты растительного происхождения. Во время поста каждый православный был обязан исповедаться – рассказать священнику о совершенных грехах и поступках, не соответствующих христианскому образу жизни. В зависимости от тяжести греха, священник или прощал от имени Бога, произнося слова: «Бог простит», или на грешника налагал взыскание. Родители посылали нас, малолеток, в церковь на исповедь. С детьми схема упрощалась. Детей собирали группой, а не по одному, как у взрослых. Священник задавал вопросы: «Не воровал ли? Не богохульствовал ли? Почитаешь ли родителей?» и т. д. Мы были обязаны отвечать: «Грешен, батюшка!» – независимо от того, были мы грешны или нет. Самокритика, как форма осуждения аморальных поступков, использовалась с давнего времени, только слова были другие. Раньше говорили грешен, а теперь – виноват, исправлюсь, признаю некоторые ошибки.
В конце недели принимали причастие. По очереди подходили к священнику, он вливал в рот чайную ложку кагора (красного крепленого вина) и совал кусочек пресной лепешки. Вино символизировало кровь, лепешка тело Христа. В четверг, пятницу и субботу перед Пасхой проходили ежедневные богослужения, а в ночь с субботы на воскресенье служба шла беспрерывно. В полночь верующие во главе со священником Троицким и дьяконом Вознесенским под звон колоколов с иконами и горящими свечами в руках выходили во двор и совершали крестный ход вокруг церкви. Шествие сопровождалось пением, пуском ракет и выстрелом из пушки. Да, из пушки! На территории церкви хранился ствол орудия без лафета времен Крымской войны. Какой-то бывший артиллерист засыпал в него чайную чашку черного пороха, забивал пыж и упирал казенной частью в дерево. Прячась за деревом, он факелом поджигал заряд, и пушка стреляла. Ради этого со-бытия мы не спали до полуночи. Утром поздравляли друг друга с праздником и разговлялись. Ели до отвала крашеные яйца, мясную пищу, масло и все, что было запретным в течение сорока девяти дней. Праздник продолжался три дня. Церковные колокола звонили всю неделю. Желающим разрешали подниматься на колокольню и звонить, сколько хочешь и как хочешь.
Самым веселым праздником было Вознесение – праздник нашего прихода, так как церковь называлась Вознесенской. В деревню привозили карусель. Она крутилась с утра до вечера под музыку шарманки. Верхом на деревянных лошадках за 5 копеек катались дети и взрослые. Продавали мороженое в виде лепешки, зажатой между двумя вафлями, по 5, 7 и 10 копеек за порцию. Родители покупали семечки подсолнуха, которые честно делили между нами. На каждого приходилось по два-три стакана. Приезжали гости. Отмечали так же, как и другие праздники, – обед, гулянье, пляски и песни под гармонь.
Осенними и зимними вечерами молодежь собиралась поочередно у каждой девушки на беседы (посиделки). Как правило, матери устанавливали дочерям норму – напрясть за вечер два початка (пряжа на веретене, сколько вместится), а остальное время пляши, пой, играй в жмурки. Пряли лен. Плясали «Кадриль», «Барыню» под гармошку или балалайку. Пели песни о пряхе, которая сидит в низенькой светелке, «Златые горы» и обычные частушки на вечную тему про любовь. К девушкам приходили парни даже из соседних деревень, иногда издалека, километров за 7 или 10. Знакомились, влюблялись. Парни из-за девушек иногда ссорились и дрались.
Девушки собирались группами по возрасту. Младших к старшим и старших к младшим не допускали. К полуночи расходились по домам. Парни провожали девушек, по дороге досказывая то, о чем при народе говорить было неудобно. В отношениях между девушками и парнями была относительная свобода, но до известного предела. Грань переступали редко. Внебрачных детей в окрестных деревнях было мало, один-два. От соблазна удерживало сознание греха, опасение за репутацию, боязнь родительского гнева. С дурной славой бесполезно было рассчитывать на замужество. Молва о поведении каждого человека распространялась быстро. Как говорится: «Хорошая слава лежит, а плохая бежит». Молодые ребята всячески избегали ситуаций, при которых можно против желания попасть в отцы. Они знали о законе, по которому на воспитание внебрачных детей судом присуждались алименты. До 18-летия ребенка вычитали одну треть зарплаты, а в деревне треть причитающейся части урожая. Для решения суда было достаточно показаний двух свидетелей. А тем, кто оказывался в подобном положении, оставалось петь на мотив популярной песни «Кирпичики»:
Я хочу рассказать или спеть, как приходится горемычному из зарплаты выписывать треть.
Первым парнем на деревне был гармонист. Где гармонист – там и молодежь. Встречались среди них талантливые музыканты-самоучки, но больше было посредственностей, пиликавших всю жизнь две-три мелодии. Под гармонь пели, плясали, отмечали праздники, провожали в солдаты, справляли свадьбы.
Гармонь, гармонь!
Родимая сторонка!
Поэзия российских деревень!
Балалаечники не пользовались такой широкой популярностью, но и они были нужны. К ним относились бережно, лучше балалайка, чем ничего.
Из революционных праздников рабочие завода торжественно отмечали день 1 Мая – День международной солидарности трудящихся. На площади у заводской школы сколачивали из досок трибуну, собирались люди с красными флагами. В четвертом классе нас водили на митинг. Школьники несли плакат из красной материи с нарисованным бронзовой краской восходящим солнцем и надписью: «И пусть под знаменем науки союз наш крепнет и растет!»
Одноногий Колька Малышев в кожаной куртке с наганом на ремне произносил речь, призывал до конца уничтожить «гидру контрреволюции», дать по морде лорду Керзону и всем дружно бороться за победу мировой революции.
Зимой 1924 года умер Ленин. В классе установили его портрет в черной рамке с надписью «Ленин – вождь мировой революции». Учеников отпустили домой раньше, до окончания занятий. Мы на улице, как обычно, не задерживались, бегом домой в тепло на печь. В вечерних сумерках, в морозном воздухе долго слышались гудки завода и остановивших движение поездов.
Во второй половине 1920-х годов деревенские жители мало знали о событиях, происходивших за пределами своей волости. Сведения из внешнего мира приносили люди, где-то побывавшие. Газету «Беднота» и журнал «Лапоть» получал только председатель сельсовета В. Осипов. С 1929 года стал выписывать газету мой старший брат Игнат.
Журнал «Лапоть»
В 1927 году коммунист Санька Алексеев установил около дома два высоких столба с протянутой между ними медной проволокой – антенной. В доме у него стоял небольшой ящичек с двумя наушниками, в которых слышалась человеческая речь. Несколько раз нас, мальчишек, пустили послушать передачу.
«Говорит Москва! Слушайте радиостанцию имени Коминтерна!» – раздавалось в наушниках. Это было первое радио в наших краях. До сих пор стоит в Москве на Шаболовке башня инженера Шухова, первая длинноволновая широковещательная радиостанция. Через несколько лет по неизвестной причине Санька застрелился, возможно, из-за принадлежности к троцкистам. В конце двадцатых годов появилось кино. Его привозили на телеге, запряженной хилой лошадкой. Сеансы проводили в школе, за просмотр зрители платили по 10 копеек. Электричество для аппаратуры вырабатывала динамо-машина, которую поочередно крутили два человека. За это они смотрели кино бесплатно. По инициативе и под руководством Афони Горбатого (А. Никандрова) несколько парней организвали постановку пьес. Для спектаклей сначала приспособили конюшню на Красной даче, потом вырубили одну стену в Белой даче и пристроили к ней уродливое помещение на столбах – сцену. Зрительным залом стала большая комната, раньше служившая гостиной. Через некоторое время организаторы охладели к театральному искусству, а дачу местные жители растащили. Кому-то понравилась мраморная ступень крыльца, кому-то планки паркета, кому-то керамические трубы из мелиоративной системы. Книги из Белой дачи вынесли еще раньше не из-за их содержания, прельщали красивые кожаные корешки переплетов.
Стекольный завод увеличивал выпуск продукции, требовалось больше рабочей силы. На работу приезжали люди из других поселков и городов, потянулась на завод молодежь из окрестных деревень. Часть рабочих поселилась в заводских домах, некоторые жили во вновь построенных бараках. Несколько семей разместили в Красной даче. Наиболее сильные и энергичные семьи строили свои дома, заводили подсобное хозяйство – огород, свинью и корову. Появилось в наших краях новое животное – коза. Большинство рабочих семей имели средний достаток. Жили неторопливо, спокойно, без скандалов. Растили детей, ежедневно на заводе отрабатывали смену – восемь часов. Гордились своей профессией, ценили рабочее место и членство в профсоюзе. Членов профсоюза принимали на работу в первую очередь. В одной из дач, недалеко от центра поселка, открыли заводской рабочий клуб. Время от времени в нем выступали приезжие артисты, местная самодеятельность и «синеблузники» – агитбригады. Открылась пивная. Каждую субботу в четырнадцать часов на заводе заканчивалась рабочая неделя и выдавали зарплату. Рабочие, не обремененные семьями, и те, у кого семейные узы были слабоватыми, собирались в пивной.
А в советской пивной так красиво, с бубенцами играет баян.
Пили пиво производства ЛСПО (Ленинградский союз потребительных обществ). Пили много, по шесть–двенадцать бутылок на человека. В трехстах шагах от пивной, в Веселом переулке, бывший борец-профессионал Липонин, человек могучего телосложения, торговал водкой по 40 копеек за бутылку. Подвыпившие посетители пели песни: «Стаканчики граненые упали со стола…», «Кирпичики». Пели все, даже безголосые мужики, в любом состоянии и те, у которых язык уже не ворочался. На другой день хвастались, кто и сколько выпил. По утрам искали, чем поправить больную голову. Постепенно от выпивок в праздники перешли к еженедельным застольям с получки. Население привыкало к пьянству. Сдерживающих факторов не было. Появились признаки алкоголизма. Больше всех в пьянстве отличались рабочие завода Васька Дорофеев и Ванька Бреда. К ним сельчане относились, как к пропащим людям. Однажды на сцене клуба участниками самодеятельности была исполнена частушка: «В понедельник или среду, может быть, и ранее, Дорофеев вызвал Бреду на соревнование…» Присутствующим было понятно о каком соревновании шла речь. Однако ничего не изменилось.
Во второй половине двадцатых годов наша большая семья начала распадаться. Старшие дети выросли, поступили на работу, стали независимыми. Они жили, как им нравилось. Отец заболел, и в 1925 году его уволили с железной дороги. В сельском хозяйстве работать не мог, а привычка управлять хозяйством осталась. С утра до вечера он ворчал, ругался, выражая недовольство образом жизни детей. Все чаще и чаще ссорился со старшим сыном. Ругательства с упоминанием Господа Бога и всех святых стали обычным явлением. От неурядиц больше всех страдала мать. Первой из дома ушла сестра Матрена, вышла замуж за Ваську Кудряшова из деревни Анисимовка, гармониста, красавца, кумира девушек окрестных деревень. Ее семейная жизнь не сложилась. После смерти первого ребенка заболела и через год скончалась. Старший брат Игнат перешел работать на стекольный завод. Женился на работнице завода Насте Шальновой и ушел жить к ней.
Иван Константинович Васильев, брат Г. К. Васильева(слева)
Михаил Константинович и Евдокия Константиновна Васильевы, брат и сестра Г. К. Васильева(справа)
Второй брат Иван тоже поступил на завод, затем его призвали на военную службу в Красную армию. Сестра Прасковья уехала к родственникам матери в Москву, поселилась у них в Марьиной роще и работала на швейной фабрике.
Брата Михаила на три года отдали для обучения портняжному мастерству в соседнюю деревню Балакирево. В семейном хозяйстве работали мать, брат Павел, сестры Дуся, Шура и я. В мае 1927 года я закончил обучение в Дубровской школе первой ступени. Хотелось учиться дальше. Но где? В Березайке было две школы-семилетки, заводская и железнодорожная. Дети заводских рабочих шли учиться в заводскую, дети железнодорожников в железнодорожную. Меня не принимали в школы, так как родители не имели отношения ни к одному из этих ведомств. Первая ступень могла стать для меня последней. Я не находил выхода из создавшегося положения. Помогли старшие братья. Их усилиями меня зачислили в железнодорожную школу, как сына бывшего служащего железной дороги.
1 сентября 1927 года начались занятия в пятом классе. Школа размещалась в построенных до революции дачах. Наш класс располагался в пятой даче и вмещал восемь парт, по два ученика за каждой. Русский язык преподавала Анна Николаевна (Анюся), ежедневно приезжавшая со станции Бологое. Внешность ее вполне соответствовала моде периода НЭПа – короткая стрижка, берет, кофточка и юбка выше колен. Во время перемен она скручивала из газетной бумаги и махорки громадные папиросы и, не стесняясь нашего присутствия, с наслаждением курила. Учила она плохо. Математику преподавал Евгений Балтазарович, всегда аккуратно одетый в темный костюм и белую рубашку. Он держался подчеркнуто лояльно, материал излагал четко, просто и спокойно. Говорили, что он бывший офицер. Географию и обществоведение вел Сергей Васильевич Пятницкий, сын священника. Плотный мужчина, лет сорока, с черными густыми, лохматыми бровями, из-под которых сверлил нас проницательным взглядом. Мы его боялись, но преподавал он хорошо. Физику и химию изучали под руководством Касьяна Никифоровича Сырокваши, заброшенного революцией в наши края и застрявшего здесь. С детства он был частично парализован, правая кисть руки не действовала, держал ее в кармане, при ходьбе волочил правую ногу. Это не помешало ему жениться на симпатичной учительнице начальных классов.
Прасковья Константиновна и Шура
(Александра Константиновна) Васильевы, сестры Г. К. Васильева
В нашем классе учился его брат Саша Сырокваша. Немецкий язык преподавала старушка Камчатова, по прозвищу Немка, существо хлипкое и неавторитетное. Столярному ремеслу учил Константин Густавович Мальстрем, обрусевший швед, появившийся откуда-то и неизвестно куда исчезнувший в тридцатые годы. С древесиной мы умели обращаться с детства и к концу обучения могли даже сделать табуретку. Состав учеников класса был разношерстный. Четыре человека из Дубровки, трое со станции Лыкошино, по одному из деревень Лыкошино и Горнешница, остальные березайские. Двое учеников были из деревни Рютино – Нейман и Суйгусор, видимо, эстонцы или латыши, неведомыми путями попавшие в наши края. Учеба шла без напряжения. По всем предметам у нас были учебники. Тетради, ручки, перья и чернила продавались в лавках. Текущие оценки, в соответствии с новыми правилами, нам не ставили. В одном помещении на своих партах мы проучились три года, переходя из одного класса в другой. В июне 1930 года я получил удостоверение об окончании Березайской школы-семилетки Октябрьской железной дороги.
«В течение курса обучения Васильев Георгий приобрел знания и навыки в объеме курса, установленного программами НКП (народный комиссариат просвещения) для школы семилетки по следующим предметам:
Обществоведению.
Родному языку и литературе.
Математике.
Естествознанию.
Химии.
Физике.
Географии.
Немецкому языку.
Труду:
по столярному ремеслу,
на земельном участке.
Изобразительным искусствам – рисованию.
Физкультуре.
За время пребывания в школе обнаружил особую склонность к… – прочерк Настоящее удостоверение выдано Школьным Советом Березайковской школы на основании постановления Совета от 9 числа июня месяца 1930 года. Заведывающий школой Недосекин Секретарь Школьного Совета неразборчиво»
Удостоверение об окончании Г. К. Васильевым курса обучения семилетней школы в Березайке. 9 июня 1930 г.
После окончания школы каждый пошел своей дорогой. Шурка Лясников уехал в Ленинград к родственникам, учился, проходил срочную службу в войсках НКВД, след его затерялся. Шурка (Александр Евгеньевич) Ефимов по прозвищу Ява всю жизнь служил на Октябрьской железной дороге в разных должностях, дошел до диспетчера службы движения станции Бологое. Во время войны женился на Анне Ивановне Игнатьевой, ак-тивной комсомолке нашей деревни. Детей у них не было. Жили на Крестьянской улице, в собственном доме № 11, в поселке Березайка. Скончался в 1967 году. Николай Боров-ский окончил десятилетку в Бологом, там же работал в советских органах. В последние годы заведовал райсобесом. Умер в середине 1950-х годов. Петя Фомин всю жизнь проработал на стекольном заводе, ныне пенсионер, живет и здравствует в поселке Березайка. Лыкошинские Галя Возняк и Катя Федорова учились в Бологом в школе-десятилетке. В октябре 1991 года я ехал в поезде из Москвы в Березайку. Соседкой по вагону оказалась разговорчивая женщина, которая знала моих соучениц. Во время войны их призвали в армию, служили они в медсанбатах. После войны возвратились в деревню Лыкошино. Привезли с войны по ребенку и несколько чемоданов трофейного барахла. Катя вскоре умерла, а Галя сошла с ума. Это все, что она о них знала.
Окончание семилетки совпало с бурными и тревожными событиями в жизни деревни. В начале 1930 года в Дубровке был организован колхоз имени Сталина, туда вступили мать и отец. Проводилась в жизнь коллективизация деревни. Добровольное объединение крестьян на практике осуществлялось силовыми методами. Обобществлению – переходу в общее пользование – подлежали земля, весь скот, сельскохозяйственный инвентарь, запасы кормов для скота, семена и все постройки, кроме избы и бани.
Одновременно с проведением сплошной коллективизации был выдвинут лозунг о ликвидации кулачества, как класса. Официально под словом «кулак» понимался деревенский эксплуататор, использовавший в своем хозяйстве наемную рабочую силу. Раскулачивали зажиточных и средних крестьян, имевших благодаря упорному изнурительному труду крепкие, преуспевающие хозяйства. Местным органам советской власти предоставлялось право выселять кулаков в районы Дальнего Севера или в Сибирь. У них конфисковывали все средства производства (скот, машины, инвентарь) и передавали колхозам. По железной дороге на Север, в неизвестные края, шли составы товарных вагонов с решетками на окнах и замками на дверях. На поездных площадках дежурили красноармейцы с винтовками. Вывозили раскулаченных. Тех, кто не попадал под категорию «кулака» по имущественному положению, но сопротивлялся вступлению в колхоз или вел разговоры против коллективизации, называли «подкулачник» – человек, «льющий воду на мельницу классового врага». Их тоже раскулачивали и выселяли из деревень. С 1930 по осень 1932 года было раскулачено и выселено 240 757 семей. Сколько трудолюбивых и крепких крестьян покинули деревни и скрылись в городах, никому не известно. Запись в колхоз проходила тяжело, болезненно, вызывала моральные и физические страдания крестьян. Мужик не хотел отдавать свое имущество, нажитое десятилетиями тяжкого труда, неизвестно кому и непонятно зачем. Чтобы заставить крестьянина написать заявление о вступлении в колхоз, каждый вечер в деревнях проводили бесконечные собрания. Уполномоченные представители партийных органов произносили длинные речи, уговаривали крестьян, соблазняли прелестями коллективного труда. Одновременно они угрожали раскулачиванием, лишением избирательных прав. Выбирай, что лучше – жить в своем доме, ничего не имея, или жить в бараке в северных лесах, тоже ничего не имея. Угрозы раскулачить не были пустыми словами. По существовавшим понятиям, кулаков в нашей деревне не было быть не могло
Агитационные плакаты времен коллективизации
Обработка небольших наделов земли наемного труда не требовала. Тем не менее две семьи, выехавшие из деревни на хутор в 1925–1926 годах и своими руками раскорчевавшие под пашню участок леса, были раскулачены и сосланы на Север. Через год паренек одной из этих семей появился в деревне и немедленно исчез. Судьба их неизвестна. Рев стоял над деревней, когда сводили скот на один двор. Мычали коровы, блеяли овцы, рыдали хозяйки, прощаясь со своими «кормилицами». В марте 1930 года в газете «Правда» появилась статья И. Сталина «Головокружение от успехов». В ней разъяснялась линия партии о коллективизации, подчеркивался принцип добровольности при вступлении в колхоз. «Обобществление всего имущества крестьян является „перегибом” местных органов власти в проведении линии партии», – говорилось в статье. Был опубликован «примерный устав сельскохозяйственной артели», в котором предусматривалось оставить во владении колхозника приусадебный участок, одну корову, несколько овец и птицу. Стало жить немного легче. Тревожные разговоры, озабоченность родителей, соседей и знакомых, нас, подростков, не беспокоили. Мы с чистой душой приняли образ недалекого светлого будущего социалистической деревни. Верили, что все будем равны, поселимся в теплых, светлых домах с электричеством, как изображалось на плакатах в избе-читальне. Хлеба и пищи у каждого будет сколько хочешь. Не надо будет в жару, холод и осеннюю слякоть работать в поле, в лесу, вязнуть на разбитых, грязных дорогах. Все будут делать умные машины.
Лето и осень 1930 года я работал в колхозе вместе с матерью. Жители Малой Дубровки трудились в одной бригаде на виду друг у друга. Результаты работы каждого были видны в конце дня. Мы равнялись на соседа-колхозника, а он не очень спешил встать пораньше и сделать побольше. Колхозники, так называли тех, кто трудился в колхозе, начинали и заканчивали работу одновременно. В течение рабочего дня делали один перерыв на обед и перекур. Молодежь трудилась добросовестно, старалась изо всех сил. Руководители колхоза пытались организовать общественное питание. Во время сенокоса мы съели старого мерина (коня), ранее принадлежавшего тетке Агафье. На этом колхозный общественный фонд питания был исчерпан.
Степень трудового участия каждого работника определял бригадир. Мера оплаты труда исчислялась в так называемых трудоднях. Бригадир ежедневно проверял объем выполненной работы и в конце месяца каждому колхознику начислял трудодни. После сбора урожая колхоз отдавал государству обязательную норму зерна, которая определялась районным исполнительным комитетом. В народе это называлось «выполнить первую заповедь». Часть собранного урожая оставляли в колхозе на семена, для посевов нового урожая в будущем году. Все, что оставалось, делили между колхозниками по числу выработанных трудодней. Причитавшийся нам заработок за все лето работы в колхозе мы получили осенью. Оказалось, этого зерна нашей семье на год не хватит. Нависла угроза полуголодного существования.
Стали думать, как жить дальше. Продолжать работать в колхозе тяжело и непрестижно. Я имел семилетнее образование и решил уйти из колхоза. На завод не принимали по возрасту – слишком мал, но можно было устроиться на железную дорогу. Для этого необходимо было пройти обучение в школе ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) и после успешного завершения учебы получить хорошую профессию. Железнодорожников обеспечивали рабочей продовольственной карточкой, по которой ежедневно выдавали 800 граммов хлеба. В то голодное время в каждой семье главным и основным продуктом был хлеб, позволявший не умереть с голоду и выжить. Как он выращивается и добывается, от чего зависит качество и количество урожая, я прочувствовал на своей шкуре за год работы в колхозе. Работникам железной дороги независимо от урожая, непогоды и других факторов 800 граммов хлеба выдавали каждые сутки. Люди, приезжавшие в наши места на поездах, скупо рассказывали о голоде в южных районах страны. Местные рабочие и железнодорожники едва сводили концы с концами благодаря получаемому по карточкам хлебу, также выручали овощи со своих огородов, грибы и ягоды, собранные в лесу. Я не знал ни одной семьи в наших краях, где кто-нибудь умер от голода в эти трудные годы. В статье А. Орлова «Тайная история сталинских преступлений», опубликованной в журнале «Огонек», № 46, 47 и 48 за 1980 год, утверждается, что в годы коллективизации (1931–1934 гг.) в нашей стране умерли голодной смертью от 3 до 3,5 миллиона человек. Достоверность этих данных на совести автора, бывшего высокопоставленного работника НКВД, сбежавшего в 1938 году в США. Настоящая его фамилия Лев Фельдман. Первая профессия
В феврале 1931 года я поступил на учебу в школу ФЗУ им. КИМ (Коммунистического интернационала молодежи), находившуюся на станции Бологое. После установления советской власти создавались различные организации, комитеты, союзы и прочие сообщества. Наименования их были длинными и многословными. Для упрощения на-звания составляли из сложения первых букв – аббревиатуры. Чем сложнее и непонятнее были аббревиатуры, тем значительнее казалась организация.
В школе ФЗУ обучали по четырем специальностям: кузнецы, столяры, токари и слсари. Меня приняли в группу подготовки паровозных слесарей. Школа размещалась в доме № 11 на улице Феликса Дзержинского. Здание построено в 1870 году для подготовки специалистов среднего звена Николаевской железной дороги. Во время Великой Отечественной войны оно было частично разрушено фашистской авиацией. После войны его восстановили и разместили в нем техническое училище № 7.
Здание школы ФЗУ в Бологом, теперь Техническое училище
В
период моей учебы, 1931–1933 годы, школа занимала несколько зданий: кирпичное двухэтажное здание для теоретических занятий, двухэтажные учебные мастерские со слесарным, токарным, столярным, кузнечным учебными цехами и школьное общежитие. Ежедневно было четыре часа теоретических занятий, а затем практика. Кроме общеобразовательных дисциплин – математики, физики, обществоведения, русского языка и биологии, мы изучали теорию металлов, устройство и ремонт паровозов, профессиональную гигиену и военное дело. В первый год практические занятия проходили в школьных мастерских. Учили обрабатывать металлы – рубить, пилить, шабрить, притирать, нарезать резьбу и закаливать. Приучали обращаться со слесарными и измерительными инструментами.
Первые месяцы инструктором практического обучения у нас был Петр Терентьевич Шереметьев, добрый, умный, внимательный к ученикам, уравновешенный человек лет тридцати. Через полгода он ушел на партийную работу в райком ВКП(б). Его заменил Витька Куров, взбалмошный, неорганизованный парень лет двадцати пяти, женившийся на девушке из соседнего класса. В нашей группе учились ребята из разных мест: трое из города Валдая, четверо из Вышнего Волочка, двое со станции Бочановка и один со станции Академической. Остальные учащиеся жили в Бологом.
На втором году обучения практические занятия проходили в Круглом депо. Наравне со взрослыми мастерами мы ремонтировали настоящие паровозы. Нам доверяли второстепенные, несложные работы. Качество выполненных учениками работ проверяли строго и придирчиво. Не всегда и не все у нас получалось, однако мы старались все делать «по-настоящему». Руководил учениками пожилой деповский мастер Василий Васильевич, человек мягкий, добродушный, знающий слесарное дело.
Петербургско-Московская (Николаевская) железная дорога имела 34 станции четырех классов. Станции I класса располагались на расстоянии примерно 160 км друг от друга. Станции II, III и IV классов – 80, 40 и 20 км соответственно. Для обеспечения надежного технического обслуживания и ремонта паровозов на 9 станциях I и II классов через каждые 80 км были построены здания депо.
Круглое депо станции Бологое
Станции I класса – Петербург, Малая Вишера, Бологое, Тверь и Москва. Станции II класса – Любань, Окуловка, Спирово и Клин. Депо строились по типовому проекту архитектора К. А. Тона. Они были круглыми, с внешним диаметром около 67 метров. Внутреннее пространство разделено арочными конструкциями на 22 секции длиной 15 метров. Четыре секции были сквозными, использовались для въезда паровозов в здание депо и для проезда в мастерские. Остальные 18 были тупиковыми, служили для ремонта и обслуживания стоявших в них паровозов. Каждая секция (паровозное стойло) перекрывалась сводчатым потолком с отверстиями для установки вытяжных труб, отводивших паровозный дым. В центре (внутреннем дворе) располагался поворотный круг. Для защиты поворотного круга от атмосферных осадков внутренний двор перекрывался легким металлическим куполом, на верху которого была надстройка – застекленный фонарь – для освещения и вентиляции.
Бологое, железная дорога
Круглое депо находилось рядом с вокзалом. Во время войны оно было полностью разрушено немецкой авиацией.
Мы ходили в промасленных спецовках с «концами» (кусками материи) в карманах для обтирки рук и фанерными чемоданчиками с обедом из дома, как взрослые рабочие, подражая им во всем. На работу ездили на местных служебных поездах. Старый паровозик «ДВ» медленно, остановками через каждые 3–4 километра, тащил состав из 4–5 таких же старых, довоенной постройки, вагонов третьего класса. В прокуренные вагоны набивалось много народа. Те, кто успевал войти первыми, сидели на скамьях, остальные стояли в проходе или лежали на боковых полках. Возвращались домой обычно на пассажирском поезде № 402 Москва–Ленинград. Он останавливался на всех станциях и полустанках. Часто, особенно зимой, опаздывал на 4–6 часов. В ожидании поезда приходилось околачиваться на вокзале или возвращаться на тормозной площадке товарного поезда и спрыгивать на ходу. Березайский паренек, ученик ФЗУ Миша Строганов, погиб, попав под колеса вагона. Я ехал на том же поезде, но спрыгнул раньше, когда поезд на подъеме шел с небольшой скоростью. Миша хотел подъехать ближе к дому и спрыгнул на платформу. После этого случая я поклялся никогда больше не ездить на товарных поездах, но через 2–3 дня снова добирался до Березайки на тормозной площадке. В вагонах скорых поездов ехали пассажиры из какого-то другого мира. Нас, чумазых деревенских пареньков, туда не пускали сердитые проводники.
Железнодорожная станция Бологое, вокзал
В 1931 году меня приняли в комсомол. По социальному происхождению вступающие делились на три категории: 1) рабочие, крестьяне и кустари, не использующие чужого труда; 2) служащие и интеллигенция; 3) кулаки, нэпманы, торговцы и служители церкви. Детей рабочих и крестьян в комсомол принимали без всяких проблем. Детям служащих и интеллигентов вступить в комсомол было сложно, их количество в молодежной организации намеренно ограничивали. Для детей кулаков, нэпманов, торговцев, служителей церкви комсомол был закрыт. Отказ в приеме в комсомол делал молодого человека отверженным. Ему были закрыты двери средних и высших учебных заведений, перспектива служебного роста, назначения на ответственные должности. Большинство «бывших» уехали из Березайки в Ленинград и там каким-то способом устроились в жизни. На моей памяти был случай, когда сын купца Кадочникова Николай после отказа о приеме в комсомол застрелился. Его отец долгое время не работал, болел, с большим трудом передвигался, получал мизерную пенсию от железной дороги. К сожалению, дети стали отстраняться от него, чтобы скрыть свое происхождение. Отец все больше замыкался в себе. Взаимоотношения в семье испортились, начался разлад. На шестьдесят первом году жизни он умер. По решению матери его похоронили по церковному обряду на местном кладбище. На месте захоронения установили вырубленный из сосны крест.
В этом же году вернулся из армии мой брат Иван. Вскоре он женился на Клаве Строгановой, дочери заводского мастера Владимира Строганова. Поселились они в бараке рядом с заводом. Брата Михаила призвали на военную службу в дивизию им. Киквидзе, дислоцировавшуюся в окрестностях Новгорода. Сестра Дуся и брат Павел поступили работать на стекольный завод. В Березайке построили новый клуб, сейчас на его месте стоит другое здание. Рядом с клубом располагались футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки. В клубе регулярно показывали кинофильмы, часто выступали ребята из самодеятельности. Летом проводились футбольные матчи между местными командами. Они собирали многочисленных зрителей. Сама собой возникла танцплощадка, прозванная в народе «сковорода», представляющая собой круглый грунтовый участок, утоптанный ногами танцующих.
После революции и Гражданской войны население России жило более чем скромно. Одежда не отличалась изяществом и разнообразием. Легкая промышленность страны была разрушена. Носили то, что могли сшить сами, получить по карточкам или где-то достать.
Местная молодежь одевалась в соответствии с достатком семьи. В основном донашивали старую одежду. Перешивали и переделывали довоенные пальто, костюмы и платья по новой моде. Жизнь продолжалась. Несмотря на трудности, слабому и сильному полу хотелось хорошо выглядеть. Модных журналов не было. Считалось, что у советских людей другие идеалы – отличные от европейских, но мода, хотя и очень специфичная, в стране существовала. Мужчины носили зауженные брюки-дудочки, узконосые ботинки «Джимми», серые рубашки и пиджаки. Галстуки считались признаком буржуйства. Кожаные тужурки и «толстовки», получившие широкое распространение во время НЭПа (период новой экономической политики, 1921–1929 гг.), к тому времени вышли из моды. Девушки делали короткие стрижки. Модными стали маленькие береты, которые для сохранения формы на ночь влажными натягивали на тарелки. Особым спросом пользовались полосатые футболки. Летом носили белые теннисные туфли. Перед выходом из дома их подкрашивали зубным порошком, разведенным в воде.
На зимние каникулы 1932 года мы, учащиеся ФЗУ, отправились в дом отдыха в Крым. Ехали на поезде, разглядывали южный пейзаж с редкими поселками, заметными издали по группам пирамидальных тополей. Проехали легендарный Перекоп, Джанкой, станичную часть северного Крыма. Утром впервые увидели Черное море. Поезд остановился на станции Феодосия. Разместились в двухэтажном доме на набережной. Для нас провели экскурсии в Генуэзскую крепость и картинную галерею Айвазовского. Картины знаменитого мариниста произвели на меня неизгладимое впечатление. В свободное время, пользуясь теплой солнечной погодой, бродили по городским улицам или набе-режной. Вроде ничего особенного не произошло, а жизнь стала восприниматься как-то по-другому. Расширились горизонты увиденного мира. Отдыхали недолго, через неделю нашу группу посадили в поезд и отправили обратно.
В этом же году мой задушевный приятель Павлик Иванов, с которым я провел много дней и вечеров, поступил в нашу школу ФЗУ. Он был прекрасным рассказчиком, балалаечником, весельчаком и балагуром, любимцем девушек, организатором всяческих забав, в общем мастером на все руки. С ним было легко и просто. Чувство равенства, взаимной симпатии, общих интересов и еще чего-то необъяснимого поддерживало наши дружеские отношения. В зимние вечера мы иногда ходили в березайский клуб, смотрели кино, а чаще ходили в Дубровку на беседы (на местном диалекте – свидания, встречи парней с девушками). Петь песни и частушки я еще кое-как мог, танцевать не умел и очень стеснялся девушек. После бесед каждый парень провожал свою девушку до крыльца ее дома. В морозном воздухе из труб деревенских домов поднимались столбы дыма, в небе светила полная луна, под ногами скрипел снег. Кругом была такая звенящая тишина, что отчетливо были слышны шаги человека, идущего на другом конце деревни. А вернувшись домой, затопишь маленькую печурку, наваришь горохового киселя, поешь и заснешь сном праведника после ночной юношеской гулянки.
В мае 1933 года моя учеба закончилась. В июне получил свидетельство об окончании среднего специального учебного заведения с присвоением квалификации 5-го разряда.
«В течение всего срока обучения Георгий Васильев показал успехи по предметам:
а) технологии металлов, описательному и ремонтному курсу паровозов – отличные;
– математике, физике и механике – хорошие;
– графике, обществоведению, русскому языку, биологии и военному делу – удовлетворительные.
б) практическим работам в школьных мастерских и на производстве – хорошие.
На основании постановления учебно-методического совета, утвержденного начальником школы, Васильеву Г. К. определена квалификация 5 разряда.
25.06.1933 г. Начальник школы В. Сиянов»
Свидетельство об окончании школы ФЗУ
Пятый разряд был самым высоким, который за успешную учебу присваивали выпускникам школы ФЗУ. По существовавшей тогда квалификационной сетке, он соответствовал примерно третьему разряду 1970–1980 годов. Предприятия не были обязаны учитывать и оплачивать работы по разряду, присвоенному школой ФЗУ. При приеме на работу его снижали на одну ступень.
После отпуска отправился искать работу. В Круглом и Веерном паровозных депо свободных рабочих мест для выпускников ФЗУ не оказалось. Пришлось согласиться на должность слесаря пункта технического осмотра Восточного депо. Большая часть выпускников устроилась на работу по месту жительства, а несколько человек уехали в Ленинград. Ребята из моей группы поступили на работу в Восточное депо – И. Степанов слесарем, А. Иванов автоматчиком (слесарем по ремонту автотормозов). Позже Иванов стал сотрудником НКВД. После войны я встретил И. Степанова в Бологом, он работал осмотрщиком поездов. Судьбы других ребят мне не известны.
Работали по графику двенадцатичасовых смен. После дневной смены, когда мы работали с 8 до 20 часов, полагались сутки отдыха, а после ночной с 20 до 8 часов отдыхали двое суток. Окончание смены и время отправления пассажирских поездов не совпадали. Домой приходилось добираться 3–4 часа. Можно было сократить время возвращения, если проходил подходящий товарный поезд, но в Березайке приходилось спрыгивать с него на ходу.
Паровозы 1930-х годов
В начале апреля 1934 года я возвращался домой после ночной смены на площадке товарного поезда и, прыгая на ходу, допустил ошибку, не устоял на ногах, упал и покатился по платформе, но успел подтянуть ноги. Стальные колеса вагона прокатились по рельсам в нескольких сантиметрах от моих ног, не задев меня.
Работа в депо была неинтересной. Осмотрщик, проходя вдоль поезда, проверял исправность каждого вагона, а мы, слесари, по его указанию устраняли обнаруженные неисправности. Заменяли подшипники букс, если они грелись, меняли лопнувшие рессоры, буферные стаканы и тарелки, подтягивали крепеж и т. д. Особенно тяжелыми были переносные домкраты для подъема вагонов и стальные рессоры. Их приходилось подносить со стеллажей к месту замены. С тех пор мое правое плечо стало ниже левого. За 12-часовую смену делали один перерыв на обед. С фабрики-кухни нам привозили еду, которая была отвратительной. До сих пор помню вкус и запах форшмака – смеси холодной картошки с селедкой и луком. Жили мы голодно. Выручала карточка, по которой ежедневно получал только 800 граммов хлеба. Зарплата составляла 120 рублей. По ценам того времени это было очень мало, но все же мне удалось осенью купить костюм и демисезонное пальто.
Паровоз-музей на станции Бологое
Самыми престижными на железной дороге были профессии машиниста и диспетчера. Чтобы стать машинистом нужно было окончить специальные курсы, проработать 2–3 года кочегаром, затем 2–3 года помощником машиниста. Только после этого можно было получить старенький маневровый паровоз. До диспетчера путь был еще длиннее и сложнее. Нужно было три года учиться в Ленинграде и дальше подниматься по служебной лестнице в надежде достигнуть желаемой должности, или, как чаще бывало, застрять на должности дежурного захолустной станции. Можно было стать шофером или трактористом, но в наших краях не было ни автомобилей, ни тракторов.