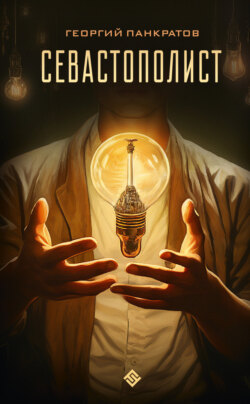Читать книгу Севастополист - Георгий Панкратов, Панкратов - Страница 6
I. Город
Фе и Фи
Оглавление– Без куста и жизнь не та, – встретил меня Инкерман, передавая трубку и похлопывая по плечу.
– Знаешь, дружище, не буду, – ответил я неожиданно для себя самого. – Мне еще вести мою красавицу. – Я сказал, конечно, о машине, но получилось двусмысленно.
– Дороги все наши, город спит! Хоть все скури – домчим как миленькие! – воскликнул Инкер, открывая дверь и жестом приглашая девушек разместиться на заднем сиденье. – Дамы вперед.
– Спасибо, я спереди.
Я ловко подхватил Феодосию – она смешно вскрикнула и задергала ногами. Бережно перенес ее и посадил на сиденье рядом с водительским. Обошел машину, лихо перепрыгнул дверь, не открывая, и плюхнулся на свое место.
– Йех-х-ху! – закричал я. – Все в сборе?
– Пижон, – сказала Феодосия.
– А где вы так долго пропадали? Что делали? – с вызовом спросила Евпатория, как только я тронулся. Фе закатила глаза и поморщилась.
– Евпатория, – начал я. – А почему тебя так зовут? Я понимаю, меня – Фиолент, его – Инкерман вон. А Евпатория – что это за имя?
– Вы будто знаете, что означают ваши имена! – фыркнула Евпатория.
– Наши – нет, а вот твое, кажется, знаем, – подхватила Фе. – Евпатория – значит любопытная.
– Вот-вот, сует свой евпаторийский длинный нос куда не следует, – расхохотался Инкерман.
– А куда следует? – огрызнулась Евпатория.
– Что, тоже куст отпустил? – поинтересовался я, увеличивая скорость. Хотелось въехать в линию разрыва на полном ходу, прорвать ее, словно стрела, пущенная из самого сердца города, с маяка. Хотя, зная результат заранее, было бы справедливей сравнить нас с бумерангом, а не со стрелой.
– Имена – это то, что в крови, – раздался тихий и вкрадчивый голос Керчи. – Когда еще не было города. Когда не было ничего из того, что мы теперь знаем.
Ну почему она так любила произносить очевидное, преподнося его как тайное, сакральное знание?
– И даже Башни? – спросил я, чтобы хоть что-то ответить. – И даже маяка?
– И даже неба, – ответила Керчь.
Мне показались странными эти слова, но я промолчал. Хотелось насладиться скоростью и свежим воздухом. Керчь была одинока и, казалось, не проявляла интереса к тому, что так нравилось всем нам, – романтике, флирту. Чтобы производить впечатление, она любила напустить таинственности. Но то, что говорила эта девушка, порой было сложно воспринимать всерьез.
– А я, может, тоже хотела с вами? – не унималась Евпатория, и тут Инкерман, видимо, опьянев от сухого куста и кажущейся нашей свободы, притянул ее к себе и страстно поцеловал в губы. Оторопев от наглости, она сначала поддалась, но затем опомнилась и завизжала, принялась бить его руками.
– Ты сумасшедший, – кричала она. – Больной ублюдок!
А Инкерман хохотал, похлопывая себя по коленям, словно ветхий дьявол, которого, конечно, нет, ведь я спускался в метро – это не так уж и долго: какой-то десяток ступенек, и вы на станции. Я видел: нет там никакого ада. Там то же, что и у нас. Только меньше света.
– Кажется, проскочили, – объявил я.
– Мы с дорогой Евпаторией, как всегда, все пропустили, – рассмеялся Инкерман. – Хотя у нас тут, кажется, было кое-что поинтереснее? – Он толкнул ее в бок. – Да, Тори?
– Останови, – крикнула она мне. – Я сойду.
– Не дури, – бросил я. – Башня только что была справа, а теперь она стала слева. Видишь? Знаешь, что это значит?
– Фи, мы все знаем, что это значит. Говорю, я хочу сойти!
– Мы все хотим сойти, но это, детка, Севастополь, – Инкерман продолжал глумиться. – Конечная станция мира.
Случилось то, что и должно было произойти: Евпатория влепила ему звонкую пощечину.
– Инкерман и Евпатория, – я изобразил пение, – не прекрасная история…
– Заткнись, – сказали мне оба.
– Ребята, вы демонстрируете такое единение, – рассмеялся я. – Вам пора оформлять свои отношения, не думаете?
– Заткнись, – на этот раз отозвалась только Евпатория.
– Объективно, ты сам напросился, дружище, – констатировал я, глядя в зеркало на расстроенное и покрасневшее лицо Инкермана в зеркало. – Ну а тебе, красавица, скажу только одно: ты на самом северном полюсе города. Если ты здесь выйдешь, до дома не доберешься. Есть-пить нечего, кроме нас, двинутых, сюда редко кто заезжает, а идти тебе… даже страшно подумать сколько.
– А она курить будет, – вставила Фе.
– Дура, – огрызнулась Евпатория.
Все ненадолго замолчали; сказать было действительно нечего, и в тот момент я, помню, подумал: действительно, Феодосия в чем-то была права – наша компания рушилась. Да, мы еще были все вместе, друг с другом, но как-то… что ли, сами по себе. Споры, непонимание, разногласия – все это пока еще обретало форму шутки, но каждый раз казалось все менее естественным. Что нас объединяло? Лишь то, что мы недавно перестали ходить в артеки и не знали, чем теперь заняться, что нам не нравилось сидеть после монотонной работы на крыльце или жарить мясо в компании скучных, как нам казалось тогда, папы и мамы – только-то и всего. Могло ли появиться что-то, что могло бы нас снова спаять, притянуть друг к другу? Я не находил для себя ответа. Единственным приключением, которое нам доступно, оставалась поездка к Башне, к нашим северным границам. Может быть, стоило прислушаться к девушке, которая мне так нравилась, задуматься: если нельзя расширить границы мира, то стоит попробовать расширить собственные.
Мне вдруг захотелось остаться с ней вдвоем. Вдвоем во всем городе, на середине пустой дороги, оставив мигать фары… Оставив Инкермана с его шалостями, Евпаторию с капризами и Керчь с сумасшедшими теориями – оставив всех их где-то далеко позади. Или впереди – в нашем городе, как вы поняли, в направлениях можно было запутаться.
Вдали показались троллейбусные провода, первые дома застывшего во сне Широкоморского шоссе, первые ответвления зеленых севастопольских улочек.
– Как город понимает, что приходит пора спать? – зевнула Керчь. – Вот теперь они все будут вставать, а я только лягу.
– Город устает. А ты ничего не делаешь.
Я сказал это без упрека, лишь озвучивая очевидное. Но Керчь обиделась.
– Я читаю, – сказала она. – А вы только варитесь в своих любовных заботах. Так и сваритесь, как раки.
Хлопнула дверью и ушла, не оборачиваясь. Признаться, меня не сильно задели ее слова. Что можно было читать в Севастополе? Городские мифы и легенды, биографии переживших горожан, учебники об устройстве воды и почвы… Да унылые фантазии местных жителей, решивших взяться, как говорили они, «за перо» – однотипные истории о том, как кто-то кого-то любил, кто-то кого-то убил, да о домашних животных. В реальности такое не встречалось: вместо любви горожане решали жить вместе – съехаться, как все говорили, или породниться, как говорила Фе. Убивать кого-то в городе было решительно не за что – хватало всем и всего: и земли, и моря, и неба. Но истории читали, как и смотрели кино на все те же темы – конечно, не все, даже не каждый второй. Но любители находились. Что я мог узнать из этих книг и фильмов о реальном мире, о реальном городе? Такого, чего бы еще не видел или не знал? Что я мог узнать о себе?
Ничего.
Керчь говорила, что на тысячу страниц всегда находится одно предложение, фраза или даже одно слово – но проливающее свет. В книгах есть все, убеждала она, только нужно это увидеть. Но я всегда спрашивал: хорошо, ты увидишь, но как ты сможешь это применить? Как ты сможешь увидеть все целиком?
Однажды она спросила: а ты веришь в полую землю? Я оторопел, не понимая, о чем идет речь.
– Нам ведь как объясняют в артеках, – начинала она. – Есть Севастополь, и есть бесконечная толща земли под ним, которая по мере отдаления от нас становится плотнее и плотнее, пока не превращается в нечто совсем идеально плотное, что и составляет Бесконечность Бытия.
– Ну да. – Я вспомнил. – Под нами – плотное бытие, над нами – разжиженное. Бытие – абсолютный ромб.
– Ты никогда не думал, что это может быть и не так?
– С чего бы мне об этом задумываться, крошка? – удивлялся я. – Это не мной придумано, да и не придумано вообще. Кто я такой, чтобы…
– Прибереги своих «крошек» для этих… – Она не стала называть, но я прекрасно понял, что имеет в виду Фе с Евпаторией. – Так вот, я прочитала в одних мемуарах… человек уже давно покоится в Правом море, он прожил долгую заслуженную жизнь и говорит в основном о яблоках да цветах. Он работал в метро и об этом хотя неохотно, но говорит. И утверждает, что в нашем метро есть тайные спуски, «Метро-2», как он это условно называет. Его тоннели идут не параллельно нашим улицам, как основная ветка, а спускаются резко вниз – настолько круто, что поезд кое-где идет почти вертикально.
– Детка, – я осекся. – Керчь, прости. Но если есть в мире метро, то кто-то должен придумать секретные ответвления. Это закон жизни.
– Нет, подожди. Он дальше говорит, что эта ветка выводит в совсем другой мир. Что наши границы – это не линии возврата вовсе, наши границы – это то, что под землей. Там есть другие города, и он говорит, что бывал в них. А узнал об этом случайно.
– Конечно, – кивнул я. – Как и я об этом узнал случайно. И уже очень хочу забыть. Большего бреда я в жизни не слышал, Керчь, дорогая!
– Я тебе не дорогая. – Она стиснула зубы. – Тайное знание никто не хочет принимать, потому что в него невозможно поверить. Но что, если этот человек…
– Что, если этот человек – сумасшедший? Что в этих городах? Он говорил? Он написал, как туда попасть? Может, и мы пойдем в них, посмотрим?
– Он не написал, – сокрушенно сказала она. – Я знаю, что ты теперь скажешь: ты поднимешь меня на смех, и все такое. Но биограф, который о нем писал, закончил на этом книгу.
– Ну да, на самом интересном. Нормальный ход.
– Он пишет, что человек исчез, как только рассказал ему про эти города. Его не относили к морю мертвых. Его просто не нашли. Биограф ходил смотреть на небо, чтобы развеяться и отдохнуть, а затем взяться за работу с новой силой. Но, вернувшись, не обнаружил этого человека. И не видел больше никогда, представляешь?
– Керчь, как ты не понимаешь! Тебя цепляют на этот интеллектуальный крючок: типа загадка, тайна. А на самом деле это все фуфло. Такое же, как книжки об убийствах. У кого на что фантазии хватает. А к реальности – поверь – все это не имеет отношения. Полая земля, блин! – Я не на шутку разошелся. – Нет, я даже под кустом такого не придумаю. Нет бы написать про Башню – кто ее создал, зачем. Ведь туда уезжают, наверняка хоть кто-то вернулся!
– Ты же знаешь, Фиолент, из Башни не возвращаются, – всерьез сказала она.
– Вот это ты не подвергаешь сомнению, – крикнул я. – А твердость бытия, значит, можно? Смотритель маяка – вот кто точно связан с Башней! И его мемуары я бы прочел, да. Но такие мемуары никогда никто не издаст.
– Я бы хотела издать, – сказала Керчь. – Я поняла, что хочу здесь делать. Я хочу писать.
В тот момент, провожая разозленную, хлопнувшую дверью Керчь взглядом, я подумал: хоть у кого-то из нас обнаружилось призвание. Еще двоих куда-то тянет, но совсем не понятно куда – это я про нас с Фе. Инкер никак не определится, чего же ему больше хочется: пинать целыми днями балду со мной, обсуждая очередные ничего не стоящие впечатления и догадки, или добиться расположения Тори, к которой он так сильно прикипел. И только самой Евпатории, похоже, было не нужно ровным счетом ничего. И почему обычная жизнь в Севастополе ее не устраивала, казалось загадкой.
Она уснула на заднем сиденье, и я долго уговаривал Инкера не любоваться, сдувая с нее пылинки, и не гладить ее волосы, а разбудить и проводить до дома: жили они неподалеку друг от друга. Казалось, сама судьба их сближала, но вот угораздило же девушку заинтересоваться мной!
– Фиолент, – прошептала она, пока Инкер гладил ее щеки.
– Я больше не могу, вот-вот расплачусь, – сказала Феодосия. – Давай высаживай ее.
– Ребят, вам правда пора, – сказал я. – И нам отдохнуть надо, а мы довольно далеко, сам знаешь…
– Я с тобой никуда не пойду, – заворчала Тори, пробуждаясь. – Я с ним никуда не пойду, слышите?
– Это мой друг. – Я улыбнулся самой мягкой из всех возможных улыбок, но при этом едва сдерживался: признаться, все они меня изрядно достали. – Он не причинит тебе ничего плохого. Просто проводит до дома. Видишь, город вымер?
– Тем лучше, я дойду одна. – Она хлопнула дверью. Ну почему всем так нравилось это делать? Ведь и моя желтая крошка тоже любила нежность.
– Когда-нибудь у них это пройдет, – сказал я, когда Феодосия, положив мне голову на плечо, мечтательно вздохнула. Мы наконец-то остались вдвоем. – И они будут самой счастливой парой в Севастополе.
– Здесь нельзя быть самым, – вздохнула Фе. – Нельзя быть самым ни в чем.
Я вдруг понял, как она права, осознал ее мысль так глубоко, словно там, внутри этой мысли, будто в полой земле, в которую верила Керчь, открывался новый, огромный мир. И на отшибе, обочине этой мысли мелькнула еще одна – не такая уж важная, но занятная. Мне стало ясно, что не устраивало Евпаторию. Она хотела быть са́мой здесь – и не только для меня, для всех. Но в городе ей было не на что рассчитывать, там никто никем не восхищался. А вот наша компания… Ей нужен был Инкер, но только не сам по себе, а как часть этой «самости». Я же ее подводил.
– Да, беру свои слова обратно, – сказал я. – Не будут они здесь самой счастливой парой.
– Езжай помедленнее, пожалуйста, – попросила Феодосия. – Хочу еще немного побыть с тобой.
– Будет сон, будет работа, будет снова наша встреча и поездка. Все циклично; так будет, пока не упадем. Так что куда мы друг от друга денемся.
– Нет, – сказала она твердо. – Мне кажется, что все изменится. Что все скоро пойдет по-другому.
Мы затихли, над нами поблескивали троллейбусные провода, и я сказал, лишь бы разорвать молчание:
– А ты бы уехала на «восьмерке»?
– Ты тоже вспомнил эту легенду? – рассмеялась она.
– Глупая, правда? – Я захохотал, словно слегка двинутый. Мне было так хорошо ехать вдвоем с ней и смеяться над глупостью легенды. Я чувствовал себя счастливым, хотя и знал, что это пройдет.
Восьмой троллейбус был одной из самых распространенных городских легенд нашего Севастополя. Троллейбус-призрак, появляющийся, когда последний житель отправляется ко сну. Он идет пустой, мимо остановок, по безлюдным улицам, сворачивает на перекрестках, пока не доезжает В То Место, Где Кончаются Провода. И тогда он отключается от проводов и убирает рога, прижимает к себе, словно сердитый кот уши. И едет дальше без проводов. И если кому доведется вдруг встретить «восьмерку» на городских улицах, в нее ни в коем случае нельзя садиться – сгинешь, пропадешь навсегда вместе с таинственным троллейбусом, завезет он тебя в непонятные дали, и никогда больше не сможешь найти дороги назад.
– Глупости, – тихо смеялась Феодосия, собирая волосы в дивный хвост, ловко обворачивая вокруг них резинку. Я знал: чтоб не лезли в лицо, когда мы станем целоваться на прощанье… – Все знают, что в городе только семь маршрутов. Троллейбус без проводов, придумают тоже!
Я отсмеялся и вдруг повернулся к ней. Посмотрел пристально. Видно, мое лицо изменилось – Фе посерьезнела тоже, ответила долгим внимательным взглядом.
– Слушай, – сказал я тогда. – А как думаешь, куда он может идти?
– Куда, куда, на конечную…
– Нет, я серьезно. Ведь вариантов не так и много, на самом деле. Куда он денется из города? Ты подумай.
– Ну не знаю, всерьез обсуждать это… Лишнее, что ли.
– Просто представим. Допустим на миг, что он существует. Куда бы он поехал, а?
– Наверное, в Башню, – твердо сказала Фе.
– Именно, – кивнул я. – У нас в городе очень удобно – списывать все на Башню. Все непонятное, все не вписывающееся в привычные рамки, все выделяющееся хотя бы как-то из общей канвы – все немедленно приписывается Башне. Отправляется туда. И можно не думать больше об этом! Этого не существует! Можно дальше сидеть на крылечке и нюхать свои цветы да заедать помидорами. Башня – она все спишет…
– А что, если, – задумалась Фе и наконец выдала: – Что, если он проходит за линию невозврата? Что, если он не возвращается?
– Тьфу ты, – я сплюнул на дорогу. – Нет, ну конечно нет. Я ведь совсем не об этом.
– Ты даже в фантазиях не раздвигаешь границы, – протянула Фе.
– Нет, – возразил я. – Нет, Фе. Я не хочу, чтоб мой город менял границы. Я не хочу, чтоб с моим городом что-то случилось. Даже в фантазиях. Это тебе ясно?
– Да ясно, куда ж яснее… Слушай, мы, кажется, должны были свернуть.
Я резко затормозил и дал задний ход, чертыхаясь.
– Что с тобой? – удивилась Фе. – Ты прежде так не водил!
– В общем, так, – произнес я. – Мне кажется, он исчезает. Растворяется в воздухе. Он же невидимка, призрак. Вот что я думаю. А все остальное – чушь.
– Может, потому севастопольцы все так не любят, если кто-то гуляет, ездит, пока они отсыпаются? Потому что может встретить «восьмерку»?
– Троллейбусы тут ни при чем, моя красавица. – Я повернул на боковую улочку, одну из самых узких в городе. Где-то там, в ее конце, и жила Фе. Ближе к морю – Левому, разумеется. Ну а мне, как вы помните, еще предстояло ехать до мола: я ведь жил у южных границ. – Не любят они, потому что работают. А мы не работаем. Или работаем плохо. По крайней мере, мы делаем что-то еще, кроме работы и понятного им отдыха, – а значит, меньше работаем. Понимаешь? Только-то и всего.
– Работать, – задумалась она. – Кем? Я хочу приносить пользу. Моя мечта, ты знаешь, была всегда – приносить пользу. Но я не знала, чем могу быть здесь полезна. Здесь все без меня есть. Здесь никому не нужна от меня польза.
– Не знала? Почему ты говоришь «не знала»? А теперь что, знаешь?
– Теперь я знаю, – твердо сказала она. – Хочу быть полезной тебе.
Она дотронулась губами до моей щеки.
– А ты не хотел быть полезным?
Быть может, она хотела от меня другого – услышать то же, что она сказала мне, такое же почти что симметричное признание. Но я не видел главным для себя приносить какую-то пользу. У нас были водители, торговцы всяким барахлишком, фонарщики, рассказчики правил жизни и свода законов города, осевшие в артеках, кто еще… были метельщики асфальта. Где-то на соседних улочках стояли, утопая в зелени, компактные заводики, где делали бумагу, хлеб, одежду – обеспечивали себя и других севастопольцев самым необходимым. Большей же частью горожане занимались своим домом и двором. Встречались еще и врачи – самые скучные типы из всех: они помогали свозить бездыханных к Правому морю и крепко держать их за руки и ноги, раскачивая перед броском. Их вечным профессиональным спором было – кто закинет дальше… Керчь читала в книгах, что ветхие врачи были нужны для чего-то еще, но для чего – никто уж сам не помнил. Эта специальность вымирала, как подземные копатели, построившие однажды метро и не знавшие, что делать дальше. Рассказчики историй – те самые писатели, сниматели, записыватели и подглядыватели чужих жизней. Этих было жальче всего: они открывали глаза впервые, выходя в мир, и уже выглядели как пережившие, и отправлялись на Правое море, не приходя в сознание, а их околачивания возле чужих заборов и поедание чужих груш никому не приносили особой радости. Так, можно было перекинуться парой слов – с ними или о них. Да все там, в Севастополе, было нужно, только чтобы перекинуться парой слов. Кому я мог быть полезен? Чем?
Единственная профессия, которая меня не оставляла равнодушным, – это смотритель Точки сборки – маяка. Но вряд ли кто-то в городе мог бы сказать, что для него была какая-то польза от смотрителя – любого подняли бы на смех, скажи он такое. Увидеть бы смотрителя, поговорить с ним. Но даже нашим подглядывателям чужих жизней и поедателям дармовых груш выйти на смотрителя было не под силу.
– Этот не аккредитует, – говорили они и качали своими бородатыми головами. У них был какой-то свой язык – я ничего в нем не смыслил. А толку-то? Все равно все возвращались к своим огородам и копали вместе с папой и мамой грядки – есть ведь что-то надо.
– Да, – я наконец вырвался из раздумий. – В нашем городе все возвращается к своему домику, к своему двору, к фонарю за входной дверью, освещающему коридор… Любое начинание. Вот настоящие символы города – дом, двор, калитка, а вовсе не Башня.
Мы остановились за пару домов от ее родного. Город спал крепко, но кому-то же ведь надо просыпаться первым. Если это окажутся недалекие Фе, только и останется, что заводить машину и мчаться отсюда на всех парах.
– Машина, – произнес я. – Точно. Я водитель своей машины. Этого мне достаточно. А что? Я никогда не отказывался никого подвезти. Просто так. Ничего не менял на барахлишко. Одежда – все, что мне нужно. Машина. Город. Ребята. Бумажки я вообще не собирал. Они называют их «деньги», это слово звенит, слышишь: день-ги, день-день. Что с ними делать?
– Ты только красавиц подвозишь, – улыбнулась Феодосия.
– Каких это красавиц?
– Меня, например. – Она обвила меня тонкими длинными руками, и я почувствовал прилив сил. Подался к ней, и мы долго не говорили ни слова.
А потом она снова сидела, откинувшись в кресле, и смотрела вдаль.
– Я вообще не понимаю, зачем эти бумажки… Мои папа с мамой их копят, прячут под подушки. Ритуал какой-то, словно не из этого города, мира вовсе. Что там в умных книжках пишут, надо Керчь спросить. Они в это верят, я – нет.
– Еще в артеках нам говорили – это в крови. Это как есть и пить.
– Но я им не верю… – Фе снова потянулась ко мне, мурлыкая на разные лады: – Я им не верю, им не верю я, не верю им я…
– В этом городе можно не верить всему, – прошептал я. – Но это ничего не меняет.
Прямо над машиной, над нашими горячими телами нависала, покачивая ветвями, старая яблоня. Налившиеся плоды падали, глухо ударяясь о желтый пластик, скатываясь по гладкой коже сидений, катились прямо под наши ноги. Так и мы катились по этому городу, по ровным его улицам, не зная, где и когда остановимся.
– И потом, главное – для чего это все? – шептала она, цепляясь за мои губы.
– Не знаю… – откликался я. – Ты же видишь, у нас никто не задается этим вопросом.
– Ну а ты? – с надеждой выдыхала она.
– Может, Керчь знает? – отвечал я, принося логику и смысл странного нашего разговора в жертву страсти, которая уж точно не задает вопросов и не ищет ни следствий, ни причин.
А потом Феодосия долго и тяжело дышала. Я смотрел на нее безотрывно и думал: как прекрасны, величественны ее изгибы в сравнении с моей неуклюжестью и неповоротливостью неотесанного камня. Она заговорила вновь:
– Кот скончался и попал в рай для котов…
– Неожиданное начало!
– Слушай! И там его спрашивают: а какой он – мир? Что там, откуда ты пришел? А, нет, не так, подожди… Там еще три было. Нет, их всего – три кота.
– И чего они? – спросил я расслабленно. – Все отмерли?
– Да. Они ж в рай попали – все, как в ветхости. И вот одного спрашивают, а он говорит: мир – это такая комната, где живут два больших и добрых, но очень занятых существа. Они меня кормят мясом и еще наливают молочка, гладят и ухаживают, а потому я постоянно довольный, бодрый и холодноносый. Из окна у меня вид во двор, там летают и ходят птицы, но на окне решетка. Вот такой мир. А другой говорит: мир – бесконечные и длинные дороги, а по сторонам постоянно стены, высоченные стены. Ты постоянно хочешь поесть, но постоянно должен бежать – либо ты догоняешь, либо догоняют тебя. Иногда стены становятся ниже, и ты перепрыгиваешь через них. Но только для того, чтобы увидеть такие же стены. Итак, спрашивают его: что же такое мир? Мир, говорит он, – это бег и стены. Ну и третьего кота спрашивают: что это такое, мир? Мир – это когда ты ничего не видишь, потому что не знаешь, как это, только чувствуешь вокруг себя воду, много воды, ты в воде, погружен в воду, и где-то в глубине ее чернеет страшное дно, а по краям – деревянные стенки, которых ты не видишь, лишь ударяешься слабым своим телом. Ты делаешь несколько вдохов и захлебываешься водой. Вот что такое мир.
Я не знал, что сказать, поэтому просто нажал кнопку на панели возле руля. Заиграла мелодия, раздались ненавязчивые тихие голоса. Музыка была самым странным, что случалось со мною в жизни. Самой большой загадкой. Я не знал, что она такое, откуда она берется. Мы находили ее на пустыре возле Башни или на берегу Левого моря – маленькие коробки с кнопочками, включали и слушали. Искали ее и в тот раз, но не смогли найти, такое случалось и не особо нас расстраивало: ну не нашли – будем слушать старое, решали мы.
И хотя в ней часто звучали человеческие голоса, я не ассоциировал музыку с живыми людьми. Она была находкой, артефактом, который приводил севастопольцев в ужас. А мы любили ее.
– Вот такой он, мир, – продолжала Фе. – Разный. Понимаешь? Просто можно по-разному видеть.
– Расслабься, – бросил я. – У нас все одинаково.
И тогда она сказала:
– Я люблю тебя.
Не зная, что можно ответить, помню, я крутанул колесо громкости так сильно, что мелодия залила собой всю улицу, все дворы рядом, да что там – казалось, весь город залила собой.
– А ты любишь группу «Опять 18»? – спросил я. Я не понимал этого странного названия, но так было написано на музыке.
Мелодия света домчит нас до рассвета
Еще пара куплетов, и мы сделаем это, —
доносился ровный речитатив.
– Все люблю, – шептала она как в забытьи, беспамятстве. – Я люблю любить. Люблю любовь. Так прекрасно…
Я быстро домчал до себя. Запрыгнул в кровать скорее, желая остаться незамеченным. Из окна виднелся мрачный мол, и мерцал на краю города маленьким красным огоньком маяк. Смотритель зорко следил за тем, чтобы не пошатнулось Бытие.
А я задвинул ставни и предался самому сладкому сну, какой только могу теперь вспомнить.