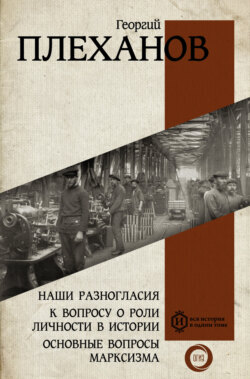Читать книгу Наши разногласия. К вопросу о роли личности в истории. Основные вопросы марксизма - Георгий Валентинович Плеханов - Страница 10
Наши разногласия
Введение
7. Результаты
ОглавлениеНиже мы увидим, какое значение имеют сделанные мною выписки в «опросе о «наших разногласиях». Теперь же взглянем на изложенные нами программы с чисто исторической точки зрения и спросим себя – насколько удовлетворительно был ими поставлен и решен вопрос о состоянии русской общины и о способности русского народа к сознательной борьбе за свое экономическое освобождение?
Мы видели, что как М.А. Бакунин, так и П.Н. Ткачев очень много говорили о коммунистических инстинктах русского крестьянства. Ссылки на эти инстинкты составляют исходную точку их социально-политических рассуждений, главное основание их веры в возможность социалистической революции в России. Но ни автор «Государственности и анархии», ни редактор «Набата» нимало не задумывались, по-видимому, над вопросом о том, потому ли существует община, что народ наш «проникнут принципами общинного землевладения», или потому он «проникнут» этими «принципами», т. е. имеет привычку к общине, что живет в условиях коллективного владения землей? Если бы они внимательнее отнеслись к этому вопросу, ответ на который не может быть сомнительным, то им пришлось бы перенести центр тяжести своей аргументации из области рассуждений о народных «инстинктах» и идеалах в сферу исследований о народном хозяйстве. Тогда им пришлось бы обратить внимание на историю землевладения и вообще права собственности у первобытных народов, на возникновение и постепенный рост индивидуализма в общинах охотничьих, кочевых и земледельческих племен, на социально-политическое влияние этого нового «принципа», становящегося мало-помалу господствующим. Применяя результаты такого рода исследований к России, им пришлось бы сделать оценку тех разлагающих общину условий, значение которых в особенности возросло со времени уничтожения крепостного права. Эта оценка логически привела бы их к попытке определить силу и значение индивидуалистического принципа в хозяйстве современной сельской общины в России. Затем, так как значение этого принципа – под влиянием враждебных коллективизму условий, – постоянно возрастает, то им нужно было бы узнать величину ускорения, приобретаемого индивидуализмом в ходе его вторжения в право и хозяйство общинников. Определив, с возможною в таких случаях точностью, величину этого ускорения, они должны были бы перейти к изучению свойств и развития той силы, с помощью которой они думали не только предупредить торжество индивидуализма и не только восстановить сельскую общину в ее первобытном виде, но и придать ей новую, высшую форму. При этом возник бы очень важный, как мы видели, вопрос о том, явится ли эта сила продуктом внутренней жизни общины или результатом исторического развития высших сословий[43]. Во втором из предположенных случаев интересующая нас сила оказалась бы чисто внешнею силою по отношению к общине, и тогда им прежде всего нужно было бы спросить себя, достаточно ли одних внешних влияний для переустройства экономической и социально-политической жизни данного класса? Покончив с этим вопросом, пришлось бы немедленно считаться с другим, а именно – где должно искать точку приложения этой силы, в сфере ли условий жизни или в области привычек мысли нашего крестьянства? В заключение им нужно было бы доказать, что сила сторонников социализма увеличивается с большей быстротой, чем совершается рост индивидуализма в русской экономической жизни. Только сделав это обстоятельство по крайней мере вероятным, они могли бы доказать вероятность той социальной революции, которая, по их мнению, не могла встретить в России «никаких» затруднений.
В каждом из вышеперечисленных случаев им пришлось бы иметь дело не со статикой, а с динамикой наших общественных отношений, «брать» народ не таким, «каков он есть», а таким, каким он становится, рассматривать не неподвижную картину, а совершающийся по известным законам процесс русской жизни. Им пришлось бы употребить в дело то самое орудие диалектики, которое уже употреблялось Чернышевским для изучения вопроса об общине в самом абстрактном его виде.
К сожалению, ни Бакунин, ни Ткачев не сумели, как мы видели, подойти с этой, наиболее важной, стороны к вопросу о шансах социальной революции в России. Они довольствовались тем убеждением, что народ наш «коммунист по инстинкту, по традиции», и если Бакунин обращал должное внимание на слабые стороны народных «традиций» и народного инстинкта, если Ткачев видел, что устранить такого рода слабые стороны можно лишь путем учреждений, а не логических доводов, то все-таки ни тот, ни другой из названных писателей не довели дело анализа до конца. Взывая к нашей интеллигенции, они ожидали социальных чудес от ее деятельности и полагали, что ее преданность заменит народную инициативу, ее революционная энергия займет место внутреннего стремления русской общественной жизни к социалистической революции. Народное хозяйство, уклад жизни и привычки мысли нашего крестьянства рассматривались ими именно как неподвижная картина, как законченное целое, подлежащее лишь незначительным видоизменениям вплоть до самой социальной революции. В представлении тех самых писателей, которые, конечно, не отказались бы признать современные им формы народной жизни результатом исторического развития, – история как бы «останавливала свое течение». От времени выхода в свет «Государственности и анархии» или «Открытого письма к Фр. Энгельсу» вплоть до первого или «второго дня после революции», сельская община должна была, по их мнению, остаться в своем нынешнем виде, от которого так недалек будто бы переход к социализму. Весь вопрос был в том, чтобы поскорее приняться за дело и идти по надлежащей дороге. «Мы не допускаем никаких отсрочек, никакого промедления… Мы не можем и не хотим ждать… Пусть каждый соберет поскорее свои пожитки и спешит отправиться в путь!» – писал редактор «Набата». И хотя по вопросу о направлении этого пути между Бакуниным и Ткачевым были коренные разногласия, но, во всяком случае, каждый из них был уверен, что если молодежь пойдет по указанному им пути, то успеет еще застать общину в состоянии желательной прочности. Хотя «каждый день приносит нам новых врагов, создает новые враждебные нам общественные формы», но эти новые формы не изменяют взаимного отношения факторов русской общественной жизни. Буржуазия продолжает отсутствовать, государство продолжает «висеть в воздухе». Погромче ударивши «в набат», поэнергичнее взявшись за революционную работу, мы успеем еще спасти «коммунистические инстинкты» русского народа и, опираясь на его привязанность к «принципам общинного землевладения», сумеем совершить социалистическую революцию. Так рассуждал П.Н. Ткачев, так же или почти так же рассуждал и автор «Государственности и анархии».
Наша молодежь читала произведения обоих писателей и, поделившись на фракции, действительно спешила взяться за дело. С первого взгляда может показаться странным, каким образом ткачевская или бакунинская программа могла найти адептов в той самой интеллигентной среде, которая воспитывалась на сочинениях Н.Г. Чернышевского и уже по одному тому должна была выработать привычку к более строгому мышлению. Но дело – в сущности – просто и объясняется отчасти влиянием того же Чернышевского.
Гегель не даром отводил в своей философии такое важное место вопросу о методе, и не даром также те из западноевропейских социалистов, которые с гордостью «ведут свою родословную», между прочим, «от Гегеля и Канта», придают гораздо большее значение методу исследования общественных явлений, чем данным его результатам[44]. Ошибка в результатах непременно будет замечена и исправлена при дальнейшем применении правильного метода, между тем как ошибочный метод, наоборот, лишь в редких частных случаях может дать результаты, не противоречащие той или другой частной истине. Но серьезное отношение к методологическим вопросам возможно лишь в обществе, получившем серьезное философское образование. Русское же общество никогда не могло похвастаться таким образованием. Недостаток философского развития с особенною силою сказался у нас в шестидесятых годах, когда наши «мыслящие реалисты», создавши культ естественных наук, открыли жестокое гонение на философскую «метафизику». Под влиянием этой антифилософской пропаганды, последователи Н.Г. Чернышевского не могли усвоить себе приемы его диалектического мышления, а сосредоточивали свое внимание лишь на результатах его исследований. В результате же этих исследований являлась, как мы знаем, уверенность в возможности непосредственного перехода нашей общины в высшую, коммунистическую форму общежития. Это убеждение страдало односторонностью уже в силу своей абстрактности, и ученики, оставшиеся верными духу, а не букве сочинений Чернышевского, конечно, не замедлили бы перейти, как я выразился выше, от алгебры к арифметике, от общих отвлеченных рассуждений о возможных переходах одних социальных форм в другие к подробному изучению вопроса о современном состоянии и вероятной будущей судьбе русской общины в частности. Так называемый «русский» социализм был бы поставлен, таким образом, на совершенно твердую почву. К сожалению, наша революционная молодежь даже и не подозревала, что у ее учителя был какой-то особенный метод мышления. Успокоившись на результатах его исследований, она видела его единомышленников во всех писателях, отстаивавших принцип общинного землевладения, и между тем как сам автор «Критики философских предубеждений» никогда не мог сойтись, например, со Щаповым[45], наша молодежь видела в исторических трудах последнего лишь новую иллюстрацию и новые доводы в пользу мнений своего учителя. Тем менее могла она подвергать строгой критике новые революционные учения. П.Н. Ткачев и М.A. Бакунин казались ей людьми совершенно одного направления с Н.Г. Чернышевским. Ученики Гегеля не оставили камня на камне в его системе, строго держась того самого метода, который завещал им великий мыслитель. Они держались духа, а не буквы его системы. Последователи Н.Г. Чернышевского не решались даже подумать о критическом отношении к мнению своего учителя. Строго держась каждой буквы его писаний, они утратили всякое понятие об их духе. Вследствие этого они не сумели сохранить в чистом виде даже результаты исследований Чернышевского и в смеси их с славянофильскими тенденциями образовали ту своеобразную теоретическую амальгаму, в которой выросло потом наше народничество.
Таким образом, предшествующая социалистическая литература завещала нам несколько (не нашедших подражателей) попыток применения диалектического метода к решению важнейших вопросов русской общественной жизни и несколько социалистических программ, из которых одна рекомендовала социалистическую пропаганду, считая русское крестьянство столь же восприимчивым к ней, как и западноевропейский пролетариат; другая – настаивала на организации всенародного бунта, а третья, не считая возможной ни пропаганду, ни организацию, указывала на захват власти революционной партией, как на исходный пункт русской социалистической революции.
Теоретическая постановка революционного вопроса не только не подвинулась вперед со времени Чернышевского, но во многих отношениях отступила назад, к полуславянофильским воззрениям Герцена. Русская революционная интеллигенция начала семидесятых годов не прибавила ни одного серьезного аргумента в пользу отрицательного решения поставленного еще Герценом вопроса о том, «должна ли Россия пройти всеми фазами европейского развития?».
43
Несомненная опечатка, хотя сам Плеханов не исправил ее в новом издании. Следует – внешних условий. Д.Р.
44
«Мы далеко не так нуждаемся в голых результатах, как в изучении, – говорит Фр. Энгельс; – мы знаем уже со времени Гегеля, что без ведущего к ним развития – результаты не имеют никакого значения; они хуже, чем бесполезны, если на них прекращается исследование, если они не становятся посылками для дальнейшего развития».
45
См. книгу Аристова: «А.П. Щапов, жизнь и сочинения». С.-Петербург. стр. 89–92.