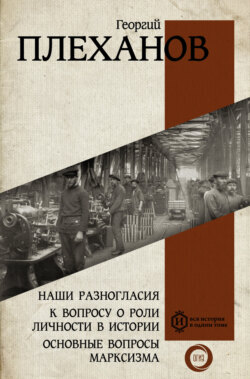Читать книгу Наши разногласия. К вопросу о роли личности в истории. Основные вопросы марксизма - Георгий Валентинович Плеханов - Страница 14
Наши разногласия
Глава I. Некоторые исторические справки
4. Л. Тихомиров в борьбе с группой «Освобождение труда»
Оглавление«Не основана ли аргументация его сторонников (т. е., по-видимому, сторонников капитализма) на целом ряде софизмов?» – спрашивает он читателя.
Нам указывают на Францию, на Германию (а на Англию не указывают? «Некоторая часть социалистов», очевидно, слона-то и не приметила), где капитализм объединил рабочих. Стало быть, он необходим и для объединения наших. Совершенно таким же способом аргументируют сторонники рабства. Они также указывают на роль рабства в первобытной истории, где оно приучило дикого к труду, дисциплинировало аффекты человека и усилило производительность труда. Все это совершенно справедливо. Но следует ли из этого, чтобы миссионер в центральной Африке (где рабство и без того уже существует, напомню я г-ну Тихомирову) занялся обращением негров в рабство или чтобы педагог применил систему рабского принуждения к воспитанию детей?».
Читатель поспешит согласиться, конечно, что не «следует», и г-н Тихомиров, заранее уверенный в его ответе, продолжает свою аргументацию. «История человечества идет подчас самыми невероятными путями. Мы уже не верим в десницу божию, направляющую каждый шаг человечества и указывающую ему наиболее скорые и верные пути к прогрессу. Напротив, эти пути в истории бывали иной раз слишком кривыми и наиболее рискованными изо всех, какие можно придумать. Случалось, конечно, что исторический факт, вредный и задерживающий развитие людей одними сторонами своими – другими, напротив, служил делу прогресса. Таково было и значение рабства. Но эта школа не лучшая и не единственная. Современная педагогия доказала, что рабское принуждение, это – самый худший изо всех способов приучения к труду… Точно так же по вопросу о развитии крупного производства – позволительно усомниться, чтобы пути истории были в этом отношении лучшими и навеки для всех народов единственно возможными… Совершенно верно, что в истории некоторых европейских народов капитализм, породив массу зла и несчастий, имел однако же одним из своих последствий нечто и хорошее, а именно создание крупного производства, посредством которого подготовил до некоторой степени (?!) почву для социализма. Но ниоткуда не следует, чтобы другие страны, например, Россия, не имели для развития крупного производства других путей… Все заставляет думать, что тот способ обобществления труда, к которому был способен капитализм – один из самых худших, потому что он, действительно подготовляя во многом возможность социалистического строя, в то же время другими своими сторонами, во многом отдаляет момент его наступления. Так, например, капитализм, наряду с механическим сплачиванием рабочих, развивает среди них конкуренцию, подрывающую их нравственное единство; точно так же он стремится держать рабочих на гораздо более низком уровне развития, чем это возможно по общему состоянию культуры; точно так же он прямо отучает рабочих от всякого контроля за общим ходом производства и т. д. Все эти вредные стороны капиталистического обобществления труда не подрывают окончательно значения хороших сторон, но во всяком случае бросают в колесо истории целый ряд толстых палок, без сомнения, замедляющих ее движение к социалистическому строю».
Я не без цели сделал эту огромную выписку из статьи г-на Тихомирова. Именно эти страницы и показывают нам оригинальную сторону философско-исторической теории нашего автора. П.Н. Ткачев, полемизируя с Энгельсом, так сказать, головою выдавал «Запад» своему западноевропейскому противнику. «Ваши теории основаны на западных отношениях, мои – на наших русских; вы правы по-западноевропейски, я прав по-русски», – говорила каждая строка его «Открытого письма». Г-н Тихомиров идет далее. С точки зрения своего «чистого» русского разума, он критикует ход западноевропейского развития, производит целое следствие о «ряде толстых палок», брошенных «в колесо истории» и «без сомнения замедляющих ее движение к социалистическому строю». Он держится, по-видимому, того убеждения, что истории свойственно самостоятельное движение в направлении «к социалистическому строю», совершенно независимое от отношений, созданных тем или другим ее периодом, в данном случае периодом капитализма. Роль последнего в этом «движении истории» – второстепенная и даже довольно сомнительная. «Действительно подготовляя во многом возможность социалистического строя», капитализм «в то же время другими своими сторонами отдаляет момент его наступления». Но что же сообщает истории это «движение»? Ведь г-н Тихомиров «не верит уже в десницу божию», которая с успехом могла бы разрешить роковой для его философии истории вопрос о «первом толчке». Как жаль, что эта оригинальная теория «производит впечатление чего-то недоговоренного, не вполне определившегося».
Ах, уж этот г-н Тихомиров! Любит же он, как видно, потолковать о материях важных! Шутка ли, в самом деле, это убеждение в том, что «история идет подчас самыми невероятными путями», эта уверенность в том, что эти «пути бывали иной раз слишком кривыми и наиболее рискованными из всех, какие можно придумать»! Он, наверное, скоро «придумает», если уже не «придумал», и для «Запада» другой путь к социализму, менее кривой и рискованный, чем путь, по которому шли эти страны, родившие Ньютона, Гегеля, Дарвина, Маркса, но, к сожалению, слишком легкомысленно удалившиеся от Святой Руси и ее самобытных теорий. Г-н Тихомиров не спроста, очевидно, заявляет, что «позволительно усомниться, чтобы пути истории были в этом отношении (т. е. в отношении перехода к социализму) лучшими» и т. д. Не смущайтесь скромностью этого сомнения! Г-н Тихомиров касается здесь знаменитого вопроса о том, лучший ли наш мир из всех, «какие можно придумать», или он страдает некоторою «рискованностью»? Нельзя не пожалеть о том, что наш автор ограничивает свои исследования de optimo mundo[56] одной областью истории. Он, наверное, привел бы своих читателей к благодетельному сомнению в том, что ход развития нашей планеты был самым лучшим из всех, «какие можно придумать». Интересно было бы знать – жив ли еще maître Pangloss, бывший преподаватель метафизико-теологико-космолонигологии в вестфальском замке Гундер-тен-Тронк? Почтенный доктор был, как известно, оптимистом и не без успеха доказывал, что «пути истории» были лучшими «из всех, какие можно придумать». На знаменитый вопрос о том, не могла ли история римской культуры обойтись без насилия, испытанного целомудренной Лукрецией, он ответил бы, конечно, отрицательно. Г-н Тихомиров – скептик и сочтет «позволительным усомниться» в правильности панглоссовского решения этого вопроса. Подвиг Секста, наверное, кажется ему «рискованным» и самым худшим из всех, «какие можно придумать». Такое разногласие могло бы подать повод к весьма назидательным для потомства философским прениям.
Для нас, очень мало интересующихся возможной историей возможного Запада, возможной Европы и совсем уже равнодушных к тем историческим «путям», какие «мог бы придумать» тот или другой досужий метафизик – для нас важно здесь то обстоятельство, что г-н Тихомиров не понял смысла» значения одного из важнейших периодов действительной истории действительного Запада действительной Европы. Сделанная им оценка капитализма не удовлетворила бы даже самых крайних славянофилов, давно уже предавших своей восточной анафеме всю западную историю. Эта оценка полна самых вопиющих логических противоречий. На одной странице статьи «Чего нам ждать от революции?» мы читаем о «могучей культуре Европы», культуре, которая «дает тысячи средств возбудить любознательность дикаря, развить его потребности, наэлектризовать его нравственно» и т. д., а на следующей – нас, русских дикарей, «наэлектризованных нравственно» этими строками, тотчас же погружают в холодную воду вышеупомянутого скептицизма. Оказывается, что «капитализм, породивши массу зла и несчастий, имел, однако же, одним: из своих следствий нечто и хорошее, а именно создание крупного производства, посредством которого подготовил до некоторой степени почву для социализма». Все «заставляет» г-на Тихомирова думать, что тот способ обобществления труда, к которому был способен капитализм – одни из самых худших и т. д. [Словом, г-н Тихомиров стоит перед вопросом об исторической роли капитализма в таком же недоумении, в каком стоял известный генерал перед вопросом о шарообразности земли:
Говорят, земля шарообразна,
Готов я это допустить,
Хоть, признаюсь, что как-то безобразно,
Что должен я на шаре жить…][57].
Под влиянием этой скептической философии: у нас возникает масса, «нерешенных вопросов». Мы спрашиваем себя, существовала ли «могучая культура Европы» в докапиталистический период, и если нет, то не капитализму ли она обязана своим возникновением, а если – да, то почему г-н Тихомиров мимоходом только упоминает о крупном производстве, приписывая ему лишь «механическое сплачивание рабочих»? Если египетский фараон Хеопс для постройки своей пирамиды «механически сплачивал» сотни тысяч рабочих, то похожа ли его роль в истории Египта на роль капитализма в истории Запада? Нам кажется, что разница лишь количественная: положим, Хеопсу удалось «механически сплотить» гораздо меньше рабочих, но зато он, наверное, «породил» меньшую «массу зла и несчастий». Как думает об этом г-н Тихомиров? Точно так же и римские латифундии, своим «механическим сплачиванием» закованных в цепи рабочих, породивши массу зла к несчастий», вероятно, «подготовили до некоторой степени почву» для перехода античного общества к социализму? Что скажет нам тот же г-н Тихомиров? В его статье мы не находим ответа на эти вопросы, и
Die Brust voll Wehmut,
Das Haupt voll Zweifel…[58]
мы поневоле обращаемся к западным писателям. Не разрешат ли они наших сомнений?
56
О лучшем из миров.
57
Строки, стоящие в скобках, были выпущены мною в первом издании по совету В.И. Засулич, которая находила их слишком резким. Теперь можно надеяться, что их резкость ничему не повредит, и я восстановлю их здесь. Г.П.
58
Цитата из стихотворения Гейне «Вопросы» (в переводе М. Михайлова): «В груди его скорбь, сомненьем полна голова…» (Г. Гейне, Избранные произведения, Гослитиздат, 1950, стр. 133).