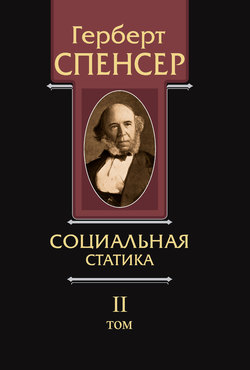Читать книгу Политические сочинения. Том II. Социальная статика - Герберт Спенсер - Страница 5
Введение
Утилитарная философия
Оглавление§ 1. «Дайте нам руководителя, – кричат люди философу, – мы хотим вырваться из этой жалкой обстановки, среди которой мы погрязаем. В нашем воображении постоянно зарождаются образы лучшего, и мы скорбим о них, но все наши усилия обратить их в действительность остаются бесплодными. Нас утомляют эти постоянные ошибки; укажите нам пути, которыми мы можем достигнуть исполнения наших желаний».
«Что полезно, то справедливо», – вот один из последних, в числе многих, ответов на этот призыв.
«Совершенно верно, – возражают вопросители, – для божества справедливость и польза, без сомнения, однозначащие выражения; но для нас остается неразрешенным вопрос: которое из них предшествует и которое должно служить выводом. Если согласиться с вашим предположением, что справедливость составляет неизвестную величину, а польза – известную и данную, то предложение ваше может послужить делу. Но в том-то и беда, что горький опыт убедил нас, что обе эти величины одинаково неизвестны и неопределенны. Наконец, в нас зарождается подозрение, что определение справедливости даже легче, чем определение пользы, и что удобнее было бы ваше предложение преобразить в противоположное и выразить так: что справедливо, то полезно».
«Держитесь правила наибольшего счастья для наибольшего числа людей», – так разрешает сомнение другой авторитет.
Ему отвечают, что это точно так же, как и предыдущее, нельзя даже вовсе и называть руководящим правилом: это скорее выражение задачи, подлежащей разрешению. Ваше «наибольшее счастье» – это именно и есть то, что мы так долго и так бесплодно разыскиваем; мы только не давали этого названия предмету наших желаний. Вы не говорите нам ничего нового, вы только придумываете слова, чтобы выразить нашу потребность. То, что вы называете ответом, это наш вопрос, выраженный в обратной форме. Если такова ваша философия, то она, без сомнения, одно суетное и ничтожное разглагольствование; она не более как эхо, повторяющее вопросы.
«Имейте же немного терпения, – возражает моралист, – дайте мне высказать мое мнение о том, каким образом можно обеспечить наибольшее счастье за наибольшим числом из живущих».
«Опять-таки вы не понимаете нашего требования, – восклицают возражающие, – нам нужны не личные мнения, а что-нибудь другое. Этими мнениями мы уже пресытились. Вся масса пустого прожектерства касательно общего блага была основана на личных мнениях; у нас нет ни малейшей гарантии, что ваш план не прибавит нового звена к перечню прежних ошибок. Придумали ли вы способ для составления безошибочного суждения? Если нет, то мы видим одно: что вы настолько же пребываете во тьме, насколько и мы. Совершенно справедливо, что вы приобрели более ясный взгляд на цель, к которой мы должны стремиться; что же касается до пути, которым мы должны идти, то ваше предложение высказать мнение показывает уже, что вы в этом отношении не знаете ничего более определенного, чем мы. Мы сомневаемся в вашем положении, потому что оно не заключает в себе того, в чем мы нуждаемся, т. е. руководителя; мы сомневаемся в нем потому, что оно не указывает ни одного верного способа для обеспечения за нами предмета наших стремлений; мы сомневаемся потому, что оно не создает veto по отношению к ложной политике; оно настолько же допускает хороший, насколько и дурной образ действия, если только действующие признают его ведущим к достижению предписанной цели. Ваши учения о пользе, об общем благе, о наибольшем счастье наибольшего числа людей не заключают в себе единообразного предписания, удобного для применения в практической жизни. Пусть правители будут убеждены (или сумеют подать вид, что они убеждены), что их меры послужат благу общества, и ваша философия останется немой ввиду самого крайнего безрассудства и самых мрачных преступлений. Это не может нас удовлетворить. Мы ищем учения, которое бы нам давало положительный ответ, когда мы спросим его о проступке: «Хорошо это или нет?» Нам не нужно мировоззрения, которое отвечало подобно вам: «Да, это хорошо, если оно способно вас облагодетельствовать». Мы вам будем благодарны, когда вы для нас создадите именно то, чего мы ищем, когда вы нам дадите аксиомы, из которых мы в состоянии будем выводить ряд заключений до тех пор, пока с математической точностью не разрешим все наши затруднения. Если вы не в состоянии дать нам такого мировоззрения, мы должны будем искать его в другом месте».
В свою защиту философы говорят, что такое требование неблагоразумно. Они подвергают сомнению возможность научноточных правил нравственности. Независимо от этого они утверждают, что их система достаточна для практических целей. Они ясно определили цель, к которой следует стремиться. Они изучили пространство, которое лежит между этой целью и нами. Они полагают, что отыскали лучшую дорогу. Наконец, они добровольно приняли на себя роль пионеров. После этого они думают, что ими сделано все, что можно от них требовать, что критику оппозиции они могут считать придирчивой и возражения ее пустыми. Вникнем внимательно в этот спор.
§ 2. Правило, принцип или аксиома имеют значение только тогда, когда слова, которыми они выражены, заключают в себе точно определенную мысль. Это справедливо даже и тогда, когда подобное правило или аксиома будут удовлетворительны в других отношениях. Выражения, употребленные в этом случае, должны иметь в языке точный и притом один и тот же всеми признанный смысл. В противном случае предложение будет подвержено стольким разнообразным толкованиям, что оно утратит всякое право называться правилом. Таким образом, когда философ провозглашал правило «наибольшего счастья для наибольшего числа живущих» и признавал его руководителем общественной нравственности, то он должен был предполагать, что понятие «наибольшего счастья» определяется всем человечеством единообразно и точно.
Такое предложение, однако же, заключало в себе одну из самых злополучных ошибок; мерка, которой люди меряют счастье, бесконечно разнообразна – это факт, доказанный самым осязательным образом. Во все времена, между всеми народами и у каждого класса людей на этот предмет существовали свои особые взгляды. Для странствующего цыгана домашний очаг оседлого человека скучен и отвратителен; швейцарец был бы несчастлив без такого очага. Прогресс необходим для благополучия англосакса; эскимос доволен своей грязной бедностью, не имеет никаких дальнейших желаний и остается тем же, чем он был во времена Тацита. Ирландец находит удовольствие в строю; китайцу нужны процессии и церемонии; вялый и апатичный житель Явы приходит в шумный восторг при виде петушиного боя. Рай еврея – это «град, наполненный златом и драгоценными камнями, обладающий сверхъестественным изобилием в хлебе и вине»; рай турка – это гарем, обитаемый гуриями; рай краснокожего Америки – это «благодатная для охоты местность»; в скандинавском раю каждый день сражение и раны излечиваются чудотворной силой; австралиец надеется, что после смерти он «обгонит белого и будет иметь множество мелкой монеты». Если мы от народов перейдем к отдельным личностям, то увидим, что Людовик XVI признавал «высшим счастьем» размышлять за механическим занятием; а его преемник[1] считал таким счастьем – читать, создавая империи. Ликург находил, что для человеческого счастья более всего необходимо полнейшее физическое развитие; Плотин, напротив, был до того идеален в своих стремлениях, что стыдился своего тела. Множество противоречащих ответов, данных греческими мыслителями на вопрос о том, в чем заключается счастье, подавало повод к устаревшим и опошлившимся ныне сравнениям. Но и теперь мы не находим между нами в этом отношении большего единомыслия. Для скупого Эльва копить деньги составляло единственную радость жизни; Дей, человеколюбивый автор «Сандофора и Мертона», находил в раздаче денег единственное приятное из них употребление. Сельское уединение, книги и друг составляют пожелания поэта; хлыщ стремится, напротив, к обширному кругу знатных знакомых, к ложе в опере. Стремления купца и артиста менее всего похожи друг на друга; если бы мы сравнили воздушные замки философа и земледельца, мы бы нашли большую разницу в их архитектуре.
Обобщая эти факты, мы найдем, что личная мера «наибольшего счастья» имеет так же мало определенного, как и другие проявления человеческой природы. Несходство во мнениях по этому предмету между различными нациями достаточно очевидно. Сравнивая современных евреев с евреями времен патриархов, можно убедиться, что идеал благополучия изменяется и в среде той же самой расы. Люди одного общества не согласны между собой по этому вопросу. Наконец, если мы сравним желание жадного школьника со стремлениями презирающего земные блага трансценденталиста, в которого он впоследствии превратится, то не найдем в этом отношении и тени постоянства в одном и том же индивидууме. Можно сказать, что не только каждая эпоха и каждый народ имеют свои понятия о счастье, но едва ли возможно найти двух человек, которые имели бы на этот предмет тождественные взгляды; далее можно утверждать, что понятия об этом предмете различны у одного и того же человека в различные периоды жизни.
Вывод из всего этого довольно прост. Счастье состоит в удовлетворенном состоянии всех способностей. Удовлетворение способности заключается в ее упражнении. Чтобы это упражнение было приятно, необходимо, чтобы оно соответствовало силе способности; недостаточное упражнение производит неудовольствие, чрезмерное – порождает утомление. Итак, для полного счастья необходимо, чтобы все способности упражнялись соразмерно со степенью их развития; идеально совершенное расположение обстоятельств таким образом, чтобы обеспечить именно такое упражнение всех способностей, и порождает меру «наибольшего счастья»; нет, однако же, двух людей, умы которых представляли бы для этого тождественную комбинацию элементов. Двойников нет на свете. У каждого человека желания имеют свой собственный вес. Условия, приспособленные к тому, чтобы породить наибольшее благополучие одного, не могут дать вполне тот же результат по отношению к другому. Следовательно, и понятие о счастье должно изменяться сообразно с характером и расположением людей; ясно, что оно должно изменяться до бесконечности.
Все это приводит нас к неизбежному заключению, что истинное понятие о том, в чем должна заключаться человеческая жизнь, возможно только для идеального человека. Мы можем делать об этом предмете только приблизительно верные заключения; для полного понимания, в чем должны заключаться истинные человеческие стремления, необходимо, чтобы человек, составляющий себе это понятие, имел в своей душе все чувства и способности в совершенно нормальных пропорциях. Поэтому немудрено, если Палеи и Бентамы делали бесплодные попытки создать в этом отношении правильное определение. Вопрос этот заключает в себе одну из тех загадок, в смысл которых люди постоянно стремятся проникнуть, но где они постоянно обрываются. Это та неразрешимая задача, которую созданное воображением древних сфинксоподобное существо задает каждому новому пришельцу для того, чтобы пожрать его, не получив ответа. Тут до сих пор еще не появлялось Эдипа, и нет даже и признаков его будущего появления.
Конечно, можно утверждать, что все это слишком большие тонкости и что для практических целей мы достаточно хорошо понимаем, что значит «наибольшее счастье». Такое мнение, однако, легко, хотя и бесполезно, опровергнуть, потому что спорщикам, высказывающимся подобным образом, нетрудно указать множество вопросов, где людьми менее всего обнаруживается это предполагаемое в них единомыслие. Например:
– Каким образом нужно определить удовлетворение между душевными и телесными потребностями для того, чтобы достигнуть «наибольшего счастья»? Есть предел, до которого счастье увеличивается возвышением душевной деятельности; за этим пределом такая деятельность производит более страданий, чем удовольствия. Где же этот предел? Есть люди, которые, кажется, полагают, что развитие интеллектуальных сил и удовольствия, которые от этого происходят, едва ли могут быть поведены слишком далеко. Другие же утверждают, что в среде образованных классов общества душевное возбуждение зашло уже слишком далеко и что можно было бы достигнуть большей меры удовольствия, если бы больше времени посвящалось удовлетворению животных отправлений. Если придерживаться правила достижения «наибольшего счастья», то необходимо решить, которое из этих мнений заключает в себе истину; затем нужно обозначить точный предел между нормальным употреблением и злоупотреблением каждой способности.
– Что составляет более существенный элемент желаемого счастья – удовлетворение или стремление? Обыкновенно считают несомненным, что счастье заключается в удовлетворении. Удовлетворение считается наиболее существенным для благосостояния. Есть, однако же, люди, которые утверждают, что, не существуй неудовлетворения, мы были бы до сих пор дикими. По их мнению, неудовлетворение – величайший стимул для прогресса. Они утверждают даже, что если бы удовольствие было общим правилом, то общество тотчас же начало бы приходить в упадок. Необходимо согласиться с этими противоречиями.
– Затем, что следует понимать под словом «польза», этим синонимом выражения «наибольшее счастье»? Миллионы отнесут это слово к тем предметам, которые посредственно или непосредственно удовлетворяют телесным потребностям, они заключат его в пределы народной поговорки «помогите наполнить горшок для пищи» («help to get something to put in the pot»). Другие полагают, что умственное развитие носит цель в самом себе, независимо от так называемых практических результатов; они стремятся преподавать астрономию, сравнительную анатомию, этнографию и подобные науки наряду с логикой и метафизикой. Некоторые из римских писателей считали художества положительно вредными, теперь же многие находят полезным занятие поэзией, живописью, скульптурой, декоративным искусством и вообще всем тем, что развивает вкус и делает его утонченным. Существует крайняя партия, которая утверждает, что на одну степень с ними следует поставить музыку, танцы, драматическое искусство и все то, что называется обыкновенно развлечениями. Вместо всей этой разноголосицы мы должны бы иметь единогласие.
– Следует ли нам держаться учения людей, которые находят счастье в том, чтобы в возможно больших размерах пользоваться благами и удовольствиями этой жизни, или мы должны примкнуть к людям, которые ищут его в том, чтобы предвкусить блаженство будущей жизни? Если мы захотим примирить эти два направления и скажем, что нужно стремиться и к тому, и к другому, то в каких же размерах нужно сообразовать свою деятельность с каждым из этих направлений?
– Что должны мы думать о нашем веке, жадном до богатства? Как должны мы смотреть на то, что у нас все время и вся энергия поглощаются деловой жизнью, что ум наш делается рабом для удовлетворения потребностей тела, что мы растрачиваем всю жизнь лишь для того, чтобы приобрести средства жить? Следует ли все это считать наибольшим счастьем и действовать сообразно с таким мнением? Или мы должны руководствоваться предположением, что на все это следует смотреть как на прожорливость куколки, уподобляющей материал для развития насекомого?
Подобных неразрешенных вопросов можно задавать бесконечное множество. Следовательно, с теоретической точки зрения не только невозможно достигнуть согласия относительно средств для доставления людям «наибольшего счастья», но ясно также, что во всех тех случаях, которые требуют определенных понятий об этом наибольшем счастье, люди друг с другом вполне расходятся.
Таким образом, наш кормчий, направляя наш путь к этому так называемому «наибольшему счастью наибольшего числа живущих», не допускает до нашего слуха обетованное слово и не исполняет возбужденных им надежд. То, что он показывает в свой телескоп, это fata morgana[2], а не обетованная земля. Истинная пристань, к которой мы стремимся, лежит далеко за горизонтом, и никто еще не видел ее. Она за пределом зрения всякого наблюдателя, как бы он ни был дальнозорок. Не зрение, а вера должна быть нашим руководителем. Мы не можем оставаться без компаса.
§ 3. Основные положения философии пользы даже и тогда имели бы слабые стороны, если бы они не уничтожались неопределенностью их выражений. Если даже предположить, что цель пожеланий, т. е. «наибольшее счастье», правильно понимается, что все одинаково разумеют и его сущность, и его природу, что направление, в котором она находится, удовлетворительно определено, даже и в таком случае остается неразрешенным вопрос, возможно ли человеческому уму, предоставленному самому себе, определить, какими путями он может достигнуть этой цели, и возможна ли для такого определения хоть сколько-нибудь удовлетворительная точность. Ежедневный опыт показывает, что та же самая неопределенность существует как относительно цели, которая должна быть достигнута, так и относительно истинно верных приемов, которые должны быть употреблены для этого достижения, если цель известна.
Во время своего стремления к постепенному достижению различных частей великого целого, которое называется «наибольшим счастьем», люди менее всего имели «удачу»; меры, которые обещали всего больше хорошего, обыкновенно превращались в величайшие ошибки. Возьмем несколько случаев из действительности.
В Баварии было сделано постановление, что ни один брак не может быть дозволен между лицами, не имеющими капитала, за исключением случаев, когда власти убедятся, что желающие жениться «имеют основательную надежду обеспечить своих детей». Такое правило, безо всякого сомнения, имело в виду общественное благо и хотело положить предел легкомысленным союзам и чрезмерному увеличению населения. Цель эту многие политики признают похвальной, а средство они найдут вполне приспособленным к ее достижению. Это, по-видимому, остроумное средство, однако же, менее всего привело к цели; оказалось, что в главном городе государства, в Мюнхене, наполовину родилось незаконных детей!
Весьма важные причины и вполне достаточные основания побудили наше правительство создать на берегах Африки вооруженную силу для того, чтобы воспрепятствовать торговле невольниками. Можно ли было для «наибольшего счастья» найти что-нибудь более существенно необходимое, чем уничтожение этого возмутительного торга? Можно ли было ожидать, что эта цель не была достигнута вполне или отчасти с помощью сорока военных судов, содержание которых стоило ежегодно 700 000 ф. ст.? Результат оказался, однако же, менее всего удовлетворительным. Когда аболиционисты Англии защищали эту меру, они не полагали, что она не только не предупредит торговлю рабами, но что она увеличит ее ужасы, очень мало способствуя уменьшению ее размеров. Им не приходило в голову, что она породит быстрые суда для перевозки негров с палубами, между которыми расстояние – один фут и шесть дюймов[3], что люди будут умирать от задушения в таких помещениях, что они произведут ужасные болезни и что из ста человек будет умирать тридцать пять. Им не могло и присниться, что подобное судно, лишившись надежды избегнуть преследования, могло выбросить в море груз из пятисот негров. Могли ли они себе представить, что начальники близ берега, находящегося в блокаде, разочарованные в своих надеждах, велят убить двести мужчин и женщин, насадить их головы на копья и расставить в виде судов, вдоль берега?[4] Одним словом, они никогда не предполагали, что им придется говорить за отмену принудительных мер, как они это делают теперь.
Как велики и как очевидны были для работников обещанные им выгоды от ремесленных союзов – это было средство для устранения хозяев! Работники соединялись в промышленное товарищество, выбирали директоров, секретарей, казначеев, нарядчиков и т. д., одним словом, всех лиц, нужных для управления делом; они составляли организацию, приспособленную к справедливому распределению прибылей между членами товарищества. После этого было ясно, что огромные суммы, попадавшие в карманы хозяев, будут распределены между работниками и значительно увеличат их благосостояние. Однако же все попытки применить к делу эту весьма благовидную теорию приводили, так или иначе, к самым жалким ошибкам.
Другой пример представляет собой судьба благодетельного плана, предложенного Бабеджем в его книге «Экономия фабрик». План этот казался и благодетельным для работников, и выгодным для хозяев. По плану этому надлежало составить из фабричных рабочих товарищество, иметь агента для приобретения оптом товаров, которые более всего употреблялись, как-то: чая, сахара, свиного сала и т. д., и продавать их в розницу по тем же ценам, по которым они были приобретены, прикидывая к ним лишь столько, сколько необходимо для вознаграждения агента. После четырнадцатилетнего опыта дело, основанное для осуществления этой мысли, было оставлено с общего согласия всех участвующих; г. Бабедж сознался, что мнение, которое он высказал относительно пользы таких ассоциаций, значительно изменилось после сделанного им опыта; ряд неудач привел к постепенному упадку ассоциацию, сначала быстро развившуюся.
Спитафильдские ткачи представляют нам другой пример подобного рода. Не подлежит сомнению, что им трудно было не поддаться сильному соблазну, который понуждал их добиваться закона 1773 года, назначавшего минимум заработной платы; всем было ясно, что такой закон должен был привести к увеличению благосостояния этих рабочих. К несчастью, ткачи не сообразили, что вследствие этого закона им нельзя было работать по пониженным ценам; они не ожидали, что еще до наступления 1793 года более четырех тысяч станков будет остановлено вследствие того, что промышленность найдет для себя другие пути.
Чтобы оказать нужде помощь, явно необходимую для достижения «наибольшего счастья», английский народ издал более сотни парламентских постановлений, имевших в виду эту цель, и каждый из этих законов был последствием ошибок и неполноты предыдущих. Несмотря на это, и до настоящего времени все недовольны законами о бедных, и, по-видимому, мы более чем когда-либо далеки от приведения их в удовлетворительное положение.
К чему приводить отдельные случаи? Разве опыт всех народов не показывает тщетность эмпирических попыток для приобретения счастья? Разве собрание наших статутов (законов) заключает в себе что-либо иное, кроме перечня подобных несчастных покушений, сделанных наугад? Разве история не есть рассказ о неудачном исходе всех этих мер? Далеко ли мы ушли на этом пути в настоящее время? Разве наше правительство не завалено и в настоящее время работой до того, что можно было бы подумать, что фабрикация законов началась только со вчерашнего дня? Разве оно сделало какой-нибудь очевидный шаг к окончательному установлению социальных порядков? Разве оно не запутывается с каждым годом все более в сетях им же созданного законодательства, и разве оно не вносит с каждым годом все больший беспорядок в эту разнокалиберную массу постановлений? Можно сказать, что каждое новое действие парламента заключает в себе прикрытое признание своей некомпетентности. Нет почти ни одного закона, который бы не был озаглавлен так: «Указ в отмену указа». После слов «так как», которыми эти законы начинаются, следует мотив, который заключает в себе ни более ни менее как историю неудачи прежнего законоположения. Изменения, разъяснения и отмены законов – вот занятия каждого парламентского заседания. Все наши великие парламентские агитации имели целью отмену учреждений, создававшихся для общественного блага. Доказательством могут служить агитации для отмены законов, удалявших католиков от должностей, отмены Test and Corporation Acts; движения в пользу эмансипации католиков, для отмены хлебных законов; в настоящее время к ним можно присовокупить агитацию относительно отделения церкви от государства. История всех этих явлений совершенно единообразна. Сначала затевается закон, потом он испытывается, далее оказывается негодным; тогда в нем делается изменение, и еще раз следует неудача; затем является на свет то бестолковая пачкотня для исправления испорченного дела, то не способные к жизни попытки. Наконец, все отменяется, и является на место старого совершенно новый план, которому предназначено пройти по тому же пути и испытать ту же судьбу.
Философия пользы игнорирует этот мир с его поучительными явлениями. Люди постоянно обманывались при своих попытках обеспечить путем законодательства какую-либо из частей великого целого, называющегося «наибольшим счастьем»; несмотря на это, она продолжает верить беспомощному суждению государственных людей. Она не добивается руководителя; она не имеет эклектического принципа; она не отыскивает узла, чтобы можно было распутать запутанную сеть социального существования и раскрыть его законы. Она предполагает, что правительства, по исследовании явлений, из которых слагается народная жизнь, достаточно приготовлены для всяких полезных мероприятий. Ей кажется философское исследование человеческой жизни столь легким; социальная организация представляется ей такой несложной; побудительные причины, которыми руководствуется народ в своих действиях, по ее мнению, так очевидны, что для представителей так называемой «общественной мудрости» общее исследование этих предметов достаточно, чтобы сделать их способными к изданию законов. Она считает человеческий интеллект компетентным в этом деле. Она считает его способным к точному и верному исследованию проявлений человеческой природы в общественной жизни людей; она полагает, что он может сделать верную оценку свойств общества и отдельных личностей и действия, которое производят на людей религия, обычаи, предрассудки, предубеждения, что он может точно оценить умственное направление века, определить значение случайностей будущего и т. д. Ей кажется, что он может соединить в своем воображении в единое целое все разнообразные явления этого вечно взволнованного, вечно меняющегося моря жизни и почерпнуть из этого целого те познания, те принципы управления, которые сделают его способным решать, какое влияние на людей будет иметь та или другая мера и приведет ли она к «наибольшему счастью наибольшего числа».
Представьте себе, что Ньютон вместо того, чтобы исследовать свойства земли, прямо приступил бы к изучению небесной механики. С телескопом в руках он употребил бы многие годы на определение расстояний небесных тел, их величины, движения, наклонности оси, формы орбиты, возмущения и т. д. Он записал бы эту массу собранных наблюдений и начал бы выводить из них основные законы равновесия планет и звезд. Он копался бы до бесконечности и не пришел бы ни к какому результату.
Не подлежит сомнению, что такой прием исследования не имел бы смысла, но он был бы все-таки гораздо рациональнее попытки раскрыть принципы общественной жизни путем непосредственных наблюдений над этой поражающей своей запутанностью комбинацией, которую называют обществом. Нисколько не удивительно, если законодательство, основанное на теориях, выработанных таким способом, делает ошибки. Скорее можно было бы крайне удивляться, если бы его деятельность оказывалась успешной. Наше понятие о человеке – самое несовершенное, а между тем человек – орудие, которым действует законодательство, и предмет, для которого оно создается. Полное знание отдельно человека было бы, однако же, только первой ступенью для изучения массы людей, называемой обществом. После этого совершенно ясно, что вывод начал истинной философии общественной жизни из бесконечно разветвленных комбинаций всемирного человечества составляет задачу, которая выше способностей ограниченной души, поэтому и составление правил для достижения «наибольшего счастья» на подобном основании недоступно этим способностям.
§ 4. Еще одно возражение, гибельное для философии пользы, заключается в том, что она предполагает вечное существование управления. Несомненная ошибка – предполагать, что управление должно существовать всегда. Учреждение это характеризует известное состояние человеческой цивилизации, оно естественно для известного фазиса человеческого развития. Оно принадлежит к разряду явлений случайных, а не неизбежных.
У бушменов мы находим состояние, предшествующее гражданскому устройству; возможно и такое положение общества, где гражданское устройство угаснет. Оно уже и теперь потеряло отчасти свое значение. Было время, когда история народа состояла из истории его правительства. Теперь мы видим совершенно иное. Когда-то общераспространенный деспотизм был проявлением крайней необходимости в стеснениях. Феодальная система, крепостная зависимость, рабство, – все эти деспотические учреждения суть не что иное, как крайне сильные образы правления, которых необходимость вытекала из испорченности человека. Прогресс по отношению к этим учреждениям приводил во всех случаях к одному и тому же – к ослаблению власти правления. К этой цели направлены и конституционные формы, и политическая свобода, и демократия. Общества, ассоциации, товарищества заключают в себе новые формы для достижения целей, которые в более варварские времена и в странах, стоящих на более низкой ступени цивилизации, нуждаются в деятельности правительства. У нас законодательная власть ослабляется более новыми и могущественными силами – она перестает быть господином и делается слугой. Давление извне достигло теперь того, что уже признается окончательным источником правления. Торжество Лиги против хлебных законов[5] – ни более ни менее, как один из самых видных образцов новых приемов управления; значение общественного мнения берет верх над прежним двигателем, над силой. Все это заставляет предполагать, что зависимость законодателя от мыслителя сделается общепризнанным началом. Число приверженцев власти государства уменьшается день ото дня. Даже «Times» видит, что «общественными переменами, окружающими нас, устанавливаются истины, которые менее всего подают законодательной власти повод возгордиться»; она замечает, что «пути, по которым направляется прогресс, зависят не от биллей, предлагаемых в парламенте, не от законов, которые издаются, не от того, что происходит в области политики или государства, а от непосредственной деятельности общества и от той связи, в которой эта деятельность находится с успехами искусств и наук, от природных влияний и многих других подобных причин, вовсе не политического свойства»[6].
Таким образом, государственная власть упадает в той же степени, в какой развивается цивилизация. Власть эта необходима для дурных людей, для хороших она излишняя. Это – стеснение, которое создает для себя народная слабость, и стеснение это прямо пропорционально степени слабости. Существование власти доказывает, что еще не пришел конец варварства. Закон для узкого эгоиста – то же, что для дикого зверя клетка. Ограничение необходимо для дикого, для грабителя, для склонного к насилию; для человека справедливого, доброжелательного, великодушного оно излишне. Всякая потребность во внешней силе указывает на болезненное состояние. Тюрьма нужна для преступника, смирительная рубашка – для помешанного, костыли – для хромого, корсет – для страдающего слабостью позвоночного хребта, для бесхарактерного нужен распорядитель, для ограниченного – руководитель; но ничего подобного не нужно для человека, у которого здоровая душа находится в здоровом теле. Тюрьмы были бы излишни, если бы не было воров и убийц. Армии у нас существуют только потому, что тирания господствует теперь на земле. Адвокаты, судьи, присяжные – все орудия закона необходимы только по причине существования плутовства. Судебная власть есть последствие социальной порочности; полиция и преступник – это целое, в котором одна часть служит необходимым дополнением другой. Таким образом, то, что мы называем правительством, есть не что иное, как неизбежное зло.
Каково же должно быть наше мнение о системе нравственности, для которой эти преходящие учреждения служат основанием, которая предполагает их вечными и создает в этом предположении длинный ряд заключений? Материалами для своей постройки она избирает парламентские постановления, а государственных людей обращает в своих зодчих. Таков образ действий философии пользы. Она избирает правительство себе в товарищи, дает ему полное право контроля над своим делом; по мнению этой системы, все должно быть предоставлено суждению правительства; одним словом, она делает из правительства жизненный принцип, существо и душу своего учения. Если Палей утверждает, что интересы всего общества обязательны для каждой его части, то, следовательно, он предполагает существование власти, которая бы определяла, в чем должен заключаться этот интерес всего общества. В другом месте он выражает свою мысль еще яснее: он утверждает, что воля отдельного лица должна уступить, когда дело идет об интересе всей нации; интерес же нации определяется законодательной властью. Бентам выражается еще решительнее. Он утверждает, что счастье отдельных личностей, из которых составляется общество, их радости, их спокойствие и их безопасность – вот единственная цель, которую законодательство должно иметь в виду; законодательство в пределах, в которых это от него зависит, должно заставлять отдельные личности сообразовать свое поведение с этим единственным руководящим правилом. Эти места из сочинений упомянутых философов избраны не произвольно, они вытекают из самого основания, на котором построена их система. По их мнению, «польза» должна вести к благу масс, а не к благу отдельного лица; она должна вести к благу как настоящих, так и будущих поколений. Ясно, при таком положении, что кто-нибудь должен же решать, какие пути должны вести к такому благу. Взгляды на пользу той или другой меры до такой степени различны, что они делают управление существенно необходимым. Относительно запретительных тарифов, государственной церкви, смертной казни, законов о бедных существуют прямо противоположные мнения; способствуют ли эти учреждения общему благу или нет – на этот вопрос даются такие различные ответы, что дело не подвинулось бы ни на шаг до конца времен, если бы в этом нельзя было ничего сделать прежде, чем воспоследует единодушное согласие всех. Если бы независимо от государственной власти каждый приводил в исполнение свои взгляды на то, что он считает лучшим обеспечением для «наибольшего счастья наибольшего числа живущих», в обществе очень скоро водворилось бы безысходное замешательство. Если учение о нравственности основано на правилах, которые при практическом применении порождают споры и противоположные взгляды, то понятно, что необходима для его осуществления известная власть, которая имела бы право окончательного решения, т. е. законодательство. Без такой власти нравственное учение должно оставаться недействительным.
Таким образом, дело ставится вот в какое положение. Система нравственной философии должна заключать в себе собрание истин и руководящих правил для определения направлений человеческой деятельности – правил, приспособленных для руководства как наилучших, так и наихудших членов человеческого рода. Если они истинны, то они должны быть способны руководить человечеством и по достижении наибольшего совершенства, какое мы можем себе представить. Правительство же есть учреждение, порожденное человеческим несовершенством; всеми признано, что учреждение это порождено необходимостью ограждать себя от зла; это – учреждение, от которого можно было бы избавиться, если бы мир был населен несебялюбивыми, добросовестными и доброжелательными людьми; одним словом, это учреждение, несовместимое с упомянутым «крайним пределом человеческого совершенства». После этого можно ли признать систему нравственной философии истинной, если необходимость правительства лежит в основании этой системы?
§ 5. Итак, первое, что можно сказать о философии пользы, – это то, что она не имеет права на научное значение: она не основана на аксиомах, а выражает только задачи, которые подлежат разрешению.
Если даже согласиться, что ее основные положения заключают в себе аксиомы, и в таком случае ими нельзя довольствоваться, потому что они выражены словами, не имеющими единого, всеми признанного смысла.
Если бы философия «пользы» была удовлетворительна во всех других отношениях, то она все-таки будет лишена всякого значения до тех пор, пока для ее практического применения необходимо будет всеведение.
Если мы даже не обратим внимания на все другие возражения, то мы все-таки вынуждены будем отказать в нашем признании учению, которое в одно и то же время стремится создать совершенное и принимает несовершенство себе в основание.
1
его преемник… – Людовик XVIII. (Здесь и далее курсивные комментарии составлены Александрой Смирновой.)
2
фата-моргана – мираж, при котором оказываются видимыми предметы, скрытые за горизонтом.
3
один фут и шесть дюймов – около 46 см.
4
См. «Anti-slavery’s society’s report for 1847» («Отчет общества для противодействия распространению рабства за 1847 г.») и «Evidence before parliamentary Committee», 1848 («Показания, данные в комитете парламента»).
5
Лига против хлебных законов – организация, основанная Ричардом Кобденом и Джоном Братом в 1839 г. для пропаганды идеи отмены «хлебных законов» – ключевого элемента протекционистской системы тогдашней Великобритании. Отмена «злебных законов» в 1846 г. ознаменовала начало политики свободы торговли в Великобритании и Европе.
6
См.: «Times». 12 октября 1846 г.