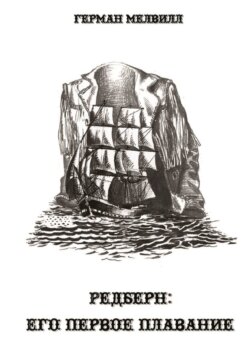Читать книгу Редберн: его первое плавание - Герман Мелвилл - Страница 10
Глава VIII
Он зачислен в вахту по левому борту, страдает от морской болезни и рассказывает о некоторых других своих испытаниях
ОглавлениеУже стемнело, когда внезапно матросам приказали явиться на квартердек, и я, конечно, пошёл с ними.
Что-то должно произойти, подумал я, и скоро узнал, что именно. Оказалось, что нас решили развести по вахтам. Старший помощник начал с того, что выбрал крепкого красивого матроса для своей вахты, а затем подошла очередь второго помощника выбирать, и он так же выбрал крепкого красивого матроса. Но им был не я, нет, и я заметил, что пока оба помощника продолжали выбирать одного за другим, регулярно меняясь, они даже ни разу не посмотрели на меня, а продолжали отбор среди остальных, всматриваясь в их лица, а из-за того что были сумерки, рекомендовали им не прятаться в своих жакетах. Но матросы, особенно красивые и крепкие, казалось, сочли для себя обязательным лениво бродить из стороны в сторону, как только получится, и надвигать свои шляпы на глаза, и хотя это, возможно, было только моим воображением, я, конечно, решил, что они напустили на себя вид барственного безразличия относительно вахт, в которые их собирались зачислить, и не думали, что стоит как-либо беспокоиться по этому вопросу. И те же самые люди, которые за несколько минут до этого показали, по большей части, живость и быстроту в лазании по снастям и выбегании наверх по команде, теперь бездельничали напротив борта и смотрелись весьма ленивыми, как будто они были совершенно уверены, что к этому времени офицеры уже знают, кто лучше, и ценили себя настолько высоко, что желали предоставить офицерам задачу найти их, ведь если они чего-то стоили, то их стоило поискать.
Наконец, были отобраны все, кроме меня, и настала очередь выбирать старшему помощнику, впрочем, выбор в моём случае, поскольку я оказался тринадцатым, был небогат, и пришла пора перейти к следующей колонне, но моя странная фигура вынесла меня вперёд для окончательного решения задачи.
«Ну, Пуговка, – сказал старший помощник, – я думал, что избавился от тебя. Итак, г-н Ригс, – добавил он, обращаясь ко второму помощнику, – я полагаю, что вы должны взять его в свою вахту, – здесь я отдам его вам, и тогда вы станете более сильным, чем я».
«Нет, благодарю вас», – сказал г-н Ригс.
«У вас есть лучшее, – сказал старший помощник – видите, он с виду неплохой парень – он немного зелен, что и говорить, но вы сами были когда-то таким же, вы это знаете, Ригс».
«Нет, благодарю вас, – повторил второй помощник. – Возьмите его сами – он ваш по праву, я не хочу его». И затем они отдали меня помощнику начальника вахты левого борта. Пока происходила эта сцена, я чувствовал себя довольно неприятно, я стоял там просто как глупая овца, по которой заключают сделку два мясника. Ничего более, чем эта сцена, не напомнило мне о том, где я был, и куда я пришёл. Я был очень рад, когда они послали нас снова вперёд.
Пока мы шли, второй помощник окликнул одного из матросов по имени: «Это ты, Билл?» – и Билл ответил «Сэр?» точно так же, как если бы второй помощник был урождённым джентльменом. Меня немало удивило, когда я увидел, что к человеку в таком потёртом, ворсистом старом жакете обращались так почтительно, но я был так же весьма удивлён, когда я услышал, что старший помощник называл его г-ном Ригсом во время сцены на квартердеке, как будто этот г-н Ригс был великим торговцем, живущим в мраморном доме на площади Лафайета. Но до меня не очень долго доходило, что в море все офицеры – господа, и они приняли бы за оскорбление, если бы какой-нибудь моряк предложил опустить такое их наименование. И это тоже одно из их прав и привилегий, согласно которым их называют сэрами при обращении – да, сэр; нет, сэр; да, да, сэр; и они столь же беспокоятся об этом, как появившиеся на свет рыцарями и баронетами, пусть даже их титулы не наследственные, как это имеет место с сэром Джонсом и сэром Джошуасом в Англии. Но поскольку второй помощник в этом заинтересован, то его несёт поток достоинств, которыми он наслаждается, из-за этого в целом он олицетворяет молодой задор, который свойственен команде. Его никогда не считают компанией для капитана, как иногда старшего помощника, по крайней мере в палубной компании, не смотрящей на кают-компанию; и, помимо этого, второй помощник должен завтракать, обедать, ужинать и вкушать с остатков стола в каюте, и даже стюард, кто не ответствен ни перед кем, кроме капитана, иногда имеет дело с его высокомерием; и он должен бежать наверх, когда топсели зарифлены, и попадать своей рукой прямо вниз в ведро со смолой, и держать ключ от боцманского шкафчика, и подниматься и нести шары от марлиня и бензельные тросы для матросов, когда те работают с оснасткой, помимо выполнения множества других вещей, на которых в любом случае урождённый баронет закончился бы и отбросил бы свой титул, нежели продолжал стоять на пьедестале.
После разделения на вахты нас послали ужинать, но я не смог съесть ничего, кроме небольшой булочки, хотя мне хотелось испить немного хорошего чая, но поскольку у меня совсем не было чашки, чтобы налить его, то я был скорее озабочен тем, чтобы попросить грубых матросов позволить мне пить из их чашек, и был вынужден обойтись без живительного глотка. Я надумал подойти к темнокожему повару и спросить оловянную чашку, но тут он глянул так дерзко и угрожающе, что его вид почти заставил меня отказаться от этой затеи.
Когда ужин был закончен, из-за того что никто не попросил чаю на борту судна, вахту, к которой я принадлежал, вызвали на палубу и сказали, что это делается ради нас, чтобы мы выдержали первые ночные часы, то есть от восьми часов до полуночи.
Затем я начал ощущать себя расстроенным и почувствовал боль в животе, как будто там переворачивались все вопросы, и чувствовал себя странно, и голова кружилась, и потому я не сомневался, что это было началом ужасной вещи, морской болезни. Чувствуя себя всё хуже и хуже, я сказал одному из матросов, что происходит со мной и попросил его очень вежливо передать мои оправдания старшему помощнику, поскольку я решил спуститься и пролежать ночь на своей койке. Но он только посмеялся надо мной и сказал что-то о моей матери, не сознавая моих чувств, что привело меня в немалую ярость, поскольку человек, которого я слышал, ругался так ужасно, что не должен был сметь произносить такое святое имя своими устами. Это казалось каким-то богохульством и извлечением самых трогательных и заветных тайн моей души, поскольку в то время имя матери было центром всего моего самого прекрасного сердечного чувства, которое я научился держать в секрете в глубине своей души.
Но внешне я не стал негодовать на слова матроса, поскольку это могло принести мне вред.
Этот человек был гренландцем по происхождению с очень белой кожей в тех местах тела, где солнце её не сожгло, и красивыми голубыми глазами, обособленно и широко расставленными на его голове, широким добродушным лицом и множеством льняных вьющихся волос. Он был не очень высок, но чрезвычайно крепко сложен, несмотря на свою подвижность, и его спина была так же широка, как щит, и между его плечами была широкая ложбина. Он, казалось, был своего рода леди среди матросов, поскольку на своём жаргонном английском всегда говорил о приятных леди, с которыми знался в Стокгольме и Копенгагене и в месте, называемом им Хук, которое сначала я представлял себе местом, где живут люди с ястребиными носами, которые охотятся с охотничьими ружьями на любую добычу, что попадётся. Он был одет весьма со вкусом, так, как будто бы знал, что был красавцем. У него была новая синяя шерстяная тельняшка из Гавра и новый шёлковый платок вокруг шеи, который пронзала позвоночная акулья кость, тщательно вырезанная и отполированная. Его штаны были цвета чистой белой утки, и он носил красивые туфли и брезентовую шляпу, блестящую, как зеркало, с длинной чёрной лентой, вьющейся позади и время от времени запутывавшейся в снастях, и у него были золотые якоря в ушах и серебряное кольцо на одном из пальцев, очень потёртое и погнутое из-за натягивания верёвок и другой работы на борту судна. Я решил, что ему, возможно, лучше было бы оставлять свои драгоценности дома.
Прошло много времени, прежде чем я мог воспринять, что этот человек был действительно из Гренландии, хотя он тогда для меня выглядел достаточно странно, как прилетевший с Луны, и у него было много историй об этой далёкой стране: как они проводили там зимы, и как стоял сильный мороз, и как он раньше ложился спать и спал двенадцать часов и вставал снова, и бегал, и ложился спать снова, и вставал снова – не имея никакого понятия о времени, ведь постоянно стояла ночь; из-за зимы в его стране, говорил он, ночи длились столько недель, что иногда ребёнку в Гренландии уже исполнялось три месяца, прежде чем можно было сказать, что прошёл день. Я прежде видел упоминания об этом в книгах о путешествиях, но то было только чтением о них, как чтение «Арабских ночей», которым никто никогда не верит, но, так или иначе, когда я читал об этих замечательных странах, то действительно никогда раньше не верил тому, что я прочитал, а только понимал, что всё это очень странно, весьма странно, чтобы быть правдой, хотя я никогда не думал, что люди, которые написали означенную книгу, говорили неправду. И пусть я не знаю точно, как объяснить то, что я имею в виду, но скажу больше: я никогда не верил в Гренландию, пока не увидел этого гренландца. И вначале, слыша, что он говорит о Гренландии, я становился ещё более недоверчивым. Что за дело было у человека из Гренландии в моей компании? Почему он не был дома среди айсбергов, и как он мог выдержать тёплое летнее солнце и не растаять? Кроме того, у него вместо сосулек были серьги, свисавшие с ушей, и он не носил медвежьи шкуры и не держал свои руки в огромной муфте, предмете, который не мог помочь связать его с Гренландией и всеми гренландцами. Но я говорил о том, что я страдал морской болезнью и желал удалиться на ночлег. Этот гренландец, увидев, что я болен, добровольно предложил обратиться к доктору и выле чить меня, поэтому, спустившись в бак, он вернулся с коричневым кувшином, вроде кувшина для патоки, и небольшой оловянной кружечкой, и, как только коричневый кувшин оказался возле моего носа, мне уже не нужно было сообщать, что в нём было, из-за того что чувствовался запах винокурни, конечно же, наполненной ямайским спиртом.
«Теперь, Пуговка, – сказал он, – одна небольшая доза этого будет тебе полезней, чем целая сонная ночь, вот, прими это сейчас и затем съешь семь или восемь булочек и будешь чувствовать себя таким же крепким, как грот-мачта».
Но я чувствовал, что этого очень мало, поскольку у меня были некоторые сомнения в отношении выпитого спиртного, и скажу простую правду, поскольку я не стыжусь её: ведь в деревне, где жила моя мать, я был членом общества, называемого Всеобщей юношеской ассоциацией трезвости, в котором мой друг Том Легейр состоял президентом, секретарём и казначеем и держал казну в небольшом кошельке, связанным для него его кузеном. Я верю, что у него было три и шесть пенсов под рукой в последний раз, когда он производил ревизию казны Первого мая и когда у нас была встреча в роще на берегу реки. Том был очень честным казначеем и никогда не тратил деньги общества на арахис и, помимо всего, был прекрасным, щедрым мальчиком, которого я очень любил. Но сейчас не стоит говорить о Томе.
Когда Гренландец пришёл ко мне со своим медицинским кувшином, я поблагодарил его, как смог, как раз тогда я отвернул свой рот в сторону, чувствуя, что готов умереть, но мне удалось сказать ему, что нахожусь под контролем торжественного обязательства никогда не пить алкоголь безотносительно к обстоятельствам; впрочем, поскольку у меня появилось своего рода предчувствие, что на сей раз алкоголь принесёт мне пользу, я начал чувствовать себя виноватым от того, что когда я подписался соблюдать трезвость, то не позаботился вписать маленький пункт, позволяющий мне выпить алкоголь в случае морской болезни. И я советовал бы людям умеренным проявлять внимание к этому вопросу в будущем, и тогда, если они решат выйти в море, то не будет никакой потребности в нарушении их обещания, что имело место со мной, о чём мне действительно неприятно говорить. И нужно было твёрдо держать обет, прежде чем его нарушить, тем более что «Ямайка» подвергала бы любого неприятному испытанию и действительно сожгла мой рот так, что я не смог смаковать свою еду в течение некоторого последующего времени. Даже когда я снова стал вполне здоров и силен, то задавался вопросом, откуда у матросов взялось такое лекарство, но у многих из них, помимо Гренландца, были кувшины с ним, которые они взяли с собой в море, чтобы расслабляться, как они это называли. Но это расслабление длилось не очень долго, поскольку «Ямайка» полностью вышла на второй день, и кувшины были выброшены за борт. Интересно, где они теперь?
Но, по правде говоря, я обнаружил, что, несмотря на его острый вкус, алкоголь, выпитый мною, был простой вещью, в которой я нуждался, но я предполагаю, что если бы я получил чашку хорошего горячего кофе, то она дала бы подобный результат и, возможно, намного лучший. Но его не могло быть в тот ночной час и воистину в любое другое время; напитком, называемым кофе, который нам давали каждое утро на завтрак, было весьма любопытное на вкус пойло, которое я когда-либо пил, и на вкус так же мало напоминало кофе, как и лимонад, хотя, что и говорить, он был обычно так же холоден, как лимонад, и я тогда решил, что у повара был лед́́ ник, и он клал лёд в этот кофе. Но, что было ещё более любопытным, он каждое утро был разным по качеству и вкусу. Иногда вкус кофе был подозрительным, подобно отвару от голландских сельдей, и также был очень солёным, как будто в нём была сварена некая старая лошадь или морская говядина, и затем снова появлялся вкус сыра, как будто капитан послал ему для изготовления кофе сырные обрезки, а в другое время имел такой скверный аромат, что я почти решил, будто в нем варились какие-то старые каблуки. Сколько их было сделано под небесами, сколько было разных плохих ароматов, всегда оставалось в тайне – работая по своему призванию, наш старый повар лично держал их под замком в своём камбузе, небольшой кухне, и никогда не выдавал ни одной из своих тайн.
Он и был для всех нас по характеру очень серьёзным, как я расскажу после, и, возможно, по аналогичной причине очень подозрительным с виду поваром, относительно которого трудно было поверить, что он когда-то преуспевал по части кулинарии в Делмонико в Нью-Йорке. Для повара было удачей, что он был темнокожим, поскольку я не сомневаюсь, что цвет его кожи мешал нам увидеть его грязное лицо! Я никогда не видел его моющимся, кроме одного раза, и это происходило в одной из его собственных суповых кастрюль в одну из тёмных ночей, когда он думал, что никто не видит его. Что тогда побудило его помыть лицо, я так и не узнал, но я предположил, что он, должно быть, внезапно проснулся, после того как увидел во сне реальное состояние своих щёк. Что касается его кофе, то, несмотря на непривлекательность его аромата, меня тогда каждое утро охватывало странное желание узнать, каким окажется новый вкус, и, без сомнения, я никогда не избегал возможности сделать новое открытие и, ощущая очередной вкус своим небом, никогда не находил какого-либо изменения во вредоносности напитка, который всегда казался столь же уважаемым, как и прежде.
Из этого следует вывод, что когда я страдал от морской болезни, чашка того кофе, что варил наш старый повар, не принесла бы мне ничего хорошего, если только не прикончила бы меня. И плохо было то, что его никак не могло быть в тот ночной час, о чём я говорил прежде, и я думаю, что меня можно простить за принятие чего-то ещё вместо кофе, что я и сделал, и при этих обстоятельствах было бы некрасиво для моих товарищей по Обществу трезвости упрекать меня за нарушение моего обещания, которого я никогда не совершил бы, кроме как по необходимости. Но тогда злостное нарушение обещания, как и в любом случае вообще, было засвидетельствовано, поскольку оно коварно открывало путь к его последующему нарушению, которое, пусть и очень небольшое, всё же не оправдывает меня перед ними.