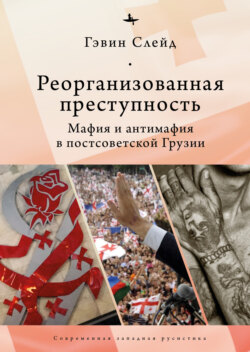Читать книгу Реорганизованная преступность. Мафия и антимафия в постсоветской Грузии - Гэвин Слейд - Страница 8
2. Устойчивость и упадок мафиозных организаций
Очень краткая история советских воров
ОглавлениеВ марте 2007 года президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к парламенту с посланием о положении дел в стране. В 2005 году правительство Грузии ввело в действие политику борьбы с мафией, и теперь, похоже, настало время объявить о победе. Говоря о ворах в законе, Саакашвили заявил:
Костяк системы криминальных авторитетов сломан… некоторые из сидящих в этом зале говорили, что парламент маленькой независимой Грузии вряд ли сможет сделать то, что не смог сделать сам Сталин. Я хотел бы сообщить вам сегодня, что… десятки криминальных авторитетов предстали перед судом и были изолированы от общества [President’s Office 2007].
Советского диктатора Иосифа Сталина, являвшегося этническим грузином, Саакашвили упомянул не случайно: воры в законе возникли в трудовых лагерях ГУЛАГа 1930-х годов [Солженицын 1974; Чалидзе 1977; Шаламов 1994; Эпплбаум 2015]. В расширяющейся лагерной системе Советского Союза при Сталине воры в законе составляли преступное братство, возглавлявшее тюремную иерархию. Такие иерархии существовали и до Советского Союза. До революции существовала категория воров, но она не была высокой и имела двадцать пять подкатегорий [Oleinik 2003:64]. По мере того как после революции тюремное общество перестроилось, одна из этих подкатегорий, урки, в конечном счете заняла в иерархии первое место. Выражение вор в законе стало титулом для тех, кто его получил, достигнув вершины тюремной иерархии, и таким образом были ассимилированы многие аспекты культуры урок. Именно в это время, в первые годы ГУЛАГа, возникли основные аспекты так называемого воровского мира — социального института иерархий, норм и ритуалов. Эти основные аспекты вкратце описаны ниже.
Слова «в законе» в именовании соответствующих воров служат отсылкой к кодексу чести, также известному как «понятия». Воры должны были придерживаться этого закона, подчиняясь ему так же, как это делают члены монашеского ордена [Tevzadze б.д.]. Наиболее важными положениями этого закона были:
– вор в законе никогда не должен работать, теперь или когда-либо, в тюрьме или за ее пределами;
– вор в законе не должен жениться, заводить семью или поддерживать семейные связи;
– вор в законе не должен сотрудничать с государством ни
в какой форме;
– вор в законе должен участвовать в криминальном общем фонде (известном как общак) и воровских судах (известных как сходки);
– вор в законе должен быть честен с другими ворами;
– вор в законе должен быть предан воровской идее;
– вор в законе должен привлекать новых рекрутов, особенно из числа молодежи;
– вор в законе должен контролировать свою тюрьму и вводить там воровскую юрисдикцию, то есть превращать эту тюрьму в «черную» [Serio, Razinkin 1994; Подлесских, Терешонок 1995; Гуров 1995; Varese 2001; Глонти, Лобжанидзе 2004].
Из этих основных правил вытекало много других, касающихся таких вещей, как игра в карты и поведение с заключенными других рангов1. Практики, которые были сформулированы на основе этих правил, были в высшей степени ритуализированы. Братство собирало общие ресурсы, определяло права и обязанности членов друг перед другом, осуществляло взаимный контроль и предоставляло поддержку, охраняло границы своей группы [Гуров 1995; Varese 2001; Volkov 2002; Oleinik 2003; Глонти, Лобжанидзе 2004].
Инициация представляла собой сложную процедуру (см. главу 6), включающую в себя «коронование» кандидата. В Грузии [15] эта процедура называется «крещение». Тот, пройдя ее, становился вором в законе, и его ближайшие помощники были известны как блатные и являлись главными носителями и распространителями криминальной субкультуры. Представители этой субкультуры были разделены на ранги, именуемые «масти», подобно тому, как это сделано в игре в карты. После инициации воры в законе были формально равны по статусу и объединялись друг с другом для рекрутирования и инициирования новых членов, осуществления наказаний, а также «развенчивания», то есть снятия титула вора в законе с тех, кто нарушил воровской кодекс.
Обмен информацией был ключевым элементом расширения воровского мира в тюрьмах, а также стандартизации нормативных рамок и передачи ритуалов из одного места заключения в другое. Свою роль в этом играла и играет до сих пор ритуальная татуировка, а также рассылка своего рода информационного бюллетеня, известного как малява или воровской прогон. Благодаря такой практике ценности, ранги и правила воровского мира воспроизводились по всем тюрьмам. Индивидуальная репутация и статус были столь же подвижны, как и воровские нормы. Так, работавший в начале 1930-х годов с другими заключенными на Беломорканале Д. С. Лихачев описал «общие “коллективные представления”, которые делают поразительно похожими воров различных национальностей» [Лихачев 1935: 56].
Воры в законе тогда, как и сейчас, возглавляли тюремную иерархию и делегировали полномочия тем, кто находился непосредственно под их управлением. Последние известны как авторитеты. Воры вымогают деньги у занимающих подчиненное положение заключенных и коллективно объединяют ресурсы в общий фонд, известный как общак. Их помощники, именуемые смотрящие или, по-грузински, макурэбэли, следят за денежными ресурсами воров и блюдут их интересы[16]. Смотрящие – это прямые представители воров в законе. Они могут присматривать за общаком в камере или тюрьме, регулировать доступ к нему, оказывать поддержку содержащимся в тюремной больнице, а также контролировать карточные игры.
Смотрящие также руководят деятельностью тех, кому поручено выполнять для воров текущую работу. Такие люди называются шестерки, они собирают деньги, другие ресурсы, исполняют наказания, а также устраивают беспорядки, если им дано такое задание. Шестерки обычно входили в более крупную группу тех, кто поддерживал воров и отказывался работать, – таких называли хорошлаки, или, по-грузински, кай бичеби, то есть члены мафии. Далее следуют многочисленные категории заключенных из низших слоев тюремного общества. Одна из них – так называемые мужики, то есть «трудяги». Они не поддерживают воровской закон, выполняют различные работы и часто подвергаются эксплуатации. Ниже мужиков стоят козлы, заключенные, имеющие дурную репутацию и, возможно, являющиеся осведомителями или сообщниками администрации тюрьмы. На самом дне находятся опущенные — пониженные в звании – такие как гомосексуалисты, известные как петухи, и педофилы. Они считались самой низкой категорией заключенных, их никто не уважал, и все остальные помыкали ими [Долгова 2003: 355-56; Oleinik 2003; Глонти, Лобжанидзе 2004: 163].
Мириады правил регулировали отношения между различными категориями заключенных. Это касалось многих аспектов тюремной жизни, включая то, где люди спят, с кем едят, а также таких вопросов, как пользование и владение имуществом. Воры в законе, смотрящие, сторожа и хорошлаки считались живущими по понятиям, или, по-грузински, гагебаши. Понятия – это кодекс чести воров, их закон. Нижестоящие трудяги, козлы и петухи считались «мастями» более низкого уровня, по понятиям не живущими.
Эта иерархия сохранялась в советских тюрьмах и лагерях десятилетиями, претерпевая, впрочем, некоторые изменения. Период до 1940-х годов представляет собой время, когда воровской мир сохранял единообразие – с внутренними различиями, объясняемыми либо этнической принадлежностью, либо иными причинами, сглаживаемыми общим подчинением воровскому кодексу. Однако после окончания Второй мировой войны единообразие воровского мира, потрясенного до основ войной как таковой, подверглось испытанию на прочность. Нуждаясь в дополнительных людских ресурсах для остановки натиска фашистов в ходе их операции «Барбаросса» в 1941 году, Сталин освободил из лагерей часть заключенных для службы в так называемых штрафных батальонах. Тех воров в законе, которые ушли на фронт воевать с нацистами, коллеги обвинили в предательстве исконного воровского кодекса, запрещавшего иметь дело с государством, и, когда те вернулись в лагеря ГУЛАГа после войны, определили их статус словом «суки».
Так называемая сучья война, которая началась после Второй мировой войны между традиционными ворами, также известными как законники, и теми суками, которые нарушили кодекс, фактически уничтожила преступное братство. Это был, однако, не просто конфликт, который ослабил воров. Внутренние противоречия и негибкость воровского кодекса затрудняли следование ему во времена смуты. Глонти и Лобжанидзе предполагают, что в это время всеобщего дефицита чрезмерно усилилось вымогательство всего и вся у тюремных рабочих, то есть мужиков, которые в результате усилили свое сопротивление законникам [Глонти, Лобжанидзе 2004: 33–41]. Кроме того, массовый приток закаленных в боях арестантов, попавших в лагеря во время сталинской послевоенной паранойи, создал в них группы, которые примкнули к сукам. Сговор сук с лагерными властями также принес им в администрации влиятельных друзей, которые видели в законниках общего врага.
Последовавшие за окончанием Второй мировой войны изменения в Уголовном кодексе нанесли ворам в законе еще более сильный удар. Государственная собственность на имущество означала, что воровство является преступлением против государства и должно быть сурово наказано. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» послужил поводом для казни многих воров [Глонти, Лобжанидзе 2004: 37]. Начавшаяся политика десталинизации с самого своего начала не предполагала остановки наступления на воров в законе. К 1956 году на Северном Урале в Соликамске был создан исправительно-трудовой лагерь ИТК-6, предназначенный для содержания исключительно воров в законе, для того чтобы отделить их от основной массы обычных заключенных. Таким образом, к концу 1950-х годов институт воров в законе был настолько ослаблен, что практически прекратил свое существование.
Тем не менее, как указал Чалидзе,
несмотря на официальные заявления, преступный мир сохранился до наших дней, особенно его сектор, известный как воровской мир, который заслуживает того, чтобы считаться социальным институтом, поскольку он обладает внутренней сплоченностью и собственным этическим кодексом» [Chalidze 1977: 34].
К этому позднему советскому периоду «коллективные представления» 1930-50-х годов, описанные ранее Лихачевым, начали распадаться по этническому признаку. К 1985 году Министерство внутренних дел Советского Союза отметило этническое различие и продолжающуюся борьбу между славянскими ворами и грузинами [Глонти, Лобжанидзе 2004:125]. Главным фактором, испортившим отношения, стало отношение к воровскому кодексу. Грузины стали охотно заводить семьи и создавать династии, накапливать богатства и владеть собственностью [Serio, Razinkin 1994; Долгова 2003; Oleinik 2003][17].
У воров в законе появлялось все больше возможностей становиться богатыми. Период пребывания Л. И. Брежнева на посту Генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза (1964–1982) был временем экономического застоя с острым дефицитом множества товаров. Благодаря этому «вторая экономика» выросла до огромных размеров, особенно в периферийных республиках, таких как Грузия и Узбекистан, где местная советская администрация организовала преступные группы с целью хищения государственных ресурсов. Воры в законе взаимодействовали друг с другом, распоряжаясь общими ресурсами, доступ к которым имели только они. В Грузии 1970-х годов вышедшие на свободу воры в законе начали в частном порядке осуществлять защиту и покровительство на бурно развивающемся черном рынке Советского Союза. В Грузии, по сравнению с большинством других советских республик, этот рынок оказался развит сильнее [Feldbrugge 1989; Alexeev, Pyle 2003]. Обеспечивая защиту и арбитраж действующим лицам черного рынка, воры в законе стали заметными фигурами в теневой экономике Грузии. Рынок подобных услуг расширился после 1985 года, когда М. С. Горбачев провел экономические реформы, названные перестройка. Он разрешил некоторые формы частного предпринимательства, известные как кооперативы, которые подвергались рэкету со стороны мафиозных групп [Jones, Moskoff 1991; Volkov 2002].
К концу 1991 года Горбачев ушел, и Советский Союз распался. Грузия была повергнута в смятение. Государственные институты рухнули, официальная экономика вошла в штопор. Тем не менее возможности для рэкета и криминала пережили взлет, поскольку капиталистические отношения были разрешены практически без защиты прав собственности. Как говорилось в главе 1,1990-е годы в Грузии были для воров в законе временем беспрецедентных возможностей и влияния. Тем не менее к 2005 году государство провело против них успешную кампанию, нацеленную на борьбу с мафией. Снижение исторической устойчивости явления воров в законе к давлению государства и социальным изменениям является главным сюжетом данной книги. В следующей главе мы обсудим эту концепцию, однако прежде мы должны задаться вопросом: что такое устойчивость? Как определить воров в законе? Прежде всего я обращусь к этому вопросу
15
Эти правила касались именно воров в законе и их ближайших помощников.
Их не следует путать с более расплывчатыми «кодексами заключенных», которые предусматривают солидарность заключенных и враждебность к тюремной администрации. Они также существовали в ГУЛАГе, как и в тюремных системах по всему миру (см. [Akers 1977]).
16
По мнению Олейника [Oleinik 2003], это была гораздо более поздняя категория заключенных, появившаяся в позднесоветский период.
17
Хотя было бы неправильно утверждать, что между ворами в законе славянского севера и ворами кавказского юга произошел полный разрыв, термин, появившийся для определения тех, кто носит титул вора в законе, но не живет по первоначальным воровским понятиям, очень часто применяется к грузинам. Они стали известны как апельсины, или лаврушники, то есть «рыночные торговцы лавровым листом». Некоторые из них могли просто купить титул вора в законе у других воров (см. главу 6). Эта практика не была исключительно грузинской, есть подобные случаи и за пределами Грузии, см. [Varese 2001; Lambert 2003]. Однако использование нового термина апельсин именно в применении к грузинам свидетельствует о том, что она более характерна для них, чем для кого-либо еще [Долгова 2003].