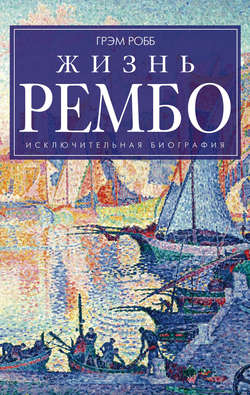Читать книгу Жизнь Рембо - Грэм Робб - Страница 3
Часть первая. 1854–1871
Глава 1. Дурная кровь
ОглавлениеМне совершенно ясно, что я всегда был низшею расой. Дурная кровь, Одно лето в аду[16]
Большинство поэтов-романтиков практиковало хирургические операции на своих родословных древах, делая прививки из аристократов и обрезая ничего не значащие ветки. Рембо вырвал свое древо с корнем и бросил его на кучу мусора из древних безликих идиотов: «Если бы я имел предшественников в какой-либо точке истории Франции! Нет никого! Мне совершенно ясно, что я всегда был низшею расой. […] Моя раса всегда поднималась лишь для того, чтобы грабить: словно волки вокруг не ими убитого зверя»[17]. Рембо размышлял о своей фамилии. В разное время слово ribaud (от rimbaldus) означало проститутку, распутника, бандита-прелюбодея, солдата, который вступил в ряды войск лишь ради наживы[18]. Многие из его современников, пожалуй, сочли бы это честным описанием поэта: Рембо по имени, rimbaud по натуре.
За три года до рождения Рембо (20 октября 1854 г.) Наполеон основал Вторую империю путем coup d’etat[19] и узаконил ее, вернувшись, с архитектурной и административной точек зрения, к Древнему Риму. Рембо, который был свидетелем падения империи и мечтал об идеологической всесокрушающей силе, которая расплю щила бы само общество, возвратился несколько дальше: «От моих галльских предков я унаследовал светлые голубые глаза, ограниченный мозг и отсутствие ловкости в драке. Моя одежда такая же варварская, как и у них. Но я не мажу свои волосы маслом»[20].
Это никчемное наследие, о чем говорится в «Одном лете в аду», также включает в себя идолопоклонство, любовь к святотатству, экстраординарную несостоятельность в простых повседневных трудах, все известные пороки – «особенно лень и лживость», – и, в дополнение к ним, «забвение принципов».
Это автопортрет поэта, который стал одним из наиболее авторитетных художественных гуру XX века: альтернативная comédie humaine[21] с одним действующим лицом. История, рассказанная на последующих страницах, будет неизбежно возвеличивать этого человека. Она принадлежит к древнему, оптимистичному жанру, изначально задуманному для мифологических героев и основателей религий. Но надо сказать, что за этими покрытыми толстой завесой времени главами простираются великие просторы труда Рембо. Этот необычный индивидуум, по его собственному признанию, является лицом в толпе: «деревенщиной» на фоне промышленных пейзажей и помпезных зданий, «язычником», проклятым Богом импортированной религии, «негром» без истории.
Несчастные рабы и неразумные иконоборцы «Одного лета в аду» гораздо более идентифицируемы в ментальном мире Рембо, чем семья его матери, Витали Кюиф. Семейство Кюиф, вероятно, было потомками племени реми, которое дало название Реймсу. На протяжении веков они возделывали каменистые поля района Аттиньи на границе с Шампанью и Арденнами. Они смутно проступают в письменной истории лишь к концу XVIII века. В 1789 году после революции некоторое церковное имущество попадает в руки прапрадеда поэта. Постепенно он по крупицам собирает небольшое имение, включающее несколько ферм. Язвительный комментарий Рембо о подъеме буржуазии – история XIX века в половине предложения – свидетельствует о том, что он все же имел кое-какие сведения о своих предках: «Любую семью я понимаю так, как свою: всем они обязаны декларации Прав Человека»[22].
Мать Рембо Витали Кюиф родилась в 1825 году и выросла среди необъятных просторов сельских угодий. В незатейливый серый фермерский дом, построенный ее дедом на небольшом участке, упиралась грязная узкая дорога, что пролегала через деревушку Рош[23]. Одинокий, он нарушал монотонный вид полей и деревьев вдоль ручьев. Во время Первой мировой войны немцы использовали его как наблюдательный пункт. Даже в мирное время зарешеченные окна дома и обнесенный крепостной стеной двор свидетельствовали о полной готовности отразить атаку. В молодые годы Витали тишина здешних мест была нарушена лишь единожды – во время строительства Арденнского канала, который перерезал древний путь из Реймса – дорогу, позволившуя когда-то Юлию Цезарю утихомирить варваров – предков Рембо.
Витали было всего пять лет, когда умерла ее мать. Еще до того, как она научилась читать, ей пришлось заменить мать двум своим братьям и жену своему отцу. Месье Кюифу шел сорок первый год, но он так и не женился во второй раз. Витали была мощной опорой, и, возможно, с годами у них сложились особые отношения. Психоаналитик обнаружил бы следы инцеста[24], чему крайне удобно было бы приписать ее феноменальную способность не проявлять склонности к «естественному влечению». Но как бы там ни было, ее душевные страдания, если таковые имели место быть, затмевались бесконечной сменой времен года, приносящих всякий раз неизменные заботы и труды. Первые двадцать семь лет жизни Витали провела, занимаясь уборкой и ремонтом дома, сбором урожая, кормлением домашнего скота и своей семьи, а также откладывая деньги для брака, который становился все менее вероятным.
После мрачной зимы 1851/52 года старый месье Кюиф решил, что настало время отойти от дел и выставить свою дочь на брачный рынок. Они переехали в процветающий городок Шарлевиль, находящийся в 40 километрах к северу на излучине реки Маас. Городок славился несколькими впечатляющими памятниками – старой мельницей, которая выглядела как часть замка, помпезной ратушей и громадной мощеной площадью Дюкаль, приземистой и растянутой версией площади Вогезов в Париже. Все излучало уверенность и свидетельствовало о стабильном достатке горожан. По ту сторону моста возвышалась старшая сестра Шарлевиля – средневековая крепость Мезьер. С другого берега на город смотрел холм, покрытый низким кустарником, известный как гора Олимп.
Месье Кюиф и его дочь сняли квартиру, окнами выходящую на юг, над книжным магазином (который существует до сих пор) в доме № 12 по улице Наполеона (теперь улица Тьера)[25], оживленной главной улице, ведущей к площади Дюкаль. В рыночные дни по воскресным утрам соседи видели худую девушку с каменным лицом, с руками крестьянки и мелкобуржуазными манерами. Крепость высокой нравственности, осаждаемая таинственным врагом.
Старший из ее братьев, Феликс, по неустановленной причине имел неприятности с законом и в 1841 году сбежал воевать в Алжир. Младший брат Шарль медленно спивался в родном имении. В то время как жизнь Шарля и Феликса крутилась вокруг алкоголя и армейской дисциплины, Витали нашла прибежище в религии – безжалостной, янсенистической форме[26] христианства, которая требовала напряженной работы без какой бы то ни было гарантии вознаграждения. Религия заполняла пробелы в ее привычной рутине и давала ей точную, неизменную меру оценки достоинств других людей. «Люди, которых следует подвергать го нениям, – говорила она своей дочери много лет спустя, – это те, кто не верит в Бога, потому что у них нет ни сердца, ни души, и их следует отправить жить с коровами и свиньями, которые им ровня»[27].
Не сохранилось ни одного изображения Витали Кюиф, за исключением рисунка, возможно, ее второго сына Артюра. На нем резкими черными линиями изображена застывшая худая фигура, согнутая от горя или разыгравшейся мигрени, застегнутая на все пуговицы, с волосами скрытыми плотной сеткой. Витали никогда не была описана ни одним из современников, исследователи обычно изображают ее старомодной и в мрачных тонах. Это, возможно, не совсем заблуждение, но и тот факт, к примеру, что однажды она сама спустилась в семейный склеп, чтобы убедиться, правильно ли сконструирована ниша для ее тела, не обязательно обозначает мрачную подозрительную личность. Прием подгонки места упокоения был в ходу еще у шарлевильских масонов-каменщиков[28].
Наиболее точный образ мадам Рембо воссоздан в неоднозначном импрессионистском стихотворении ее сына Mémoire («Воспоминание»). Мрачный Жнец (смерть) появляется с зонтом и в грубых дорожных башмаках, разрезая горизонт пополам:
Мадам стояла слишком прямо на поляне
соседней; зонт в руке, и попирая твердо
цветок раздавленный; она держалась гордо;
а дети на траве раскрыли том в сафьяне
и принялись читать… Увы, Он удалился…
Подобно ангелам, расставшимся в дороге,
невидим за холмом. И вот Она в тревоге,
черна и холодна, бежит за тем, кто скрылся.
Хотя жизнь Витали была ограничена церковью, хозяйством и случайной игрой в вист, в 1852 году ей каким-то образом удалось познакомиться с одним французским офицером. Витали было двадцать семь лет, офицеру – тридцать восемь. Возможно, она с отцом ходила слушать военный оркестр, который играл на Place de la Musique (Музыкальной площади, ныне Вокзальной), изображенной Рембо в стихотворении À la musique («За музыкой»):
На площадь, где торчат газоны тут и там,
В сквер, где пристойно все и нет в цветах излишку,
Мещане местные несут по четвергам
Свою завистливою глупость и одышку.
Там полковой оркестр, расположась в саду,
Наигрывает вальс, качая киверами,
Не забывает франт держаться на виду,
Прилип нотариус к брелокам с вензелями.
Находка для рантье трубы фальшивый звук;
Пришли чиновники и жирные их дамы
В сопровожденье тех, кто нужен для услуг
И чей любой волан имеет вид рекламы.
Пенсионеров клуб, рассевшись на скамьях,
С серьезным видом обсуждает договоры;
Трость с набалдашником здесь попирает прах,
И погружаются здесь в табакерку взоры.
По другой версии, брат Феликс познакомился с капитаном Рембо в Алжире и нарисовал лестный портрет своей сестры: трудолюбивая, голубоглазая девушка, которая безупречно содержит дом и претендует на значительное наследство.
Потенциальный муж, Фредерик Рембо, был сыном дочери фермера и мастера-портного из города Доль департамента Юра[29]. В 1832 году в возрасте восемнадцати лет Фредерик добровольцем ушел в армию и в качестве шассера (пехотинца легкой пехоты армии Наполеона) поднялся по карьерной лестнице в период варварского завоевания Северной Африки. С 1847 года он проводил больше времени за маранием бумаги, чем за истреблением бедуинских племен. Рембо возглавил Арабское бюро в небольшом алжирском форпосте Себдоу. Незадолго до этого его предшественник был убит всадниками под предводительством партнера лейтенанта Рембо по шахматам – вождя местного племени. В Себдоу Рембо собирал налоги, отправлял правосудие и выступал в роли своеобразного военного антрополога: изучал культуру аборигенов, чтобы успешнее их подавлять.
В 1852 году он был произведен в чин капитана 47-го полка и променял пустыню Сахару на холодные и безопасные Арденны. Исследователи располагают единственным описанием внешности отца поэта, опираясь на упоминание о давно утраченном портрете: волосы русые, глаза голубые, губы полные, рост средний. Но мы твердо знаем, что он носил длинные усы и остроконечную бородку, поскольку это было обязательным у шассеров[30].
Для Витали позволить себе принять ухаживания капитана Рембо было весьма опрометчивым романтическим поступком. Ему нечего было предложить, кроме своего жалованья, немногочисленных личных вещей и незапятнанной репутации. Брачный договор, составленный 3 января 1853 года, был плодом спокойного размышления. Активы Витали, земля и деньги на общую сумму более 140 000 франков[31], были записаны не в качестве приданого, а как «личное состояние» невесты[32]. Ни один мужчина не мог присвоить ее сбережения. Капитан получил разрешение на вступление в брак, и 8 февраля 1853 года в Шарлевиле состоялась свадьба.
Вступив в брачные отношения, капитан Рембо уехал в свой полк в Лионе, и в течение следующих семи лет видел жену так же часто, как бык видит поле коров. Сын Фредерик родился ровно через восемь месяцев и три недели после свадьбы. В следующем году отпуск капитана Рембо ознаменовался в той же манере. 20 октября 1854 года в шесть часов утра в квартире над книжным магазином на улице Наполеона родился его второй сын[33]. В пять часов вечера того же дня его дед и сосед-книготорговец пошли в ратушу и записали его в регистр как «младенца мужского пола»: Жана – Никола – Артюра Рембо. Он был крещен месяц спустя.
Среди тех, кто считает, что Артюр Рембо принадлежит к расе высших существ, бытует легенда, что он был в пути уже через несколько минут после рождения. Повитуха вернулась со свивальником и обнаружила, что младенец направляется к выходу – глаза широко открыты, и, что еще более примечательно, хихикает про себя[34].
Первый правдоподобный знак самостоятельной активности не дает никакого намека на сверхъестественное происхождение. Артюр был обеспечен бельем и люлькой и отправлен к няне в семью изготовителей гвоздей в Жеспёнсаре, что в одиннадцати километрах от бельгийской границы. В один прекрасный день мадам Рембо явилась без предупреждения для проверки и ужаснулась, увидев младенца работников, блистающего в одежках, предусмотренных для Артюра. В то время как ее грязный младенец радостно ползал голышом по старому сундуку для соли. В конечном итоге мадам Рембо удостоверилась, что ее ребенок хотел именно этого[35].
Тот факт, что мадам Рембо помнила об этом случае, более значителен, чем сам инцидент: маленький Артюр с презрением отвергает преимущества своего положения. Для мадам Рембо все было предзнаменованием. Игнорируемые дяди бросали длинную тень. Может быть, как и они, ее ребенок был, по сути, не буржуа.
Именно из-за дядей большая часть раннего детства Артюра прошла на ферме в Роше. Шарль Кюиф в конце концов был вынужден создавать видимость деятельности. В феврале 1852 года он женился, и Витали передала брату заботу о ферме. Тот праздновал свою независимость, полностью отдавшись горячительным напиткам. Всякий раз, как какой-нибудь торговец подходил к двери, Шарль под прицелом ружья приглашал его присоединиться к нему в распитии алкоголя, пока оба не становились полностью парализованными. Те, кто отказывались от приглашения, пробовали вкус картечи. Его жена сложила сундук и вернулась в свою деревню. В один прекрасный день в 1855 году обожженный солнцем ветеран вернулся из Алжира и вышвырнул своего братца прочь. «Африканец», как дядя Феликс стал известен в деревне, управлял фермой до декабря, когда по неизвестной причине он умер.
Витали взяла дела на себя и держала ферму в таком крепком кулаке, что ею стало чрезвычайно трудно управлять. Фермеры-арендаторы приходили и уходили, раздраженные невозможными условиями и стальными голубыми глазами мадам, что помнили каждый столб в ограде и каждую борозду. Поговаривали, что в доме был железный сундук, полный золотых монет[36]. «Это хорошо, давать милостыню, – мадам Рембо позже говорила своей дочери, – но здравый смысл говорит нам, что мы должны отдавать только часть наших излишков»[37].
Время от времени пропитанный винными парами дядя Шарль приходил, пошатываясь, во двор фермы в поисках работы. Витали обычно спрашивала у него документы, как если бы он был незнакомцем, а затем прогоняла его. Дядя Шарль провел следующие пятьдесят восемь лет, блуждая в лабиринтах живых изгородей Арденн – наемный работник на неполный рабочий день и полное недоразумение. Он умер в монастыре в 1924 году «с утешением в религии» и с еще большим утешением посредством литра красного вина, выпитого за несколько мгновений до смерти[38].
Именно в Роше – в пяти километрах от ближайшего кафе – капитан Рембо окончательно узнал свою жену: холодный, скрипучий голос, заразительное уныние, сокрушительная убежденность в том, что люди должны быть столь же строги к себе, как была она сама. Капитан Рембо невольно присоединился к новому полку. Он начал с нетерпением ждать окончания увольнения и относительно мягкого распорядка армейской жизни.
В сентябре 1856 года, пережив рытье траншей в Крыму, вспышку холеры и марш по всей Европе на протяжении месяца, капитан Рембо оставил свой полк по дороге в Париж и заставил себя нанести визит в Рош. Девять месяцев спустя, в июне 1857 года, родился третий ребенок: Витали. Она умерла в июле, заслужив, таким образом, особое место любимого дитя в сердце матери. Невиданная доселе нежность мадам Рембо расцвела в могиле. Самые трогательные отрывки из ее последующей корреспонденции касаются эксгумации ее первой дочери, когда переделывали фамильный склеп: ужасающее описание останков трупа и покрытого волосиками черепа, который она любовно заключила в свои объятия[39].
Два месяца спустя капитан Рембо вернулся для возмещения утраченного, а затем снова отправился в Гренобль. Витали II родилась точно в следующем июне. Она впервые вошла в историю семьи два года спустя, когда четырехлетний Артюр якобы предложил ее книготорговцу в обмен на несколько цветных картинок в витрине его лавки[40]. Милая идея продать члена семьи за несколько objects d’art (предметов искусства) предполагает, что источником этой легенды был Рембо самолично.
Книга записей рождений в Шарлевиле продолжала идти в ногу с графиком отпусков 47-го полка. Проконтролировав сбор урожая 1859 года, мадам Рембо посетила Селесту близ Страсбурга (ее первая поездка за границы Арденн) и беременная вернулась на улицу Наполеона, где хозяин дома попросил ее забрать вещи и съехать.
Утверждение, которое внедрилось в легенду Рембо, о том, что хозяин был встревожен неуклонным ростом числа представителей клана Рембо, сомнительно: это был простой вопрос нехватки места. Но почему он не дождался, пока не истечет срок аренды? Согласно договору Рембо имели право занимать квартиру до конца года. К тому же после смерти отца мадам Рембо в 1858 году освободилась пара комнат. Такое внезапное выселение беременной женщины с малолетними детьми можно объяснить лишь ее пресловутой способностью раздражать соседей.
До Рождества семейство было вынуждено квартировать в Hôtel du Lion d’Argent (Отель дю Лион д’Аржан) в центре Шарлевиля. Поиски нового жилища завершились переселением на квартиру в северном конце улицы Бурбон. Вечная грязь и нечистоты, дворы, благоухающие тухлой капустой и содержимым выгребных ям, малоэтажные дома, населенные неугодными[41]. Мадам Рембо основала свой буржуазный аванпост в пролетарской трясине и 1 июня 1860 го да родила еще одну дочь, Изабель.
Первые воспоминания Рембо датируются именно этим трудным периодом шестого года своей жизни. Как и все ранние воспоминания, они обладают притягательным трехмерным качеством – один эпизод в другом, безобидные сцены с глубоким подтекстом. Эту историю Рембо рассказал своему школьному другу Эрнесту Делаэ.
«Он вспоминал супружескую ссору с использованием серебряной чаши, которая стояла на буфете. То, как была использована эта чаша, произвело на него неизгладимое впечатление. Его отец схватил чашу и в ярости швырнул на пол. Она подпрыгнула несколько раз, издавая музыкальные звуки. Затем отец водрузил ее на буфет. Мать в той же надменной манере взяла резонирующий предмет и заставила его исполнить тот же танец, затем подняла чашу и аккуратно поставила на надлежащее место. Именно так они придавали выразительность своему спору и отстаивали правоту или независимость. Рембо запомнил этот инцидент потому, что он показался ему очень забавным и, возможно, заставил его немного позавидовать: как бы и ему хотелось бросить эту красивую серебряную чашу, чтобы она завертелась!»[42]
Этот прекрасный пример экранной памяти, кажется, был единственным четким воспоминанием Рембо об отце. Образ столь же богат и лаконичен, как стихотворение или сон: его родители занимаются любопытной ритуальной деятельностью с ценным полым предметом, который подскакивает то вверх, то вниз и вызывает чувство зависти у сына.
С этого момента начиналась необратимая катастрофа его детства. После того случая серебряная чаша не покидала своего места.
Исследователи указывают несколько причин разрыва между родителями Рембо, большинство из них неправдоподобны и не вполне основательны. Ссылки на пьянство, безделье и атеизм капитана Рембо основаны не на чем ином, как на плохом мнении об офицерах французской армии, как указал полковник Годшот в 1936 году. И кажется несправедливым приписывать Рембо-старшему психическое заболевание, диагностированное позже у его сына, такое как «дромомания» (патологическое влечение к перемене мест) или «паранойя странствий»[43] (хроническое заболевание непосед) только потому, что ему приходилось следовать за полком.
Более вероятно, что виной всему были увлечения капитана. В свободное время он был заядлым компилятором и комментатором. Рембо-старший создавал огромные трактаты по военному делу (ныне утерянные), в том числе трактат по военным речам, древним и современным. Его африканские отчеты – истинный образец аналитической прозы. Опустошительные нашествия саранчи, двуличие арабских дипломатов, атаки покрытых дегтем верблюдов, подожженных суицидальными членами племени, – скрупулезно и талантливо описаны его невозмутимым пером. Он, кроме того, составил сборник арабских шуток и осуществил параллельный перевод Корана. Если бы эти труды были опубликованы, возможно, он заслужил бы репутацию серьезного востоковеда.
Вся эта писанина, не приносящая материальных дивидендов, вероятно, съедала немало времени, которое он, возможно, проводил на ферме. По убеждению мадам Рембо, все, что называется литературным трудом, является пустозвонством и лицемерием. «Я пишу не затем, чтобы пожелать тебе хорошего Нового года, – сообщала она в письме своей дочери Изабель в 1906 году. – Это бесполезно. Действия – это все»[44]. Лишь эпическая Correspondance militaire («Военная переписка») капитана Рембо была удостоена ее вниманием: она была написана на больших листах бумаги, которые оказались вполне пригодными для завертывания овощей[45].
Брак был обречен с самого начала: жена, которая чувствовала себя очень неудобно всякий раз, когда ее взгляды ставились под вопрос, и муж, любимым занятием которого был текстологический анализ. Несколько визитов за семь лет, пять беременностей, роды, Крымская война – все это не могло сгладить разницу их взглядов.
В один прекрасный день в сентябре 1860 года капитан Рембо уехал в свой полк в Камбре. Больше он не вернулся. Артюру не исполнилось и шести. Его матери было тридцать пять. Оставленная в безвыходном положении в захудалом районе, имея четырех требовательных детей и непростой характер: сочетание непреклонности и острого беспокойства о том, что о ней думают другие, она была несчастнее, чем когда-либо. Остаться одной при живом муже было неприлично и унизительно. Она решила, что отныне она будет называть себя «вдовой Рембо».
Рембо часто прибегает к теме потери в своей поэзии. Как и любая личная катастрофа, это не было событием одного дня, а атмосферой всей жизни. Удивительно то, что эта потеря неизменно изображается глазами матери и представляется как нечто вроде боли от лишения сексуального контакта:
Увы, Он удалился…
Подобно ангелам, расставшимся в дороге,
невидим за холмом. И вот Она в тревоге,
черна и холодна, бежит за тем, кто скрылся.
О, скорбь травы густой и чистой! На постели
священной золото луны апрельской… Счастье
прибрежных брошенных строений, что во власти
у летних вечеров, изгнавших запах прели.
(«Воспоминание»)
Однако жаждет дух, исполненный печали,
Зарницы нежности продлить хотя б на миг…
Припав к подушке ртом, чтоб крик не услыхали,
Она томится. Мрак во все дома проник.
(«Первые причастия»)
Все, что осталось от капитана, – за исключением детей – была груда рукописей и книга, толщиной с Библию, полная аннотаций. 878-страничная Grammaire Nationale, нечто вроде гигантского свода правил, которые, видимо, должны были произвести впечатление на читателя тем очевидным фактом, что ни одно человеческое существо никогда не сможет овладеть чем-то столь сложным и коварным, как язык. Этот том сохранился. На титульной странице капитан Рембо написал: «Грамматика – это основа и фундамент всех человеческих знаний», – провоцирующую аксиому, над которой определенно часто размышлял его сын. Неизвестно, когда Артюр вставил лист бумаги в этот памятник отцу. На нем было слово «АБРАКАДАБРА» и поясняющая запись: «Держись подальше от лихорадки». Позже он придумал более практический девиз и аккуратно написал над отцовской фразой: «Думайте что хотите, но хорошенько взвесьте, прежде чем говорить»[46].
Мадам Рембо удобно устроилась в своих страданиях, как старуха в постели. С тех пор ее характер застыл в виде пугающей серой башни, ставшей известной в истории литературы в качестве матери Артюра Рембо. По словам одного из его современников, у нее была «бросающая в холод внешность»[47]. Она не знала ни смеха, ни даже улыбки. Описания матери до сих пор передают ощущение детских страхов. Спустя десятилетия седые крестьяне из Роша вспоминали, как юнцами их прогоняла со свекловичного поля женщина с кислым лицом, угрожая сослать их на «галеры». Дети Рембо, как говорили, внешне слегка походили на идиотов или побитых зверьков. Сочувствие было на стороне бросившего семью капитана[48].
Для Фредерика и Артюра окончательное исчезновение их отца означало больше подзатыльников. Любой ребенок будет винить в этом себя, и мадам Рембо не сделала ничего, чтобы развеять их сомнения.
Убеждение сформировалось как шрам. Она «пожертвовала» своим счастьем с капитаном ради детей, и дети действительно должны усердно трудиться, чтобы воздать ей долги[49].
Тем временем в уме Артюра образовалась огромная брешь – из его мира исчез отец, прихватив с собой ответы на вопросы, еще не сформировавшиеся.
Романтические произведения Рембо являются по сути детективными романами, написанными невольным виновником преступления. В поисках истоков лирического начала Рембо должен был стать необычайно отважным исследователем с удивительной памятью на фантазии, или факты, которые в один прекрасный день могут составить четкое представление об истине:
Иногда я думаю о своем отце:
Вечером игра в карты и разговоры становятся пикантными,
Мне и соседу велят уйти, то, что я видел…
(Ведь отцы беспокоятся за своих детей) и то, о чем я думал!..
Его колено, иногда ласкавшее меня, его брюки,
и та дыра, от желания открыть которую у меня чесались пальцы…[50]
(«Воспоминания старого идиота»)
16
Здесь и далее цит. по книге: Рембо Артюр. Стихи. Последние стихотворения. Озарения. Одно лето в аду // Издание подготовили Н. И. Балашов, М. П. Кудинов, И. С. Поступальский. Наука, 1982. (Перевод цитируемых произведений А. Рембо выполнен М. П. Кудиновым, за исключением ряда стихотворений, переведенных другими переводчиками, имена которых указаны в сносках). Все примечания за исключением авторских сделаны переводчиком.
17
Mauvais sang, Une Saison en Enfer. О настоящих предках Рембо.: Henry.
18
Это был вывод, известный в дни Рембо. Более вероятное происхождение Rimbaldi от слов ragin («совет») и bald («смелый») (Dauzat). Cf. Bodenham, 16–17; Coulon (1929), 23–25. В Провансе «вечерний звон» обозначается словом cassorimbaud (Mistral).
19
Государственный переворот (фр.).
20
Mauvais sang, Une Saison en Enfer.
21
Человеческая комедия (фр.).
22
Mauvais sang, Une Saison en Enfer.
23
О мадам Рембо: Briet (1968); Lalande (1987). О фермерском доме: Lefranc (1949).
24
Mijolla.
25
В настоящее время улица носит имя премьер-министра Франции Пьера Береговуа (1925–1993).
26
Янсенизм – учение религиозной секты последователей голландского епископа Янсения. Главные основы этого учения: отрицание свободной воли и вера в предопределение.
27
OC, 802.
28
OC, 799–800; cf. сатирическая версия Pierquin (150).
29
О капитане Рембо: BH, 53 and 205–6; Bodenham; Coulon (1929), 28–31; Godchot, I, 3–39; Kacimi-El Hassani; Petitfils (1974).
30
PBP, 13; Godchot, I, 9.
31
В современном эквиваленте 420 000 фунтов стерлингов или 672 000 долларов США. – Авт.
32
Брачный контракт: PR, 14. Рембо оценивал ежегодный доход своей матери в 1870 году приблизительно в 6000–8000 франков (D, 30 n.).
33
Нет, как часто утверждается, в 5 часов. – Свидетельство о рождении: PR, 7.
34
PBP, 18.
35
PBP, 18–19.
36
Goffin, 42 (от поденщицы мадам Р.).
37
OC, 787–788.
38
Godchot, I, 59–60.
39
OC, 797.
40
PBP, 20–21.
41
Lalande (1987), 55.
42
D, 30.
43
J.-L. Delattre, Le Déséquilibre mentale d’Arthur Rimbaud (1928), цит. в EM, 171 и Plessen, 8. Также известно, как ‘fugue’ и ‘automatisme ambulatoire’ (Hacking).
44
OC, 807.
45
J. Bourguignon, интервьюированный Petitfils (1974), 9.
46
PR, 16; Briet (1956), III.
47
Labarrière: Mouquet (1933), 96.
48
Briet (1956), II; Goffin, 40.
49
См. OC, 810
50
‘Les Remembrances du vieillard idiot’.