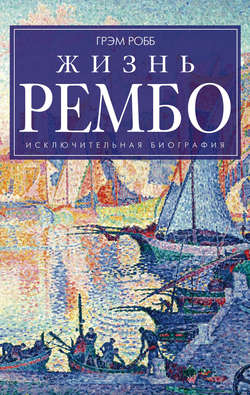Читать книгу Жизнь Рембо - Грэм Робб - Страница 4
Часть первая. 1854–1871
Глава 2. Грязь
Оглавление…Жалкие происшествия детства.
Рабочие, Озарения
После дезертирства капитана мадам Рембо почти удалось стать обоими родителями одновременно. Фредерик и Артюр подвергались обычному множеству наказаний, раздаваемых с необычной закономерностью: временное голодание, изоляция и регулярные физические наказания[51]. В общественных местах она частенько шлепала детей натруженной рукой, которая пожинала урожай и гнала скот в хлев на дойку. Когда Рембо изображал «лоб с буграми» «семилетнего поэта» он, возможно, имел в виду, не только френологические признаки гения или прыщи, но также и следы материнской любви.
В соответствии с тем же стихотворением: «Тоски воскресных дней боялся он зимою, / Когда причесанный, за столиком своим / Читал он Библию с обрезом золотым». На фотографии с первого причастия волосы Артюра блестят от помады, что означало чистоту. Сравнение этой фотографии с более поздними фото с изображением наэлектризованной копны его волос дает некоторое представление о силе сцепления этой помады – все равно что твердая рука постоянно давит на кожу головы.
Мадам Рембо чувствовала, что, пока они остаются на рю Бурбон среди пролетариев, ее дети подвергаются опасности заражения. Как семейный фотоальбом, собранный шантажистом, Les Poètes de sept ans («Семилетние поэты») запечатлели некоторые опасности жизни с плебеями:
Лишь детей соседей-бедняков
Считал друзьями он. На стариков похожи,
С глазами блеклыми и с нездоровой кожей,
Поносом мучались они, и странно тих
Был голос, и черны от грязи руки их…
Ребенка своего на жалости позорной
Застав, пугалась мать. Но нежность непокорно
К ней из груди его рвалась, и так хорош
Был этот миг! Таил взгляд материнский ложь.
Непослушание ребенка и обнаружение лицемерия в глазах матери – такого же цвета, как его собственные, – конечно, датируются временем, когда было написано стихотворение (Артюру шел шестнадцатый год); но образы принадлежат рю Бурбон. Этот список «мрачных вещей», которые он «предпочитал», также был списком причин желания мадам Рембо переехать: вонючие мальчишки, люди, «что были / Одеты в блузы и черны, когда домой / С работы шли», и рослая восьмилетняя девчонка с соседнего двора, «которая валила / Его на землю вмиг, он отбивался с силой / И, очутясь под ней, кусал девчонку в зад, не знавший панталон».
Но кожи аромат,
Забыв о синяках, он уносил с собою.
Во времена, когда отвратительные запахи считались признаками разврата и болезней и когда респектабельность была вовлечена в постоянную войну с непристойностью, омерзительный запах мог иметь аромат запретного плода. Эти воспоминания «семилетнего поэта», возможно, и не подлинные снимки прошлого, но они действительно служат напоминанием об открытии внутреннего мира и стихийной уйме чувственных впечатлений. Где-то в сознании было уединенное местечко с замком на двери – место неожиданного отдыха:
Томящийся, тупой, он летнею порой
В местах отхожих запирался и часами
Там думал в тишине и шевелил ноздрями.
Когда за домом сквер, омытый до корней
Дневными запахами, был в плену теней,
Он залезал в рухляк, что у стены валялся,
И, напрягая взгляд, видений дожидался
И слушал шорохи чесоточных кустов.
В октябре 1861 года, всего через год после окончательного исчезновения капитана Рембо, вселенная Артюра внезапно расширилась. Его с братом отправили в качестве приходящих учеников (не живущих в пансионе) в ближайшую школу.
Частная школа Росса[52] выглядела как любое другое здание на улице: темно-зеленые ворота на рю де Аркебуз. Внутри, в полутемном вестибюле не было и намека, что это заведение станет одной из самых современных школ в стране с лабораториями и мастерскими. Здесь будет даже собственный паровой кузнечный горн. Изучение религии будет заменено садоводством и машиностроением.
Коридор, вдоль стен которого выстроились витрины со скелетами и чучелами птиц, выходил в опрятный прямоугольный двор. Его стены были выкрашены в цвет, который один из бывших учеников назвал «трупным желтым». С противоположной стороны – ступени, ведущие вниз к художественной мастерской. Стена на этой стороне, казалось, была атакована ядовитым грибком: по традиции в дни раздачи поощрений учащиеся разбивали об нее чернильницы. Во втором четырехугольнике, который был слишком мал для игры в футбол, триста мальчиков играли в шарики под окнами казенного здания трущобного вида. Когда шел дождь, ученики жались друг к другу под крышей открытой прачечной, словно пассажиры в ожидании поезда. Классные комнаты были сырыми и затхлыми, загроможденные массивными деревянными столами, изборожденными каракулями. Если бы окружение отражало педагогическую цель, то частная школа Росса готовила бы учащихся к жизни в тюрьме. Для Артюра это был первый вкус свободы, рай грязи, в который он тайно вступил для собственного разрушения:
В прихожей, в темноте, когда закрыты двери,
Он строил рожи и высовывал язык.
Ресницы опускал – и появлялись вмиг
Кружки в его глазах. По вечерам забраться
Пытался на чердак, чтоб злости предаваться,
Таясь под свесившейся с крыши полумглой.
Бунт Артюра – намеком обобщенный в этих строках из «Семилетних поэтов», такой как мастурбация, неподчинение и вызывание галлюцинаций, – принял форму совершенства в учении. За три с половиной года в частной школе Росса он получил тринадцать премий и одиннадцать поощрений. Незадолго до своего десятого дня рождения он шел домой, пошатываясь под тяжестью призов, врученных ему за первое место в латинской грамматике и переводе, французской грамматике и орфографии, а также истории и географии, классической декламации и чтении. Он также получил поощрение за успехи в арифметике. Это не были награды за оригинальное мышление. Они просто показывали, что младший Рембо успевал незначительно лучше, чем кто-либо другой его возраста в усвоении и переваривании фактов и заповедей, унаследованных от прошлого. Помимо этих наград, все, что мы знаем о нем в 1861–1864 годах, – это то, что он, будучи небольшого роста, мог защитить себя в бою и что у него были удивительные бледно-голубые глаза, как говорили, весьма красивые, но, как ни странно, смотреть на них было не всегда приятно. Их цвет был подобен небесному, и в данном случае это не было литературным клише.
За исключением голубых глаз, ничто, казалось, не соответствовало маленькому бунтарю из «Семилетних поэтов». Но строгое личико Рембо-школьника на общей фотографии среди других учеников частной школы Росса осенью 1864 года, выделяясь чем-то неуловимым, просматривается и между строк стихотворения Рембо-поэта:
Он послушаньем исходил весь день; весьма
Сообразителен; но склад ума
И все привычки выдавали лицемерье.
На фотографии Артюр сидит слева от брата Фредерика, с видом недавно наказанного ребенка, кулаки спрятаны в его кепи, глядя исподлобья прямо в объектив, живой укор, или живое самобичевание. Это фотография ребенка, который знал, что в нем нет ничего, что могло бы вызвать любовь матери. Ощущение собственного лицемерия останется с ним, как специфический запах, а инквизиторский голос мадам Рембо помог придать его более поздним стихам их характерный дискуссионный тон:
…Ребенок, что всегда
Помеха всем и бремя,
Лгать будет без стыда
И предавать все время;
Загадит все кругом,
Как дикий кот…[53] О боже!
Когда умрет – о нем
Вы помолитесь все же[54].
(«Позор»)
В начале 1860-х годов жители Шарлевиля часто видели странную процессию, шествующую по городу[55]. Впереди шли две маленькие девочки, держась за руки, за ними шли двое мальчиков постарше, тоже держась за руки. Они тяжело ступали в тяжелых ботинках, старомодной одежде, чисто вымытые, опрятные и молчаливые, стараясь не обращать внимания на язвительные замечания прохожих.
За ними на расстоянии, которое никогда не менялось, шла «вдова Рембо», направляясь в церковь или покупать овощи.
К этому времени семейство переселилось в дом № 13 по Курд’Орлеан в более чистый и респектабельный район. Но никаких отступлений быть не должно. Строгая дисциплина превратит их в полезных граждан, а для этого детей следует отрезать от общества. Каждый день после занятий мать встречала Фредерика и Артюра у школы и сопровождала их до дома, где их сестры занимались тем, что осуществляли контроль за выполнением ими домашнего задания[56]. О любой несанкционированной деятельности сообщалось матери, которая тогда давала дополнительное домашнее задание. Перед ужином мальчики читали наизусть опусы на латыни. Мадам Рембо следила по книге, зная достаточно, чтобы уследить, когда они отклонялись от текста. Ошибка означала, что придется лечь спать без ужина.
В апреле 1865 года, несмотря на удовлетворительный прогресс Артюра, мадам Рембо вдруг решила перевести своих сыновей в муниципальный коллеж Шарлевиля. Она, возможно, была обеспокоена отсутствием религиозного обучения, или, что более вероятно, у нее возникло подозрение, что Артюр не напрягается. К тому же были некоторые тревожные сообщения о частной школе Росса. Месье Росс приглашал либеральных мыслителей выступить для учащихся и даже предлагал «открытые уроки» для рабочих. Он подозревался в пособничестве «интеллектуальной эмансипации». Эффект этих «передовых идей» не заставил себя ждать: ученики школы были замечены пьющими пиво в кафе и курящими сигары в местах общественных гуляний[57].
Шарлевильский коллеж внешне был похож на частную школу Росса, но был менее тесным, поскольку был менее популярным. Он стоял рядом с кожевенным заводом на реке Маас, на краю площади Гроба Господня. Матери, бывало, выходили из здания, поклявшись никогда больше не оставлять своего ребенка в этой выгребной яме. «Ужасные запахи», согласно министерскому отчету, «происходят из отхожего места, проникая в классные комнаты». Но были обещаны улучшения: генеральный ремонт, смена руководства коллежа и два священнослужителя в преподавательском составе[58].
Рембо-младший быстро оставил свой след в истории коллежа Шарлевиля. Пока Фредерик плелся в хвосте класса, Артюр, который был на одиннадцать месяцев моложе, катапультировался на класс старше за удивительное выполнение домашнего задания, которое его одноклассники помнили долгие годы.
Он сконцентрировал всю «древнюю историю» в один прозаический отрывок, так красиво написанный, что его показали всей школе как образец для подражания и восхищения. Артюр попал прямо из septième к сinquième (из седьмого класса в пятый), в руки месье Перета – из тех учителей, которые процветают на невежестве своих учеников.
Директор Дедуэ, впечатляющий, красноречивый человек с лунообразным лицом, носящий экстраординарные шляпы, уже мечтал о будущей славе Артюра Рембо, которая не оставила бы незамеченным и шарлевильский коллеж. Месье Перет, однако, вознамерился не слишком впечатляться. Производя неумолимо безупречные работы, Артюр Рембо в его глазах был непристойным надругательством над статистикой; в дополнение ко всему у него была ехидная улыбка. «Называйте его умником сколько угодно, – говорил месье Перет директору, – но кончит он плохо»[59].
Раздражительного месье Перета часто хвалят за его дальновидность, но то же самое было говорено и о многочисленных других учениках, так что, если пророчества учителя были бы столь влиятельны, как это принято считать, все поколение Рембо кончило бы плохо. Рембо действительно слышал предсказания своего бесславного конца гораздо реже, чем его товарищи по учебе. Единственный проступок, зафиксированный за его первый год в коллеже Шарлевиля, вовсе не акт дегенерации. Надзиратель по имени Понселе конфисковал у Артюра «миниатюрную тетрадь», содержащую набросок приключенческой истории, «разворачивающейся среди варварских племен Океании»[60]. Это, наверное, была одна из тех историй, вдохновение для которых, по воспоминаниям его сестры Изабель, черпалось из «Робинзона Крузо», произведений Фенимора Купера, Жюля Верна и, по словам одного из его одноклассников, популярного перевода «Открытие истоков Нила» Спика и Гранта. «Он обычно развлекал нас долгими вечерами, читая о своих фантастических путешествиях в странные неизведанные земли. […] Естественно, это были лишь детские развлечения. Как только он их записывал и прочитывал, он тут же их рвал и выбрасывал».
Закономерно, что мадам Рембо одобряла надзирателя. «Ее принципы, – говорит Изабель, – не позволяли ей поощрять литературные усилия Артюра»[61].
Скудное досье школьных рапортов и анекдотов оставило бы весьма туманное представление о Рембо на исходе его детства, если бы не сохранилось то, что выглядит, на первый взгляд, обычной школьной тетрадью. При ближайшем рассмотрении эта маленькая стопка бумаги производит магический эффект, впервые выявляя акт творчества Артюра Рембо.
Документ состоит из нескольких испачканных чернильными кляксами листков, сколотых вместе швейной булавкой. Он известен под высокопарным названием Cahier des dix ans («Тетрадь-отчет за 10 лет»), хотя почти наверняка датируется одиннадцатым годом Рембо: намеки на Александра, Дария и «их приспешников», а также на «этот грязный язык», греческий, указывают на программу обучения в шарлевильском коллеже[62]. Большая часть стопки бумаг разлинована и занята домашним заданием – здесь и небрежный перевод чего-то из Цицерона, история Адама и Евы на латыни, обрывки фактов из древней истории («Нил с его разливами есть благодетель Египта»), а также несколько арифметических задач («Если 20 литров стоит 3.250, сколько будет стоить 7 децилитров?»). Каракули и склонность писать без диакритических знаков и знаков препинания предполагают, что у ребенка было мало времени, чтобы тратить его попусту. Он подписывается «Рембо Артюр де Шарлевиль», что является формой его имени в списках призеров региональных конкурсных экзаменов. Но любое подозрение, что это записи любимчика учителей, развеяны рассказом в 750 слов, написанным, по-видимому, когда он притворялся, что выполняет свое домашнее задание.
Рассказ идет по накатанному пути клише, начинаясь с неоклассического описания сумерек. Солнце садится, папоротники хмурят свои зеленые брови под действием освежающего ветерка, и рассказчик засыпает около ручья: «Мне снилось, что родился я в Реймсе в 1503 году. […] Родители мои были не слишком богаты, но очень респектабельны. Их единственной собственностью был маленький домик, который всегда принадлежал им и который был их владением за двадцать лет до того, как я родился, плюс несколько тысяч франков и, помимо этого, небольшая сумма, которая исходила от сбережений моей матери».
Очевидно, что на этого ребенка важность домашней экономики явно производила впечатление.
Двести слов, и рассказчик уже в третьем жанре: классическое описание, исторический роман, и теперь реалистическая семейная драма:
«Мой отец служил офицером в Королевской армии[63]. Он был высоким, худым мужчиной с темными волосами и бородой, глаза и кожа [sic] одного цвета. Хотя ему было почти 48 или 50 лет, вы наверняка бы подумали, что ему 60 или 58. Он был вспыльчив и опрометчив, часто бывал в сердцах и не желал мириться с тем, что ему было не по душе. Моя мать была совсем другой: спокойной и нежной женщиной, тревожной, – она тем не менее содержала дом в идеальном порядке. Она была такой спокойной, что мой отец поддразнивал ее, словно юную девушку[64]. Я был любимчиком. Мои братья не были такими храбрыми, как я, хотя они были старше. Я не очень любил учиться – учиться читать, писать и считать. Но отделывать дом, ухаживать за садом или ходить за покупками – было замечательно, мне нравилось это делать».
Большинство автобиографий являются свидетельством силы самообмана, но уловки одиннадцатилетнего автора показательно неуместны. Фантазии Артюра о доме, слегка разбавленные походами за покупками, вполне очевидны. Черствость мадам Рембо превращается в добродетель, в то время как злой, изображенный в черных красках отец получает искреннюю критику: его присутствие в рассказе совпадает в значительной степени с самым нескладным синтаксисом. Далее в отрывке упоминаются игрушки и сладости, которые отец имел обыкновение обещать сыну, если он покончит с арифметикой. («Но я никогда не мог».) Затем идет поток сознания, который столь же красноречив в своем роде, как картина, изображающая школьника, сгорбившегося за своей партой в преждевременном беспокойстве о своем будущем:
«Несмотря на это, отец отправил меня в школу, как только мне исполнилось десять лет.
Зачем, – спрашивал я себя, – учить греческий и латынь? Не знаю. В них нет нужды. Что с того, если я сдам экзамены? В чем смысл этих экзаменов? Ни в чем, не так ли? Нет, смысл есть. Говорят, что работу можно получить, только если выдержишь экзамен. Но мне не нужна работа. Я собираюсь стать рантье [человеком, живущим на проценты от собственных средств]. Даже если вам действительно нужна работа, зачем учить латынь? Никто не говорит на этом языке. Иногда я вижу в газетах написанное по-латыни, но я не собираюсь быть журналистом, слава богу. […]
И уверены ли мы, что латиняне когда-либо вообще существовали? Может, это выдуманный язык, и даже если латиняне и существовали, почему они не могут оставить меня в покое? Пусть они остаются со своим языком, а я буду рантье. […]
О, saperlipotte de saperlipopette! (Черт побери, черт побери!) Sapristi![65] Я собираюсь стать рантье. Не слишком весело целыми днями просиживать на скамье. Трижды черт побери!
Чтобы получить работу чистильщика сапог, нужно сдать экзамен, потому что работа, которую тебе могут предложить, – это работа чистильщика сапог, либо свинопаса, либо пахаря. Благодарю покорно, я не хочу этого делать. Черт возьми!
И сверх всего прочего тебе заплатят пощечиной. Тебя будут называть животным, что неправда, маленьким воришкой и так далее. О, черт побери!
Продолжение следует».
К концу эпизода Реймс XVI века подозрительно похож на Шарлевиль XIX века. Рембо в значительной мере сочувствует младшему городскому пролетариату, мишени для обид и агрессии взрослых. Одиннадцатилетнему школьнику, мать которого помешана на дезинфекции, чистка от грязи башмаков взрослых, наверное, казалась воплощением ужаса всех профессий. Возможно, мадам Рембо говорила Фредерику, который уже проявлял признаки отставания, что даже свинопасам пришлось сдавать экзамены. Артюр, напротив, определяет ключ к свободе в современном мире: он хочет быть капиталистом и бережливым человеком, как его мать, а не солдатом, как его отец. Не собирается он и посвящать себя учебе в школе, что рассматривается здесь как расширение тирании отца. Но сам рассказ показывает, что интеллектуальные занятия сами по себе для него очень привлекательны.
Другие интимные страницы тетради представляют собой небольшую галерею из семи набросков, предназначенных для иллюстрирования «Удовольствий молодости»[66]. Они изображают семейство Рембо, занимающееся своей повседневной саморазрушительной деятельностью. Два мальчика на тонущей лодке взывают о помощи. «Королева Скандинавии», одна из сестер Артюра, мчится на санках в преддверии аварии. Девочка балансирует на стуле, подвешенном к ручке двери. «Держись, ну!» – призывает с северным акцентом ее брат. Рисунок под заглавием «Сельское хозяйство» изображает детей, в изумлении всплескивающих руками при виде огромных мясистых растений, выросших в цветочных горшках. Религия представлена изображением двух сестер, стоящих на коленях, протягивающих куклу брату, одетому как священник. Подпись под рисунком: «Возьми и окрести его».
На рисунке под заглавием «Осада» мать, отец и двое сыновей стоят у окна и бросают метательные снаряды в толпу на улице. Какой-то мужчина в цилиндре говорит: «Нужно подать на них жалобу». И в конце, как бы объясняя это постоянное состояние неминуемой катастрофы: женщина сидит и плачет, в то время как мужчина или мальчик удаляется прочь, словно убегает с места преступления. Это капитан Рембо уходит из дома или Артюр следует его примеру?
«Осаду» можно трактовать как аллегорию отношений семейства Рембо с шарлевильским обществом. По загадочным причинам, возможно не связанным с мужчинами в цилиндрах, подающими жалобы, мадам Рембо снова собралась переезжать, на этот раз на рю Форест в дом № 20. Но тонущая лодка была взята из реальной жизни: это ялик дубильщика, который был пришвартован к берегу напротив горы Олимп. Эрнест Делаэ, сын вдовы, которая владела бакалейной лавкой в Мезьере, видел, как Артюр и его брат спокойно играли в лодке по дороге в школу. Это было их единственное время без присмотра. Они толкались ногами до тех пор, пока цепь не натягивалась, чувствовали, как их подхватывает течение, затем смотрели на реку, текущую мимо, прежде чем втянуть лодку обратно на берег и бежать в школу.
По словам Делаэ, братья Рембо были похожи на маленьких банкиров: в котелках и с зонтиками (хотя школа находилась менее чем в 700 метрах), при белых воротничках, в черных пиджачках и темно-голубых брюках, скроенных мадам Рембо на вырост, притом с таким запасом, что шесть лет спустя, когда Артюр отправился в Париж, на нем были все те же брюки темно-голубого цвета. Делаэ познакомился со старшим Рембо на уроке немецкого, и в коридоре, куда Фредерика часто отправляли стоять, согласно педагогической логике, за то, что он отставал от других. Сначала он узнал об Артюре как о палке, которой били Фредерика: учителя постоянно спрашивали, почему он не может быть таким же умным и прилежным, как его брат. «Кто такой этот Артюр?» – спросил Делаэ. «Артюр? – ответил Фредерик. – Он великолепен!»[67]
Завести знакомство с юным гением было непросто. Даже после того, как мадам Рембо перестала встречать их из школы, Артюр и Фредерик каждый день спешили прямо домой. Попытки запугать его разбивались о насмешливую улыбку и вид непонятной собранности. Он был странно равнодушен к игре в шарики, маркам и дракам в рекреациях. Говорили, что Артюр Рембо с жадностью прочел сотни книг. Утверждение Верлена, что Рембо прочитал всю французскую поэзию в возрасте четырнадцати лет, чересчур восторженное[68], но его Cahier des dix ans («Тетрадь-отчет за 10 лет») подтверждает тесное знакомство с некоторыми формами художественной литературы. Артюр был известен как мальчик с самомнением. Однажды, когда школьники гурьбой выходили из часовни, некоторые ученики старших классов собрались вокруг кропильницы и начали брызгать друг в друга святой водой. Рембо в ярости набросился на них, колотя кулаками и кусаясь, пока не вмешались учителя. Из-за этого он заслужил прозвище «маленького продажного святоши»[69], но это, кажется, лишь укрепило его репутацию убежденного интеллектуала.
Даже учителя находили его молчание нервирующим. Они вглядывались во всепоглощающей туннель, чтобы увидеть, что оттуда выйдет. Учителя по имени Леритье попросили дать Рембо дополнительные уроки, чтобы подготовить его к региональным испытаниям. Месье Леритье гордился своими дружескими отношениями с мальчиками, но его обычному трюку – порче фарфоровой безделушки, которая стояла на его столе, не удалось растопить лед, как и более опасному приему – утверждению, что он написал поэму в честь Орсини, человека, который[70] недавно пытался взорвать Наполеона III на ступенях здания Оперы. Рембо вежливо улыбался и выглядел смущенным. По-видимому, для него взрослый мир не таил никаких сюрпризов. Он привык жить с бомбой замедленного действия внутри себя.
Когда в 1866 году Делаэ наконец удалось вовлечь Рембо в разговор, тот доказал, что достоин своей репутации. Он уже имел славу интеллектуала. Фаза «продажного святоши», должно быть, продолжалась несколько недель. С тех пор он открыл для себя романтическую литературу и был чем-то вроде эксперта по пьесам и стихам Виктора Гюго. Но даже Гюго устарел. Делаэ был удивлен, узнав, что один из его одноклассников «не одобряет» coup d’etat 1851 года, который привел Наполеона III к власти. Рембо уже имел твердое мнение: «Наполеона III нужно отправить на галеры!»[71]
Посылать людей на галеры было любимым занятием мадам Рембо. Она уже мысленно отправила на каторгу большую часть Шарлевиля, но она никогда не думала о применении этого выражения по отношению к французскому императору. Делаэ почувствовал прилив волнения: «Боже! Что будет дальше!..» Шарлевиль вдруг показался ему очень маленьким.
51
Delahaye (1919), 82–83; Mouret, 82–83.
52
Robinet (1964); Petitfils (1982), 31.
53
В оригинале: «Un chat des Monts-Rocheux» – несуществующий вид, нечто вроде «рошский горный кот», аллюзия на деревеньку Рош. – Авт.
54
‘Honte’. («Позор»).
55
Pierquin, 145–146.
56
Mouret, 82–83; DAR, 723.
57
Robinet (1974), 854–856.
58
Robinet (1974), 856.
59
D, 67 and 275; Delahaye (1919), 81.
60
Poncelet to Berrichon. Briet (1956), 41; Murphy (1988).
61
Méléra (1946), 103 (письмо от Изабель; also On peke and Grant: Mary; Mille, 23–24; Pakenham (1989). Mary не надежен. См. Delahaye (1995), 107; Mouret, 71.
62
OC, 1027; Ruff, 8: cf. Briet, ed. (1956). Факсимиле: MB, 41–43.
63
Здесь сноска отправляет отца в Сент-Гард – личную гвардию Наполеона III. – Авт.
64
В оригинале предложение построено так, будто автор сравнивает отца с молодой девушкой. – Авт.
65
Черт возьми! Примерный эквивалент английского ругательства «Gadzooks!» (God’s hooks, nails of the Cross (гвозди Креста). – Авт.
66
PR, 19.
67
D, 66.
68
Verlaine (октябрь 1895 года), 969.
69
D, 273.
70
D, 279.
71
D, 71.