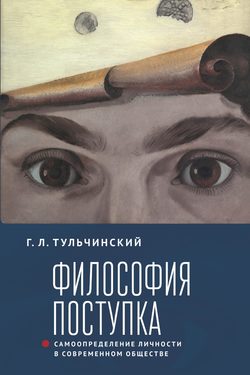Читать книгу Философия поступка. Самоопределение личности в современном обществе - Григорий Львович Тульчинский, Сергей Викторович Герасимов, Г. Л. Тульчинский - Страница 7
Глава 1. Поступок и личность
1.3. Содержание поступка
ОглавлениеТрадиционное понимание факторов поступка. Стимулирование и мотивация. «Внутренний» план поступка: стремления и возможности, решение и воля. «Внешний» план поступка: средства, результаты, оценка. Оценка и мотивация. Итоговая схема мотивационного механизма.
Традиционное понимание факторов поступка
Отдельные черты личности, такие, как темперамент (темп, ритм и интенсивность психофизиологической активности) и характер (устойчивый и целостный склад мышления и жизнедеятельности человека), наиболее полно проявляются именно в поступках. Поэтому следующим шагом важно рассмотреть его составляющие, выявить «скрытый схематизм» поступка, взаимодействие частей которого и может рассматриваться как «поступок в действии».
Традиционно в поступке различают внешние, объективные, и внутренние, субъективные, аспекты. Первые – суть конкретная выраженность поступка в форме физического действия (бездействия), жестов, слов и т. д., которые, так или иначе, влияют на окружающую материальную среду и вызывают разнообразные следствия. Вторые – есть определенные проявления сознания (мышления, чувств, эмоций, стремлений и т. д.). Анализ механизмов поступка при этом сводится к выявлению связи и взаимодействия как внешних, объективных, так и внутренних, субъективных, процессов и состояний, вызывающих решение совершить определенный поступок, направляющих и контролирующих его исполнение44.
Такой «субъект – объектный» анализ поступка вполне оправдан, но может приниматься только в самом первом и наиболее общем приближении, ибо он излишне абстрактен и груб. Так, субъект поступка – это не только идеальные процессы в сознании личности, но и «материальное тело» – биологическое единство личности или социальные организации. Более того, намерения, цели и желания, преследуемые субъектом поступка, носят вполне объективный характер, выражающийся в направленности действий на вполне определенные предметы объективной действительности. Со своей стороны, объективность поступка обусловлена не только его внешним результатом, но и средствами, методами его достижения, включая социальные нормы, ценности, знание законов природы и общества, которыми субъект руководствуется и которые существенно определяют мотивацию. Таким образом, субъективные и объективные компоненты поступка оказываются «взаимопроникающими»: объективное существенно представлено в субъективном, а последнее – во внешне объективном. Поэтому необходимо дополнительное уточнение содержания составляющих и определяющих поступок факторов и соответствующих им понятий.
Уяснение поступка, в отличие от других форм активности человека, как уже было показано, состоит прежде всего в выявлении не только того, что человек сделал, но и того, что он намеревался совершить. Иначе говоря, необходимо уточнить, не является ли действие случайным, ошибочным или совершенным против воли самого субъекта, направлено ли оно на достижение определенных целей. Именно качество направленности (или, выражаясь более философично, – интенции45) поступка – то существенное, что выделяет его среди других форм проявлений человеческой активности. Субъективными или объективными факторами обусловлена направленность поступка? Испокон веков попытки дать ответ на этот вопрос в рамках субъект – объектных представлений о поступке приводили к достаточно грубым построениям. Так, Георгий Конисский, обобщая этические учения о поступке, писал о двух причинах и основаниях поступка: внутренних и внешних. Первые зависят от человека. Среди вторых Конисский называет Бога (действующего тайно или явно для субъекта прямо через его волю или через объекты), ангелов (действующих через объекты), людей (влияющих своими действиями – силой, подарками, оскорблениями и т. д. или речью, убеждением), звезды, объекты46. Уже из этого перечня видны методологические трудности субъект – объектной модели.
Если говорить о причинах человеческой активности, то, в принципе, можно выделить три основные подходы. Согласно первому, человек действует под воздействием внешних сил. Фактически, он – «автомат», игрушка этих внешних сил, в качестве каковых могут пониматься социальное окружение, силы добра и зла, божественные и дьявольские силы, расположение звезд и т. д. – вопрос в выборе интерпретации. Такова концепция человеческого поведения в язычестве с его магией, порчей, сглазом и т. п., в ряде философских концепций – от манихейства до марксизма с его трактовкой личности личности как системы общественных отношений. Не даром в советском марксизме этика сводиалсь к классовым интересам и политической целесообразности. Для понимания поведения личности и выработки отношения к ней достаточно было знать – «из каких» этот человек: из «бывших», из «кулаков» или из рабочих, из сельской бедноты – и все с ним понятно. Недалеко от такой позиции уходит и бытовой опыт: «Мой мальчик не мог этого сделать – это все улица», «Моя девочка так сделать не могла – это все ее подруги», «Да я бы разве пил – это все водка проклятая», «Это не мы такие – это жизнь такая»… Изымем человека из «плохого окружения», запретим водку, сменим место жительства – и проблема будет решена. Собственно, на этой модели построена великая русская литература с темой «лишнего человека». Проблема в плохом обществе, надо его заменить и всем найдется достойное применение. Однако, если убрать сарказм и иронию, то модель эта сама по себе ни плоха, ни хороша, и обладает привлекательной объясняющей силой. Например, она успешно применяется в бихевиористской психологии, трактующей поведение как реакции на внешние стимулы.
Другой подход объясняет поведение внутренними силами, действием некоего активного субстрата, носителем которого является человек – вопрос, опять – таки в интерпретации этого субстрата и этих сил. Это могут быть душа, какое – нибудь инфернальное существо, инстинкты, либидо – как раннем фрейдизме, Эрос и Танатос – как во фрейдизме позднем. И эта модель успешно применяется не только в практиках экзорцизма, но и в психоанализе, практиках очищения – физического и духовного. Примыкает к этому подходу и объяснение поведения темпераментом, характером, «типом» личности, силой или слабостью воли.
Согласно третьему подходу, человеческая активность определяется балансом внешних и внутренних сил. В случае, если возникает их дисбаланс, когда человеку чего – то недостает или его что – то переполняет, возникает дисбаланс, переживаемый как дискомфорт и человеку надо от чего – то избавиться иди что – то обрести.
Повторюсь – каждый из этих трех подходов обладает объясняющей силой и используется в обыденном опыте, воспитательных практиках, в политике. В дальнейшем мы будем опираться преимущественно на третий подход – на потребностную модель, которая лежит в основе объяснения рыночного поведения, на ней основаны маркетинг, психологии менеджмента.
Понятию «потребность» в рамках философии, социологии, политической экономии, экономической теории, общей и социальной психологии придается различный смысл47. Согласно мнению одних исследователей, потребности выражают реальное противоречие в сознании субъекта как его влечение безотносительно к реальному положению дел и возможностям реализации, т. е. как вполне определенное, но чисто субъективное стремление48. Согласно другой точке зрения, потребность есть противоречие между реальным и необходимым, порождаемое объективным ходом общественной практики и отражаемое в виде стремлений в сознании социального субъекта, побуждаемого этим противоречием. Потребность предстает как предметы и явления, реально необходимые личности (социальной группе, классу, обществу в целом) для осуществления жизнедеятельности49. Имеется и третья позиция, в рамках которой потребность трактуется как единство субъективного и объективного содержания отмеченного противоречия50. Представляется, что эти точки зрения не противостоят, а скорее предполагают друг друга, отражая реализацию и «прорастание» одного и того же фундаментального фактора человеческой жизнедеятельности.
Любая детерминация человеческого поступка объективна, но она становится таковой лишь постольку, поскольку она субъективна, «пропущена» через субъекта. Речь идет не о просто субъективных стремлениях, а об осознанных объективных факторах действий и поступков. Иначе говоря, побудительные силы, «проходящие через голову», – это осознанная рефлексия над потребностями и путями их реализации. Как писал С.Л. Рубинштейн, «мотивация – это через психику реализующаяся детерминация»51. Однако наиболее общее решение проблемы об источнике направленности поступка как субъективизации его объективных факторов предполагает дальнейшее развертывание, конкретизацию и уточнение содержания и соотношения чрезвычайно близких и нередко смешиваемых понятий «потребность», «интерес», «мотив».
Этот фактор и общественного развития в целом, и поступков индивида, и его самопознания – противоречие реального и необходимого, существующего и должного. Именно это противоречие и выступает собственно потребностью, а социальная деятельность есть не что иное, как разрешение этого противоречия. В ходе разрешения данного противоречия изменяется и объект, и субъект, формируются и проявляются новые потребности, а также формируются способности их удовлетворения.
Пока достаточно зафиксировать главное – в основе направленности и побуждения поступка лежит потребность как исходное противоречие между реальным и необходимым, должным и сущим. Это обстоятельство, кстати, позволяет иногда видеть источник поступка в дизадаптации – нарушении приспособления, в испытываемом дискомфорте, дисбалансе с окружающей средой, как нарушение равновесного состояния. Для биологических и физиологических рассмотрений поведение человека вполне сравнимо с поведением любого живого организма.
Важно, что потребность как переживаемый дискомфорт и дисбаланс, как противоречие между желаемым и действительным – не чисто субъективна. Она объективна по самой своей сущности – как в плане желаемого, так и в плане реализации. Но действительность в этом противоречии фигурирует не сама по себе, а как значимая для социального субъекта: либо в плане целей, либо в плане средств их достижения. Абсолютизация роли желаемого, необходимого ведет к субъективному типу фрейдизма или экзистенциализма, абсолютизация роли объективного – к объективно – идеалистическим или вульгарно – материалистическим построениям. В потребности происходит синтез и сопряжение обеих сторон противоречия, что и обеспечивает не только направленность поступка, но одновременно и непосредственно побудительный его момент, причину. Поэтому все понятия, используемые при описании и объяснении человеческого поведения (интересы, мотивы, цели, ценности, диспозиции, установки и т. д.), производны от потребностей, определяются через них52.
Потребность как исходный импульс поступка, его возникновения и развития развертывается и в объективном, и в субъективном планах. В последнем случае, будучи пережитым и осознанным, «пропущенным через голову», это исходное противоречие становится мотивацией поступка. Мотивация есть субъективное выражение и проявление потребности как исходного противоречия, лежащего в основе поступка, как субъективная основа поступка она – результат рефлексивной деятельности сознания по осмыслению человеком действительности и своего места в ней. Посредством системы мотивов – факторов направленности побуждений – мотивация вплетает человека в целостный контекст его жизнедеятельности53.
Стимулирование и мотивация
В этой связи важны три важных уточняющих обстоятельства (см. Рис. 1.3). Во – первых, традиционно различают мотивы двоякого рода: навязываемые извне (стимулы) и свободно выбираемые личностью. Такое различение является некорректным, поскольку любая мотивация имеет «внутренний» характер. Нет внешней мотивации. Извне возможно только стимулирующее воздействие, которое развертывается в плане поощрения или наказания. Слово стимул восходит к латинскому stimulus – так называлась острая палочка, которой древние римляне сзади подталкивали древнеримскую скотинку, чтобы она двигалась в нужном направлении. Вряд ли это было приятно скотинке, поэтому перед нею спереди подвешивали морковку. По – русски эта практика стимулирования называется политикой кнута и пряника. Эта практика хорошо стыкуется с практикой дрессировки животных и с упомянутым бихевиоризмом в психологии. Хорошо ведешь себя – получи поощрение, плохо – получи наказание.
Система стимулирующих воздействий не сводится к прямому телесному воздействию. Упомянутая систематизация Е.Ю. Патяевой таких воздействий включает широкий спектр способов речевого воздействия, включая убеждение, внушение), захваченности групповыми и массовыми действиями54. Но одни и те же стимулы, применяемые к разным людям, дают разный результат. Так же как от зажженной спички можно прикурить, разжечь костер, устроить взрыв, а может ничего не получиться – результат зависит от того материала, к которому зажженная спичка подносится. Кирпич при всем желании и большом огне – не разгорится. Так и эффект от стимулирующего воздействия зависит не от характера и размера стимула, а от того, к какому человеческому материалу этот стимул применяется. В качестве «фильтра», через который пропускается стимулирующее воздействие, выступает система ценностей, убеждений, стремлений, престижей, значений конкретной личности – то, что обычно понимается в качестве мотивации – системы внутренних побуждающих воздействий. Поэтому стимулы в лучшем случае могут содействовать изменению мотивации, но сами мотивами быть не могут.
Факторы поведения
• Внешние (стимулирование)
• Внутренние (инстинкты, реакции,
мотивация = диспозиции)
Мотивация – не причина, а объяснение
поведения
Рис. 1.3.
В конечном счете, взятое само по себе, вне мотивации, внешнее воздействие как детерминация поступка может выступать только в крайнем проявлении физического насилия и принуждения: убийства, заключения под стражу, телесного наказания, пытки и т. д. Но даже телесное наказание и пытка предполагают наличие в сознании мотивационной структуры: определенных интересов и конкретных целей, принимаемых сознательно. Подвергаясь формам физического насилия, человек имеет свободный выбор приоритетов – принять требования или отвергнуть их. «Физическое принуждение может сделать действия каузально невозможными, но не может сделать их каузально необходимыми»55. Можно ограничить свободу человека, заключить его в камеру, посадить на цепь, замуровать в стену, лишить, наконец, жизни. Все это лишь делает невозможным определенные его поступки. Но ни одна мера физического принуждения никогда и никого не заставила еще непосредственно сделать что – то. Человек только сам решает – делать ему это или нет, как в известной байке о лошади, которую можно подвести к воде, но невозможно заставить пить. Так и с мотивацией. Невозможно извне мотивировать другого человека. Но можно создать (в том числе с помощью стимулирования) некие мотивационные условия для реализации или развития мотивации. И еще важно попытаться понять мотивацию этого человека. В этой связи – во – вторых… Мотивация, будучи неким фактором, недоступным непосредственному наблюдению, является диспозицией, т. е. качеством, проявляемым в момент его реализации. Например, чтобы понять – растворимое это вещество или нет, надо поместить его в воду. Растворилось – растворимое было, не растворилось – значит, нерастворимое. Аналогично понять сладкое нечто или соленое можно только попробовав его на вкус. Также и о мотивации можно судить только по конкретным действиям. В психологии такие заключения связываются с фундаментальной ошибкой атрибуции56. Например, из того факта, что я зашел в магазин, делается заключение, что я люблю книги, хотя причин может быть множество: от того что я заходил за подарком для знакомого любителя книг до попытки спрятаться от дождя. На этой фундаментальной ошибке атрибуции основана технология маркетинга с использованием «больших данных» (Big Data) и практика подталкивания (nudge) потребительского поведения. Но следует признать, что с накоплением Big Data вероятность обоснованности таких заключений возрастает. А теоретик и практик «социальной физики» А. Пентленд, даже подчеркивает, что сила Big Data, nudge и прочей социальной физики – это ориентация не на поступки, а именно на рутинное поведение, на его частоту и стабильность, повторяемость57.
И все же тогда, и именно в этой связи, в – третьих, мотивация – не причина поведения, а его объяснение58. Кем? Специалистами, родными, близкими, самим собой. Это не много, но и не мало. Мотивация – принятые личностью сценарии поведения, принятые на основании неких объяснений – предваряющих действие или после него. Функция рациональной мотивации состоит не только в том, чтобы действовать «по плану». Строгое программирование каждого шага необходимо, например, следователю, разведчику или шахматисту, рассчитывающему на много ходов вперед свои действия и действия противника. Но в жизни функции рациональной мотивации не ограничиваются непосредственным программированием предстоящих действий. Это вытекает из самой природы мотивации – детерминации, «пропущенной через голову», через сознание личности. Мотив – не непосредственный фактор, не причина действия. Он суть объяснение причин действия, способствующее принятию решения о его начале. Он – формулирование представлений о таких причинах59. Мотивация придает поступку осмысленный характер. А смыслом поступка является то, «как он входит в общий замысел, в план жизни человека»60. Одно и то же действие, поступок, приобретает различный смысл в зависимости от плана (замысла, т. е. системы мотивации), в который они включаются. Например, как в классическом примере А.Н. Леонтьева, можно предложить и выявить целый спектр мотиваций того, почему ребенок сидит и решает задачу из школьного учебника: чтобы научиться арифметике, чтобы не огорчать учителя, чтобы пойти потом погулять и т. д.
Направленным действие становится только как осмысленное, когда ему реконструируется определенная мотивация. Как писал Ф. Ларошфуко, истинно великим делом можно считать лишь то, которое было результатом великого замысла61. Именно «включение действия в новый, более обширный контекст придает ему новый смысл и большую внутреннюю содержательность, а его мотивации – большую насыщенность»62. Всякое расширение контекста поступка есть не что иное, как нахождение его все более глубоких оснований. Поэтому роль мотивации заключается еще и в интерпретации, истолковании и понимании поступков как сторонним наблюдателем, так и самой личностью.
Нередко мотивация – поздняя рационализация, объяснение или оправдание уже совершенного действия. А это означает, что мотивация – суть интерпретация. И при некотором интеллектуальном усилии можно найти еще более глубокую мотивацию. Так, в суде часто судят не столько за деяние, сколько за его мотивацию. Выступает обвинение: «Да вы посмотрите, кто этот человек… Это же прирожденный, генетический преступник. Кто у него мать? – Все знают его мать. Кто у него отец? – Никто не знает, кто его отец, даже мать. Как он развлекался в детстве? – У него не было нормальных игрушек. Он кошкам хвосты поджигал, лягушек вспарывал. И если против него не были своевременно использованы конрацептивы, то мы должны изъять его из общества, а то и из жизни!» Выступает защита: «Да вы посмотрите, кто этот человек… Это же несчастный человек! Кто у него мать? – Все знают его мать. Кто у него отец? – Никто не знает, кто его отец, даже мать. Как он развлекался в детстве? – У него не было нормальных игрушек. Он кошкам хвосты поджигал, лягушек вспарывал. Это не его вина. Это не он убил. Это наше общество убило его руками». А подсудимый слушает и ему очень интересно – у него в голове всего этого не было, но ему объясняют…
Не случайно так много концепций мотивации и классификаций потребностей. Классификация потребностей имеет обширную литературу. Различные авторы, исходя из различных целей исследования, предлагают разнообразные классификации и систематизации потребностей: А. Маслоу насчитал 15 обоснованных и разработанных классификаций, Мак – Дауголл—18, Меррей и Пьерон – 20, а Обуховский – более 10063. Э.Э. Голосовкер64 насчитывал три «побуда», двигающих человеком. Первый – «вегетативный» побуд – обусловлен биологией и физиологией, стремлением к выживанию биологического организма. Второй – «сексуальный» – обусловлен стремлением к выживанию биологического рода. Мы думаем, что это нам «хочется», а это род хочет продолжиться. Третий – «культуральный» побуд или побуд к бессмертию. Так как каждый из нас видит, чувствует, понимает мир – никто и никогда не увидит, не почувствует и не поймет. И стремление сохранить это неповторимое уникальное видение, и понимание стимулирует человека к поискам способа такого сохранения: в идее бессмертия души, в поисках Бога, или – в творчестве, в стихах, живописи, музыке, научных идеях, политике…
В этой связи представляется важной концепция В.А. Ядова, акцентирующая внимание на потребности в достижении двух противоположных целей: слияния с социумом и выделения своего «Я» в качестве автономной единицы65. Стремление слиться с обществом и одновременно выделиться в нем, стать родовым существом и одновременно уникальным – основной нерв и мотивации поведения человека, его самопознания: быть сопричастным чему – то важному, придающему смысл существованию, и в этой сопричастности не быть забытым, незамеченным. Определяющая и фундаментальная роль этого обстоятельства станет предметом специального рассмотрения в этой книге.
А по мнению П.В. Симонова, перечисление и классификация всех потребностей человека дело совершенно бесплодное, так как потребности динамичны и постоянно трансформируются друг в друга, определяясь общим фоном цивилизационного развития66.
Дело, представляется, не в классификациях и типологиях, а в уяснении действия общего механизма мотивации, реализующего любые потребности. Понимание такого механизма указывает на принципиальные факторы мотивации, поддающиеся распознаванию, анализу и учету.
«Внутренний» план поступка: стремления и возможности, решение и воля
Итак, мотивация как осознаваемая потребность есть система мотивов, определяющих выбор поступка личностью. Эти мотивы связаны как с побуждением, так и с реализацией действий, актуализирующих поступок. Даже из такого, достаточно общего понимания ясно, что мотивация образует сложный комплекс, а мотив— неоднозначное понятие67. Общей чертой подходов к его анализу является различение двух начал, составляющих мотивацию: во – первых, начала, побуждающего к действию и направляющего его; во – вторых, начала, динамизирующего поступок, актуализирующего его во внешних проявлениях за счет предпринимаемых усилий. В первом случае имеется в виду стремление, во втором – динамизирующее усилие. И стремление, и усилие являются двузначными, «бимодальными» понятиями. Стремлением является и собственно стремление, и избегание чего – либо. Аналогично и усилия могут быть как побуждающие, так и сдерживающие. В обоих случаях речь идет лишь о позитивном или негативном выражении одного и того же68.
В той мере, в какой стремление (и избегание) является осознанным, оно выступает интересом. Интерес есть выражение сознания необходимости удовлетворения той или иной потребности. Поэтому именно с интереса и начинается собственно мотивация, но к нему не сводится. Мотивом становится не сама осознанная потребность, а образ ее удовлетворения, имеющийся в опыте и сознании личности как определенная программа реализации потребности. Поэтому действенной мотивацией интерес становится тогда, когда потребность получает обоснование необходимости и возможности своего удовлетворения, модифицируясь в конкретные предметные цели длительности. Вне зависимости от конкретной предметной направленности интерес остается выражением простого стремления. Но если интерес подкрепляется представлением о конкретных целях, он становится вполне определенным намерением.
Главным отличием намерения от простого стремления является поэтому конкретизация интереса во вполне определенные и конкретные цели, представляющие собой не что иное, как представление о желаемом результате. Цель суть образ желаемого конкретного результата. Этот образ может выражаться как образ желаемого будущего («так нет, но хочу, чтобы так было») или в знании нежелаемого настоящего («так есть, не хочу чтобы так было»). При этом, человек чаще лучше знает, чего он не хочет, чем то, что он хочет. Более того, часто «хочу» является поздней, а то и защитной рационализацией «не хочу». Восставшие на «Очакове» матросы не социалистическую революцию хотели, они не хотели есть червивое мясо. В 1917 – м и в 1991 – м люди выходили на улицу не желая настоящего, вряд ли они желали то будущее, которое получили.
Однако содержание поступка не исчерпывается целями. Можно иметь очень ясные и четкие цели, но тем не менее быть лишенным возможности реализации поступка. Речь идет о том, что намерения и стремления должны дополняться и подкрепляться представлением о возможности его совершения, когда намерение развертывается в конкретную программу действий. В этой связи встает необходимость дополнения намерений (интереса, конкретизированного в целях) еще таким компонентом мотивации, как потенция личности, отражающим знание личностью средств, путей и возможностей достижения целей (П.В. Симонов называет этот компонент мотивации осознанием личностью ее «вооруженности»69, другие авторы – «компетентностью»). Другими словами, имеются в виду не сами способы и средства деятельности, реализующие намерения субъекта, а представления о способах и средствах, которыми он располагает. Если в целях находит выражение «знание что» необходимо субъекту, то здесь речь идет о «знании как» это реализовать и достичь.
В определенном смысле возможности, как составляющая механизма мотивации, связаны со способностями. Разумеется, абсолютно справедливыми являются утверждения о том, что «понятие способностей является одним из ключевых в раскрытии содержания личности», что «в диалектике способностей и потребностей заключены немалые возможности объяснения развития личности», и что «принцип деятельности не будет доведен до "конца", если в системные характеристики личности – в диалектической связи с иерархией мотивов, потребностей не будет "заложена" иерархия способностей личности»70. Однако анализ способностей ведет в специфически психологические аспекты проблемы. В системе же мотивов поступка существенное место имеет представление личности о своих собственных возможностях реализации конкретных целей. А это не только способности, но и обученность, усвоенный опыт, иногда вне связи со способностями.
Более того, П.В. Симонов неспроста говорил о «вооруженности». Владение средствами, ресурсами, инструментами выступает мощным мотивационным фактором. Примерами могут быть «вьетнамский синдром», впервые выявленный у американских солдат, участвовавших в военных операциях во Вьетнаме, потом в нашей стране были констатированы «афганский», а потом «чеченский» синдромы. Это когда молодой человек, имея в руках оружие, мог решать вопрос – жить другому человеку или нет. Возвращаясь к мирной жизни он может испытывать «ломку»: «Почему я должен улыбаться этом человеку, иметь с ним дело? Он мне не нравится. Он не наш. Хочу обратно. Там было проще». Иногда такие люди становятся опасными для окружающих, вербуются криминальными структурами. Поэтому в США военнослужащие, участники операций в «горячих точках», проходят специальную психологическую реабилитацию.
Возможности и стремления можно уподобить физическим характеристикам: возможности – скалярным, а намерения – векторным. Если возможности (способности, обученность, вооруженность) определяют потенции личности, то намерения – направленность, интенции. И возможности («могу – не могу») в большей степени определяют поведение, чем стремления («хочу – не хочу»). Часто само стремления выступают защитной рацинализацией возможностей. Человек, имеющий музыкальные способности хочет их реализовывать, тогда как человек с плохой координацией движения не хочет и не любит танцевать. Человек замкнутый, не обученный публичному общению не хочет заниматься переговорами, сетевым маркетингом, будет избегать предложения работы в этой сфере.
Важным фактором мотивации является соотнесение стремлений и возможностей с последующим принятием решения. Роль мотивации как конкретизации и уточнения направленности поступка заключается именно в принятии определенного решения. Обычно человек заинтересован в реализации решения, принятого им самостоятельно или в решении которого он принимал участие. И наоборот – вынужденность реализовывать чужое решение, «из – под палки» порождает неприятие, дизмотивацию. Само принятие решения может трактоваться как поступок, имеющий определенные мотивы. Очевидно, необходимо, чтобы в принятом решении цели и средства их достижения находились в строгом соответствии и не противоречили друг другу. Поэтому в дальнейшем специальная глава работы будет посвящена вопросу о возможности построения рациональной, «логической» программы поступка.
Сознание возможности совершить некоторое действие может побуждать к нему и направлять личность, даже динамизировать поступок. Соотношение намерений и возможностей во многом определяет эмоциональный настрой личности. Согласно информационной теории эмоций, предложенной П.В. Симоновым71, эмоция есть выражение соотношения информации, необходимой для удовлетворения потребности личности, с той информацией, которой она владеет. Это соотношение определяет как бы «знак» эмоции. Недостаток наличной информации до необходимой вызывает отрицательные эмоциональные переживания, вплоть до невротических (невроз, согласно П.В. Симонову,– «болезнь неведения»). Превышение – положительные эмоции. Эта концепция удачно выражает значение соотношения намерений и потенций в мотивации поступков. Дополнение намерений возможностями, целей – знанием о путях и способах их достижения дает полноту субъективного разрешения противоречия, заложенного в потребности. В сознании субъекта как бы разворачивается программа удовлетворения потребности, а исходный дискомфорт именно разрешается, подобно решению задачи. Основное содержание мотивации как отрефлектированной сознанием потребности представляет собой «развернутую программу решения осознанного противоречия между должным и действительным». В этой программе как бы переживается снятие неопределенности, разрешение противоречия «в принципе», когда «цели ясны, задачи определены», и остается только взяться «за работу», т. е. реализовать принятое решение.
Таким образом, поступком является не любое действие, а только сознательно спрограммированное на достижение вполне определенного (в цели) результата и вполне определенными средствами самим субъектом действия.
Нередко человек принимает решение, но не реализует его: «Обязательно брошу курить, но с понедельника», «Начну худеть со следующего месяца», «Интересный проект, но давайте начнем его с нового года». И осуществление решения откладывается и откладывается. Таких людей называют безвольными. И наоборот – есть люди волевые, добивающиеся реализации поставленных целей, способные рисковать ради этого. Проблема воли как фактора, переводящего поступок из внутренне субъективного плана в объективный фундаментальна для анализа поступка и ей посвящен специальный большой раздел книги.
Таким образом, поступком является не любое действие, а только сознательно спрограммированное на достижение вполне определенного (в цели) результата и вполне определенными средствами. Роль же мотивации как конкретизации и уточнения направленности поступка заключается именно в принятии определенного решения. Само принятие решения может трактоваться как поступок, имеющий определенные мотивы. Очевидно, необходимо, чтобы в принятом решении цели и средства их достижения находились в строгом соответствии и не противоречили друг другу. Поэтому в дальнейшем специальная глава работы будет посвящена вопросу о возможности построения рациональной, «логической» программы поступка. Следует, однако, отметить, что функция рациональной мотивации состоит не только в том, чтобы действовать «по плану». Из самой природы мотивации, как детерминации, «пропущенной через голову», а точнее – как объяснение (а то и оправдание) «задним числом» совершенных действий и повторение таких сценариев поведения, следует достаточно пластичный характер мотивации, возможность ее изменения по мере накопления разнообразного опыта72. Новые вызовы, с которыми сталкивает нас жизнь, решения проблем в новых ситуациях и форматах, возвращают к осмыслению и переосмыслению пройденного пути, давая возможности комбинирования сценариев, а то и выработки новых неординарных сценариев и стратегий поведения73. Каждое такое переосмысление расширяет горизонт объяснения совершаемых действий, придавая ему все более убедительный и рациональный характер, находить все более убедительные аргументы, включая социальную значимость и даже необходимость конкретных определенных поступков74. Более того, в этом процессе немалую роль играют комментарии социального окружения: родных, близких, друзей, учителей, коллег, руководителей, специалистов-экспертов и просто наших адресатов – пользователей социальных сетей.
В ходе такого развития мотивационной системы мотивация утрачивает характер непосредственного и однозначного детерминирования поступка, становясь детерминацией все более нелинейной и опосредованной75, погружаемой во все более широкий контекст. Всякое расширение контекста поступка есть не что иное, как нахождение его все более глубоких оснований. Поэтому роль мотивации заключается еще и в интерпретации, истолковании и понимании поступков как сторонним наблюдателем, так и самим субъектом действия.
Мотивация детерминирует поступок в субъективном плане, причем далеко не однозначно, допуская толкования. Не проще и с внешним планом
«Внешний» план поступка: средства, результаты, оценка
Внешне (объективно) поступок проявляется в однозначных и необратимых действиях и результатах этих действий. Поэтому вне своего внешнего проявления и реализации принятого решения, поступок поступком не является. В этом его проявлении следует различать два аспекта: непосредственный и отдаленный76.
Первый связан с непосредственным физическим действием: телодвижением, жестом или отсутствием таких проявлений в ситуации их подразумевающих, ожидаемых и т. д. Он выражается в приведении в движение физического тела индивида. Даже такие простейшие действия, как нажатие кнопки звонка или произнесение слова, предполагают такое действие. От одного только намерения и усилия воли ни звонок не зазвонит, ни речь не зазвучит. Вполне правомерно рассматривать непосредственный аспект и более расширительно – как приведение в действие всех имеющихся у социального субъекта в распоряжении средств и ресурсов, включая все возможности его тела (точнее – организма как психофизиологической целостности), так и доступные ему средства и орудия деятельности. Поэтому точнее было бы называть, непосредственный аспект поступка средствами его осуществления, использование которых, приведение их в движение влечет достижение результата – отдаленного аспекта. Именно представление о доступных личности средствах (как ее собственных способностей, так и других средств, орудий, которыми она владеет) и является потенцией – одной из. существенных составляющих мотивации.
Отдаленный аспект образует собственно итог, результат поступка – некоторое событие, реальный факт, в котором актуализуется поступок. Результат может быть существенным – тот, ради которого, собственно, и предпринимался поступок, а также несущественным – побочное следствие реализации поступка. Так, если мы открываем окно, то существенным результатом является сам факт его открытия, а несущественным – предположим, скрип или то, что в комнату влетел комар. Но что существенно, а что не существенно зависит от контекста рассмотрения. Участвуя в соревнованиях по спортивной стрельбе, что человек делает? Задержав дыхание плавно сгибает палец? Или, сгибая палец, нажимает на курок? Или, сгибая палец, нажимая на курок, стреляет? И чего он хочет – выстрелить?, попасть в цель?, выиграть соевнования?, выиграв соревнования, получить приз?, сделав все это, купить квартиру?, решив вопрос с жильем, создать семью? И что является результатом его выстрела? Этот мысленный эксперимент показывает, что в контексте поступка не только мотивация (внутренний план), но средства и результат (внешний план) выступают предметом интерпретирующей квалификации. Это всегда интерпретация post factum, поздняя рационализация, осуществляемая близкими, специалистами (вроде психотерапевта или духовного наставника), самим человеком.
Знание о необходимом результате как о конечной цели поступка выражено в содержании мотивации представлением о цели, уточняющей общий интерес и стремления личности. Так, профессиональная подготовка во многом состоит как раз в том, чтобы перевести мотивацию в дальний план. Например, чтобы человек, садясь за руль автомобиля, не думал, как выжимать газ и как крутить этот руль, а сосредоточивался на том, чтобы вовремя доехать до нужного места, все прочее переведя в план автоматических, рефлекторных действий. А цепочки вменяющих мотиваций могут возводить ответственность от конкретных желаний до уровня смысла жизни – «зачем живу?». Как говорил один из персонажей А. Платонова, «я себе придумаю что – то вроде смысла жизни и от этого увеличу производительность труда».
Не будучи причиной поведения, а лишь объясняя мое прошлое, мотивация, как объясняющие интерпретации выполняет немалую роль – принимая эти объяснения, я отсекаю для себя другие сценарии поведения, другие жизненные сюжеты.
Таким образом, можно утверждать, что средства и результат суть факторы объективного плана развертывания исходного противоречия поступка. Только наличие реализованной мотивации и делает поступок целостным образованием, синтезом и интеграцией субъективного и объективного, материального и идеального, необходимого и возможного, т. е. разрешением исходного противоречия – реализацией потребности. Схематически соотносительность субъективного и объективного планов развертывания этого противоречия можно представить следующим образом (см. Рис. 1.4):
Рис. 1.4.
Оценка и мотивация. Итоговая схема мотивационного механизма
Совершаемый поступок приводит к результатам: непосредственным и отдаленным. Первые связаны с непосредственными физическими действиями: телодвижениями, жестами и т. п. Даже такие простейшие действия, как нажатие кнопки звонка или произнесение слова, предполагают такие движения. Отдаленный результат образует собственно итог, результат поступка – некоторое событие, реальный факт. Результат этот может быть существенным – тот, ради которого и предпринимался поступок, а также несущественным – побочным следствием совершенного поступка. Так, если мы открываем окно, то существенным результатом является сам факт его открытия, а несущественным, например, скрип петель окна или то, что в комнату влетел комар.
Непосредственные и побочные следствия поступков создают цепочки, сети необратимостей, из которых и составляется, ткется ткань человеческого бытия, жизни общества в целом. Что первоначально выглядит несущественным, потом в жизненной ретроспективе может предстать переломным событием человеческой истории (переход Рубикона Каем Юлием Цезарем, за которым последовали поход на республиканский Рим, а впоследствии и создание Римской империи; выстрел сербского террориста Гаврилы Принципа в австро – венгерского эрцгерцога Фердинанда, давший толчок раскрутке маховика Первой мировой войны). Значение тех или иных действий открывается, таким образом, только в социальном контексте и зачастую только со временем.
Для человека как социального субъекта важен и существен результат не сам по себе, а результат значимый. Поэтому содержание поступка включает в себя также и оценку его объективного плана – оценку не только самого полученного результата, но и использованных для его достижения средств. Речь идет об оценке как со стороны социума, так и самой личности. Более того, сама эта оценка выступает как еще один мотивационный фактор. Причем такая оценка существенна во всех границах поступка. Наиболее ясна она в правовых границах – как признание действий и поступка в целом правомерными или противоправными, в последнем случае оценка завершается правовыми санкциями. Достаточно просты и социально – психологические аспекты оценки – их содержание суть определение значимости (положительной или отрицательной) для личности данных действий и других составляющих поступка. Оценки эти закрепляются в ценностных установках и ориентациях личности, выступающих критериями последующих оценок в рамках мотивации. Наиболее сложны оценки в нравственных границах поступка. Их диапазон зависит во многом от субъекта оценки и от нравственного самосознания личности и определяется критериями от жажды личной славы до абсолютизированных угрызений совести нравственного ригоризма с его комплексом «метафизической вины и ответственности».
Оценка может реализоваться социумом, как система социального контроля, убеждения и принуждения личности в соответствии с действующими в обществе нормами и традициями: правовыми, политическими, нравственными, научными, религиозными и т. д. Оценка может, как уже отмечалось, реализоваться и самой личностью, как ее ценностные установки и ориентации, выражающие определенное отношение личности к реальности, своим действиям. Тем самым, оценка реализуется и в составе мотивации – как актуализация установок и ориентаций на определенные «ценностные (значимые) предметности» в виде целей поступка, и в готовности действовать определенным способом, исходя из прошлого опыта личности, т. е. в ее потенциях.
«Внутренний» (личностный, субъективный) и «внешний» (объективный, социальный) планы поступка не только взаимосвязаны, но и переходят один в другой, образуя нечто вроде ленты Мёбиуса, в которой концы ленты соединены так, что противоположные плоскости ленты сливаются в самозамкнутую единую поверхность.
Сказанное позволяет завершить проведенное в этой главе рассмотрение «мира поступка», его составляющих и их «скрытого схематизма» с помощью итоговой схемы, дающей представление о механизме поступка, соединяющем его объективный и субъективный планы, их прямую и обратную связи. (Рис. 1.5).
Таким образом, круг замыкается. В содержание поступка входят намерения, возможности, приведение их в соответствие (решение), полученные результаты (непосредственные и отдаленные), а также их оценка самой личностью и другими людьми. Внешнее и внутреннее, социальное и индивидуальное не противостоят друг другу. Это не два плана, а один, не две плоскости, а одна. Подобно ленте Мебиуса, перекручиваясь, они образуют одну плоскость. Эта лента протягивается через сознание личности, а исходя из нее – образует ткань социальной жизни.
Рис. 1.5.
Истоком, конечным результатом и критерием поступка является, таким образом, социальная практическая деятельность, в которой человек выступает как принципиально социальный субъект. Поступает, в итоге, личность как социализированный актор, сформированной в социально – культурных практиках. Объективным факторам поступка, внешним по отношению к человеку и социальным в своей основе, принадлежит определяющая роль в детерминации поступка; субъективным, идущим от человека, – решающая роль.
Ergo
Подведем некоторые итоги раздела:
• Поступок – вменяемое действие, т. е. мотивированное и
ответственное проявление социальной практики.
• Актором поступка является личность, существо социальное,
границы которого определяются исторически.
• Формирование и развитие личности включает ее гоминизацию, социализацию и индивидуализацию, которые зависят от генетических факторов, возраста, состояния, социально – культурных условий. Другими словами, личность – это человек с головой (несомненна роль головного мозга), включенный в коммуникацию с другими людьми.
• Происхождение и развитие актора поступка связано с проблемой антропогенеза, развитием средств коммуникации.
• Содержание поступка включает внутренние и внешние планы, различение которых затруднено. Речь идет ценностях и нормах, которые переходят из одного плана в другой в результате социализации.
• Результат внешнего побуждающего воздействия (стимулирование) зависит от учета и роли мотивации.
• Мотивационный механизм включает в себя стремления и возможности, решение, волю и действия с использованием средств и получением результата. В переходе из внутреннего (ментального) плана поступка во внешний (физический) ключевую роль играет воля.
• Результаты, средства, сами действия и даже мотивация оцениваются социумом, самой личностью и эти оценки также выступают мотивационным фактором.
Таким образом, завершается сюжет о природе и «скрытом схематизме» поступка. На основе этого «путеводителя» можно продолжить уже более детально знакомство с «миром поступка».
44
С несущественными различиями такой подход реализован в ряде работ философов, юристов, психологов. См. напр.: Вригт Г. – Х.фон. Логико–философские исследования. М., 1986; Кудрявцев В.П. Закон, поступок, ответственность. М: Наука, 1986; Патяева Е.Ю. Порождение действия. Культурно–деятельностный подход к мотивации человека. М.: Смысл, 2018.
45
Согласно Д. Серлю, следует различать интенцию (как стремление совершить что–то) от интенциональности (направленности состояний, если речь идет о человеческой психике: восторг, тревога, радость, стыд, ужас, одобрение и т. д.). Интенция – один из видов интенциональности (Серль Дж. Р. Природа интенциональных состояний // Философия, логика, язык / Под ред.В.В. Петрова. М., 1986, с. 96–126).
46
Памятники этической мысли на Украине XVII – первой половины XVIII столетия. Киев, 1987, с. 462.
47
Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986; Кикнадзе Д.А. Потребности. Поведение. Воспитание. М., 1968; Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. М., 1971; Магун В.С. Потребности и психология социальной деятельности личности. Л., 1983.
48
Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М.: Наука, 1979.
49
Глезерман Г.Е. Рождение нового человека. М., 1982.
50
Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции.
51
Рубинштейн С.Л. Человек и мир // Методологические и теоретические проблемы психологии / Под ред. С.Л. Рубинштейна. М., 1969, с. 370.
52
Симонов П.В. Избранные труды. Т. 2: Природа поступка.2004. – 312 с.
53
Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М., 1976; Бобнева М.И. Социальные нгормы и регуляция поведения. М., 1978; Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: в 2 т. М.: Просвещение, 1986; Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности. М., 1988.
54
Патяева Е.Ю. Порождение действия. Культурно – деятельностный подход к мотивации человека. М.: Смысл, 2018, с. 445–576.
55
Вригт Г.–Х. Логико–философские исследования, с. 175.
56
Lagdridge D., Butt T. The fundamental attribution error: A phenomenological critique // British Journal of Social Psychology. 2004. Vol. 43 (3), p. 357–369; Lassiter F.D., Geers A.L., Munhall P.J. & Ploutz–Snyder R. J. (2002), Illusory causation: Why it occurs // Psychological Science. 2002, Vol. 13 (4), p. 299–305.
57
Пентленд А. Социальная физика. Как распространяются хорошие идеи: уроки новой науки. М.: АСТ, 2018, с. 233.
58
Вригт Г.–Х. фон. Логико–философские исследования. М,: Прогресс, 1986. – 593 с.
59
Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений человека. СПб: Речь, 2003, с. 17.
60
Рубинштейн С.Л. Человек и мир, с. 373.
61
Ларошфуко Ф. Максимы и моральные размышления. М., 1959.
62
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946, с. 563.
63
Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений человека. СПб: Речь, 2003. – 296 с.
64
Голосовкер Я.Э. Имагинативный абсолют. М.: Академический проект, 2012. – 318 с.
65
Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / Под ред.В.А. Ядова. Л., 1979, с. 21.
66
Симонов П.В. Мотивированный мозг. М., 1987; Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент. Характер. Личность. М., 1984, с. 23.
67
Представительную подборку определений концепта мотива и их анализ см.: Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений человека. СПб: Речь, 2003.
68
Подробнее о бимодальности мотивации см.: Асеев В.Г. Мотивация поведения…, с. 110–111.
69
Симонов П.В. Мотивированный мозг. М.: Наука, 1987. – 270 с.
70
Буева Л.П. Рецензия на кн. : Леонтьев А.Н. деятельность. Сознание. Личность // Вопросы философии. 1976, № 12, с. 169.
71
Симонов П.В. Высшая нервная деятельность человека. Мотивационно–эмоциональные аспекты. М., 1975.
72
Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений человека. – СПб.: Речь, 2003.
73
Резник Ю.М., Смирнов Е.А. Жизненные стратегии личности (опыт комплексного анализа). М., 2002.
74
Тульчинский Г.Л. Тело свободы. Ответственность и воплощение смысла. СПб.: Алетейя, 2019.
75
Патяева Е.Ю. Порождение действия. Культурно – деятельностный подход к мотивации человека. М.: Смысл, 2018.
76
Вригт Г.–Х. фон. Логико–философские исследования. С. 119.