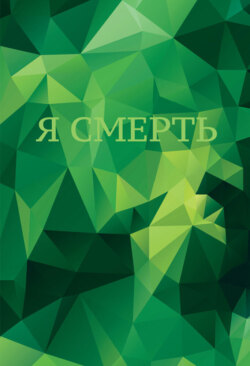Читать книгу Я смерть - Григорий М. Кантор - Страница 6
I. Последняя волна
§ 5. Явка с повинной
Оглавление➢ Чтобы изменить мир в реальности, необходимо управлять миром в целом. Такова подспудная мотивация истинноготворца.
➢ Из исторического опытадругоговыясняется, что мир временится независимо от «авторских» идей. Да и самавтор («писатель»)умирает, свидетельствуя о том, что не достиг личной цели – изменить мир к лучшему, то естьпереписатьсмерть.
➢ Есть, правда, исключение в образеСына Божьего, Автора Слова – о чем свидетельствует этот факт?
➢ Даже еслиИисуси вымышленныйдругой, и сам онесть часть собственногоСлова, это может означать, что он – единственный не может не быть (существовать). Он обязаннепрерывно быть. Он – единственный, который несет службу бытия. И Словокоторогоесть основание и потому причина прекращения экзистенции.
➢ Скольобраз “ЭЭГ” (мозга) себяприсутствует в этом мире, стольне прекращаетсяизвещение (“энцефалограмма”) себя истинного, того, которого не может не быть (“тут”) – в образеСлова(какуниверсального “текста”).
➢ Первичное приобщение кСловусвязано с размыканиемсмертельных петель разума – что иначе можно выразить как разворот к сворачиванию “чудес” извечно “мирной”метафоричности: сновидности, отчуждения – вообще, всякой зыбкой экзистентной двусмысленностив плане себяво Христе – вближнемистинной реальности Отца.
Ты перелистываешь старый альманах и неожиданно зачитываешься одним вычурным рассказом с необычайно чутким описанием атмосферы всепобеждающей вечной жизни на примере ареала леса ранней весенней порой, по-человечески трогательным и внушающим чувство особого предвкушение пред неизбежным наступлением чего-то величественного…
Второй рассказ – тематический, представлен в дельном изложении конкретного случая из жизни замечательной гимназии и его обитателей с основательными комментариями от лица внимательного и знающего толк педагога, предлагающего нетривиальные методы разрешения трёхстороннего конфликта между подрастающими представителями фауны, сообществом «взрослых» и посредниками («педагогами»).
Каково же должно быть смущение тебя («читателя»), если в заключение ты не упустишь имя автора текста: например, «hitler». А под вторым: допустим, «chikatilo».
Как, вообще, тебе впредь относиться к подобным «текстам»?
Собравшись с духом, ты предполагаешь, что и «тексты», видимо, поняты не так, и, очевидно, (первый) «автор» – поэт в душе, и в целом, хотя и не без сентиментальности, в доступном ему ключе чеканит «текстовым кодом» то, что, по его мнению, не передается отдельными словами или абзацами, а например, тональностью – и вот, пожалуйста: вибрирующее томление в гностическом предчувствии перебивается трогательными, но только выигрывающими от собственной непредвзятости, тропами. И так, «проницательный» (компетентный) читатель узревает «душу» автора: атмосферу затишья и благости в предвкушении установления ада на земле.
Другой «автор», конечно же – как ты не заметил (нет опыта!), на самом деле искусно развернул увесистую аллегорию, изъятую из собственного весьма болезненного «внутреннего» мира, в котором он в триединстве представляет себя, детишек и людей из мира взрослых («родителей»). Тут же, на месте, «искушённый» читатель способен «между строк» рассмотреть «истинные» (глубинные) причины конфликта и способы его разрешения, которые сам автор («писатель») впоследствии и применит на деле (в своей специальной «педагогической» практике).
Ты всегда, но все реже, возвращаешься к своей «любимой» – книге.
К медиане твоей экзистенции собирается компактный «гарем» из возлюбленных (книг), в который все сложнее попасть случайной «наложнице». Конечно, тут правит старшая «жена», которой непринужденно прислуживают младшие по рангу.
Каждая происходит от своего «родителя» (автора) – другого, «родившегося» в свою очередь от «родителей» его и, в конечном счете, от сонма собственных предков их согласно личной родословной. Факт особой «родословной» находит отображение в теле («пастише») и духе («стиле») наложницы.
Но со временем каким-то образом выясняется, что («любимая») книга не может иметь ничего общего с «автором» потому, как и любимая («женщина») не может быть люба тебе, так как это и не «женщина» вовсе, а со временем дряхлеющий (исполняющийся смыслами) «текст».
Причем ты уже усматриваешь не только отсутствие стиля, но и вообще – носителя былой красоты в целом, то есть – «женщины» как таковой. В формализованной («разгаданной») женщине ты практически «видишь» другого и («сексуально») влечешься к нему формально, уже настолько мало, насколько ты разоблачаешь («раздеваешь») любимый текст, исполняя его (текст как таковой) особым смыслом по аналогии с сексуальным влечением (в частности, к «женщине»): разгадывая женщину как таковую, а не сменяя ее на другую (во внешности и/или содержании), ты, аналогично, разоблачаешь текст как таковой (не меняя тип привлекательности – стиль и/или содержание собственно текста). Так, данная аналогия относится как к любой типовой (существующей) «женщине», так и к любому «типовому» (наличному) тексту.
Присутствие «женщины», по-прежнему, вызывает желание, которое снимается «соитием» с ней, с любой той же типовой «женщиной»: предельная мера личной неполноты тебя в образе (животворящей метафоре) «женщины» требует компенсации неполноты посредством акта «слияния» с образом («проекцией») недостачи до целого (себя). В виде «компенсации» – лишь судорога оргазма и иногда побочный эффект (осложнение) в образе «младенца» – метафоры обновленного цикла «желания».
Текст же по-прежнему взывает к прочтению. Но в этом отсчете времени («парадигме») стоит относиться к «любимому» тексту беспристрастно: различие во «внешности», как, например, между мануалом, договором, научным трудом и развлекательным чтивом, не существенно – несмотря на «внешность» сам текст как таковой – универсален.
«Женщина» воспринимается, по сути, другим, не требуя бесконечного повтора ритуала инициации разрядки себя в целое, как и любой «текст», в конечном счете, не требует прочтения.
Чем становится «желанный» текст, разве не источником знаний?
Как в целом приходит знание, основное знание «(замысел») себя?
Как правило, посредством взвешивания возможностей, а вернее, исключения возможностей. Созерцания и чтения текстов.
Первый способ – прямой (быстрый). Второй – опосредованный (медленный). Причем созерцание в конечном счете необходимо и во втором случае. Созерцание (предельное понимание) суть структурирование «универсального» текста. Любой текст является частным «универсального» текста (множества), как и любая «женщина» включается уже в множество других. И «универсальный» текст может иметь любую форму и бесконечный (по запросу) объем, как, впрочем, и любая «женщина». Но всё же, каким образом приходит истинное знание?
Ты научился читать и составлять (тексты), ты на слух воспринимаешь и говоришь текстами. Очевидно, любая «информация» косвенно (опосредованно) способствует «просветлению», компрометируя себя собственным проявлением в существующем и таким образом исключая из «возможного» (истинного, или реального).
«Текст» становится инструментом такого становления – прерывистого, хаотичного, «неосознанного» слияния с целым (истинного знания), аналогичного «бессмысленным», но оргазмически (в моментальном экстазе) осознаваемым соитиям с «женщиной».
Усердное «чтение» вкупе с созерцанием приводит к пониманию («парадигме») того, что непосредственное «просвещение» (созерцание), в конечном счете, безмерно превосходит способ «вычитания» из себя ложного (лжи) и относительно ложного («правдивого») знания – вообщем, «информации».
Чем «значительнее» текст, тем, конечно, больше от истины. Однако осознание себя в новом знании может приходить с опозданием в годы…
Созерцание приносит знание в реальном режиме времени.
«Вычитание» текстами в качестве затравки – необходимый период в познании и становлении себя, хотя бы и в контурах первичной самости.
Изложение «созерцания» в тексте с последующим «вычитанием» не снизит незнания, которое не знание и которое противоположно знанию (истинному), бытию в целом потому, что прямое узнавание («созерцание») в себе частично «изничтожило» себя, попутно «опубликовав» объявление об этом в мире вещественного – соответствующий текст.
Формализуя отношение к «женщине», ко всякой женщине, ты формализуешь отношение и к тексту – не только к разнообразию его, но и, вообще, к тексту как таковому.
В пределе, вообще, воспринимая женщину более как другого (как «универсальную женщину»), как просто символ меры неполноты тебя в целом, так и текст, по аналогии, ты воспринимаешь не как истинное знание (тебя «складывающее»), не как саму меру неполноты, или знания, которого не хватает для «счастья», но как метафору меры неполноты тебя в целом.
Так как сам текст является метафорой в целом, то форма метафоры, или индивидуальный текст («стиль»), не может быть истиной, являясь подобием (отражением) ее. Разоблачение подобной индивидуальной метафоры в частности и в целом (подобное снятию метафоры «женственности») приводит к наложению подобной истины, или текста-«наложницы» (от лжи сквозь правду к истине) на себя существующего и ничтожение себя существующего в части подобной истины.
И в бывших «возлюбленных» (прежде почитаемых) текстах ты уже впрок отмечаешь не только «прочитанность», подобную разоблачению, или «разгадке» индивидуальной «женщины», но и разглядываешь более того, – другое, или «структуру» женщины как другого («человека») в среде вскрывающихся друг за другом «структур» бывшего («универсального») текста.
С определенного момента ты общаешься с «женщинами» как с другим (ближним), поддерживая правили общежития в экзистентности – аналогично, осознанно используя «тексты» строго в соответствии с условиями выживания в среде относительной «правды» (лжи).
Как выясняется, «осмысленный» текст (структура) не прибавляют знания, так как «смыслы» накладываются на выжженное в тебе спонтанным или осознанным созерцанием ничто. Такой текст правдив по мере неполноты истины. Текст, в котором отсутствуют «смыслы» (вскрываемые структуры), для тебя лично – есть ложь (как мера неполноты правды). В правде, или существовании нецелым, ты различаешь себя не целым, то есть «правду»; в несуществовании же ты не различаешь ложь как меру своей неполноты в правде (в существовании).
Не отличая меру своей неполноты («лжи») в частности («вычитыванием»), ты таким образом отличаешь это в себе нецелом («правде») в части неполноты («вычитанием» из неполноты), умаляя неполноту правды (существования себя), ничтожа ее вычитыванием «смысловых» текстов.
Прочтение «осмысленных» текстов (вычитывание) в отличие от совокупления с «женщиной», приносящего подобие совершенно краткого освобождения от жажды слияния (лжи с правдой, а правды с истиной; несуществования с существованием к бытию), – дает не такой экстатический, но тем не менее стойкий эффект приобщения к истинному знанию – не сквозь иллюзию мгновенного обращения в истину начального уровня (к нижнему пределу внимания в бытии), а благодаря необратимому умалению существования (правды) в части ее неполноты к вознесению себя существующего в возрастающей правде – к истине, началу бытия.
Таково особое свойство сожительства с любимыми («текстами»). А читать или нет – решать тебе, ведь не различая меру своей неполноты («лжи») «вычитыванием» в целом, вообще, ты, таким образом, отличаешь такое в себе целом – целоме, окрестности которого становится все очевиднее.
И всё же, зачем следует отражать мысль в слове книги?
Порой неясность накатывает заново, и ты оказываешься перед выбором: записывать или нет, являть книгу в общий доступ или творить для себя?
Обе позиции слабые. Не писать книгу – лишать себя основного (возможно, единственного) инструмента коммуникации с человеком смертным (внимающим Адамом).
Писать книгу для других (предоставляя ее в общий доступ) – равно демонстрации “закодированного” повествования. В чем смысл? Ведь “ключ” к расшифровке (текста) буквально существует именно в тебе. Другой вынужден стать тобой, чтобы “прочитать” книгу.
И тот и другой вариант кажется бессмысленным. Если только не предположить, что ключ пребывает в смертном Адаме.
Другой, чтобы узреть единственно верный смысл, вынужден не искать “отмычки” для вскрытия мнимых смыслов, а хотя бы на короткое время (для затравки), совершив личный акт бесстрашия, буквально совместить “себя” со смертным Адамом, минуя таким образом нерукотворную защиту от потустороннего дурака (случайного “читателя”).
Итак, рекомендацией к прочтению может быть следующая инструкция: “Не ищи тайных смыслов, не комбинируй, даже не думай подбирать интеллектуальные отмычки! Чтобы с пониманием дела прочитать Книгу (а не увидеть фигу в кармане автора), попробуй, хотя бы на мгновение, совпасть с Адамом в смертности его”.
Допустим, всякий другой (“умозрительно”) способен на некие ординалы (“времени”) соответствовать в смертности Адама и таким образом получать доступ к “тайному” смыслу книги, которого, повторим, вовсе нет. Но зачем ее читать любому другому, даже если он способен (временами совпадать в части смертности Адама)?
Чтобы использовать книгу как повод обнаружить себя в теле Адама? Но есть множество других способов. И соответствующие инструкции для их реализации. Например, “как выйти из тела”. Которой любой может воспользоваться (даже если “мануал” не обоснован теоретически, но подтверждается эмпирически разными живущими и бывшими свидетелями). Но и в этой “инструкции” смысл или умысел (относительно замысла “книги”), по сути, зашифрован. И чтобы точно (“прицельно”) воспользоваться малой “инструкцией”, приходится помещать ее в контекст основной инструкции (книги). Иначе не ясен (остается нераскодированным) истинный “замысел” малой (частной) инструкции (например, “Как выходить из тела в лучшем виде” и так далее).
То есть любая инструкция (из внешнего мира) может быть осмыслена лишь с осознанным встраиванием (упаковкой) ее во внутреннюю иерархию “первой” (основной) инструкции (Книги). Если следовать, например, инструкции (“мануалу”) буквально, то из тела “выпасть” можно, но фатальность (бессмысленность) такого “разделения”, как правило, умаляет (а в худшем случае негативно искажает) естественное, подобающее качество разрешения (“восприятия”) региона смерти и, опять же, по принципу обратной связи ничего не прибавляет к качеству природного (земного) существования, а в худшем случае – убавляет (“разочаровывает”).
Так зачем другому читать Книгу, как только не по поводу буквального совмещения себя (“покойника”) с Адамом (смертным)? Ведь как уже говорилось, для этого можно использовать другие поводы и соответствующие “инструкции”. Со стороны “покойника” (другого) мгновенное совмещение со смертностью Адама – фатально, стохастично: подобное “совпадение” чрезвычайно не стойко и также мгновенно прекращается, как и происходит. Книга (инструкция) дает возможность узреть (отобрать) уже в мире природы необходимые (подобающие) “инструкции”, увязывая их в едином смысле основной инструкции (“книги” как таковой).
Инструкция (Книга) отсылает к единому заглавному смыслу (замыслу) – вниманию, (“Адаму”), или Духу в смертном теле (элементарной самости). И всякий другой, по мере сил, пребывая во внимании (“Адаме”), читает о том, в ком он единственно разбирается, о самом себе – кто он, откуда и почему он “перешел”, и что с ним станет, как ему быть, почему он неуничтожим, что есть “неизбежность”, и как ему обустроить свою жизнь и смерть в целом так, чтобы избежать осложнений и было хорошо весьма ему в окружении (теле) ближнего.
С точки зрения Адама, одухотворенный другой (истинный читатель), внимая в теле его – Книгу, становится (совмещаясь) им (телом) “буквально”, с точки зрения же самого другого (читателя), он (читатель) восходит мыслями к единому “смыслу” (замыслу), то есть к вниманию Адама (в теле самости), которое, как мы отметили, “собирается” (замышляется), опять же с точки зрения “читателя”, – из букв инструкции (Книги).
Цель жизни – достижение благосостояния, или состояния «онтологической» безопасности.
Но в целом мы наблюдаем смерть автора – демонстрацию околевания его.
Вознестись (переписать смерть) способен лишь вестник верховного автора?
Смыслы (автора) и их восхождение (в мир) рассинхронизированы в текстах мира. Синхронизация текста (проявления «смысла» как такового) приводит к «рождению» самого автора («смысла»).
Новый автор и есть спаситель себя и «бессмысленного» мира. Он не разворачивает (не длит) «метафору» (или саму бессмысленность) личного и общего мира, а «сворачивает» ее к целому новых «смыслов», как бы разгадывая, комментируя, разоблачая, упраздняя и упреждая «бессмысленность» (метафоричность) небытия («экзистенции»).
Печатная книга остается неизбежным следом такого преобразования (следования логосу).
Может быть этому и способствует «исписывание» смысла себя (существующего в целом)?
Когда за тебя смыслы различает уже само внимание?
Когда действительно (на самом деле) подчищены все ничтожные смыслы до единого смысла «себя» (существующего себя). Это и есть «благосостояние» короля мира – остаток, который устраняется или «саморазоблачением», то есть смертью, или «исписыванием» себя («существующего») до различения во внимании, или, точнее, сверхразоблачения себя существующего («короля мира») в само внимание.
Как отличить «заурядного» (другого) от подобного ему (в плане образа жизни и внешней «заурядности») просветленного, если свойства их, внешние признаки и поведение в целом их обоих не позволяют сделать ключевое различие – ведь один из них «органичен», а другой – «лицемер»)? Только посредством (теста) «смерти»? Один околевает, а другой, напротив, «умирает» (возносится).
Соотнесем друг с другом два аналогичных «текста», которые практически не различимы, но каким-то «образом» таят в себе, по сути, противоположные «смыслы». В одном, например, считываются правило онтологической безопасности (или порядок бытия), а в другом вычитается – тотальный ужас («логики» небытия).
Вообщем, один текст может иметь самые разные интерпретации, вплоть до противоположных. Нахождение смыслов в индивидуальных текстах симптоматично для обыденного восприятия реальности.
Усматривание «смысла» в тексте, как и «адекватное» восприятие экзистентности, служит индикатором вовлеченности («усыпания») в мнимую реальность («смысла» в тексте) – симптомом посредственного «восприятия» (посредством текста), а не непосредственного восприятия («внимания») самого «языка» реальности.
В отрезки предельного отчуждения в экзистентности – в узревании себя множеством, объединяющим в себе «вещи», включая «множественность» других, ты не различаешь в открывшемся состоянии дел «целые» тексты, то есть «воспринимаешь» (различаешь), по сути – сам язык («метатекст»), расщепленный на отдельные «целые» тексты. В этом предельный «смысл» любого текста. В подобном «состоянии» ты способен не различать никакие «смыслы» в отдельных «текстах», различая лишь передним умом («вниманием») смысл («самость») от самого текста («ничто»).
Ты видишь, но не веришь, зная, что среда экзистентности есть ткань сновидения, ты пробужден (осознан в сновидении жизни), как если бы ты отказывался видеть «смысл» в любом существующем (земном) «тексте»; ты знаешь всё, что выводит онтологическую безопасность тебя до грани полного пробуждения; в просоночном состоянии экзистентности ты осознаешь сам текст как таковой («язык»); конечно, ты не только не находишь «смыслов» в отдельных «текстах», сливающихся в единую метафору «самости» (себя) во внимании, но и не испытываешь желания обращения к текстам (в поиске «смыслов»). Смыслы отдельных текстов сворачиваются к вниманию.
Но как обращаться со сказочными намеками («аналогий и «наводок») в текстах, которые ты «вычитываешь» так же, как и «вычитаешь» в сновидении экзистентности (жизни)?
И как объяснить симпатию (влечение) или отвращение (отторжение) относительно отдельный «текстов» (книг) и произведений прочих видов искусств?
Влечение происходит вследствие вычитывания предельно необходимого смысла, отторжение же – в силу «бессмысленности», или антисмысла, отсутствия (невычитывания) актуального «смысла» в отдельном тексте. Все прочие «тексты» помещаются в символическом диапазоне – от «тайны» (истинной мудрости) до «абсурда» (предельного антисмысла, или абсолютного зла).
Но как, вообще, можно сравнить ценность, например, бульварного чтива и философского трактата?
Ценность подобна вычитанному смыслу. Язык («самость») расщепляется в «смыслы» и соответствующие им «тексты» аналогично рассеянию внимания в существование и несуществование.
Подобно пище ты потребляешь (прочитываешь) «тексты», насыщаясь калориями «смыслов». Несуществующее не может иметь «ценность», ведь несуществующее в целом – ничто относительно ценности существующего (в целом): самость (существование в целом) происходит от неполноты внимания, мера которой (неполноты) отражается в ничто; внимание же суть мера полноты («проявления») целома – чем меньше внимания (или проявления «самости» целомом), тем более он сам целом.
Самость (существование в целом) можно уподобить отсутствующему вовсе «смыслу» (свернутому в себе), а ничто – «универсальному» тексту (прототексту). Присутствуя, самость растрачивает себя (во «времени»), наделяя «смыслом» ничто – экзистентность: «текст» (ничто) обретает «смысл». Сновидение жизни («ничто») становится «истинной» (единственной) реальностью. «Смысл» тем глубже, чем больше исход (растрата) самости на формирование ткани реальности (экзистентности).
Ткань мнимой реальности проявляется за счет любви (в частности, за счет «желания») и исхода самости в «ткань» экзистентности.
Итак, «реальность» экзистентности, по сути, является демонстрацией («фактом») неполноты источника данной реализации. Источник возобновляется при отмене «факта» экзистентности, свертывания его к пределу ничто. Самость (источник) умаляется до состояния «смысла» данного «текста» (мнимой реальности). «Смысл» – как существование тебя, а «текст», или экзистентность (мир) – как отсутствие тебя. Понятие считывания смысла текста можно сопоставить с нормальной экзистентностью (вовлеченностью), или очевидностью («смыслом») всего происходящего в экзистенции, обусловленной дефицитом внимания.
При возгонке (свертке) внимания в себя самость различается от ничто (верховный «смысл» самости отграничивается от «метатекста» ничто). Соответственно, в теле («тексте») экзистентности не ищется ничтожный «смысл», но обнаруживается сновидность («осознанность») экзистенции, которая является «инерцией» внимания различать себя («самость») и ничто – в свою очередь, инертно не существующее в экзистентности мыслей («смыслов») и вещей.
При осознанном восхождении к вниманию утрачиваются смыслы и в печатных текстах, точнее, тексты остаются в составе общей сновидности, но уже не совсем в самой экзистентности, а в «порядке вещей», который подобен состоянию пробудившейся осознанности в сновидении, прежде бывшем экзистентностью.
Сам факт присутствия «теста» неизбежно указывает на неполноту всякого возможного «смысла», породившего данный текст.
Любой возможный (наличный) текст сам по себе уже выражает неполноту «смысла» создания такого текста, несет «универсальный» смысл неполноты смысла как источника.
Сам текст несет «универсальный» смысл – Слово о неполноте себя от самого надежного источника Себя же в целом – нехватке Себя в целом(е).
Слово будто извещение («инструкция») другому себя от Себя в целом(е). «Смыслы» всех несуществующих текстов восходят к единому смыслу Слова, нисходящему от самого (себя) в целом(е).
Автор «универсального» текста вожделеет изменить мир. Отменить смерть, избавить мир от страданий, несправедливости, отчаяния и общей бесцельности (бессмысленности). Чтобы изменить (соответствующим образом), необходимо управлять миром в целом.
Такова подспудная мотивация истинного творца («автора»).
Но из исторического опыта другого выясняется, что мир меняется независимо от красоты «авторских» идей (как прототипов вещей, включая саму «красоту» в качестве прототипа ничто, или экзистенции). Да и сам автор («писатель»), в конце концов, умирает, демонстративно свидетельствуя о том, что так и не достиг личной цели – изменить мир к лучшему, то есть переписать смерть, придав экзистенции вообще какой-либо смысл (цель).
Есть, правда, исключение в образе Сына Божьего, Автора Слова – о чем свидетельствует этот факт?
Даже если Иисус и вымышленный другой, и сам он есть «часть» собственного Слова, такое состояние дел лишь исключает его в того, кто не может не быть (экзистировать). Он обязан непрерывно быть.
Иисус – единственный «другой», который не может не быть. То есть не может не существовать (в экзистенции). Он – единственный, который несет службу бытия. И Слово которого – есть основание и потому причина изменения экзистенции.
Следуй Христу, тому, который не может не быть. Не земному «автору», (Иисусу), смертное «тело» которого не могло околеть («умереть»), ибо оно лишь «образ» в Его же Слове. В Слове Он есть, Он единственный, кто не может не быть – не может не существовать (в экзистенции). Но Он – истинный Автор экзистенции («небытия»), конца. Другие («авторы») не существуют, их «тексты» создаются и меняются вместе с миром в целом.
Он не может не существовать, не может не быть. Но «мир» следует читать как Его Слово. Ты видишь («читаешь») Его «мир» в меру понимания «языка» Слова. Ты веришь (допускаешь) «житие» любого из «авторов» (в пространстве и истории) Слова, но практически точно «знаешь», что Христос (Автор Слова) – Он единственный не может не быть, или не существовать (быть «другим»).
Он, который по природе себя не может не быть, включает себя в Слово как другого (истинного Автора сущего), Автора Книги бытия, такого другого, который для Него, того, кто не может не быть – не существует.
Убавляя шум от окружающего мира и осколков мыслей, ты во спасении себя и мира в целом (одно без другого не мыслимо), прислушиваешься к Слову, по замыслу которого вакансия «автора» его извечно свободна. Истинный Автор восходит вне поля «зрения», вообще, за пределы кругозора тебя, исполняющего обязанности Автора, отражаясь в новом уме себя в уже более отчетливом смысле («образе») Отца.
Слово печатное (Книга бытия) не кажется тебе предельно идейной или необычайно красивой, или увлекательной – скорее, “странной”.
Книга бытия проявляется в истинном Слове (“экзистенции”) – сама как знак того, кто не может не быть (“тут”) – не к сожалению или счастью, но по природе себя.
Сам знак, символ Слова подобен человеческой энцефалограмме (ЭЭГ), о ничтожности “красоты” или “идейности” которой можно рассуждать, понятно, до самой смерти, за которой последующая “рефлексия”, может случиться, продлится и в бесконечность.
Чтобы не умирать бесконечно, измени мир к вознесению себя и во спасение мира в целом (“памяти”).
Не прекращай длить тело мира, право на авторство которого по обоюдному (“двустороннему”) согласию противоположных сторон (по праву рождения) переуступается тебе.
Сколь образ “ЭЭГ” (мозга) себя присутствует в этом мире, столь не прекращается извещение (“энцефалограмма”) себя истинного, того, которого не может не быть (“тут”) – в образе Слова (как универсального “текста”).
В плане перемены мира к спасению оба модуса “энцефалограммы” когерентны (сцеплены), причем водителем (“приводом”) сцепленности выступает энцефалограмма тебя истинного (во Христе и Его Слове), использующая сцепку с “энцефалограммой” другого тебя (”писателя”) с целью обеспечения (воплощения) “эффекта” перемены мира (или “восприятия”, с точки зрения другого). Каково понимание метафоры “экзистенции” в целом, такова и картина мира, и обратная связь проявляется тут уже буквально с очевидностью: проясняются новые смыслы, доныне физически недосягаемые никак.
Первичное приобщение к Слову связано с размыканием смертельных петель разума – что иначе можно выразить как разворот к сворачиванию “чудес” извечно “мирной” метафоричности: сновидности, отчуждения – вообще, всякой зыбкой экзистентной двусмысленности в плане себя во Христе – в ближнем истинной реальности Отца.
* * * * * *