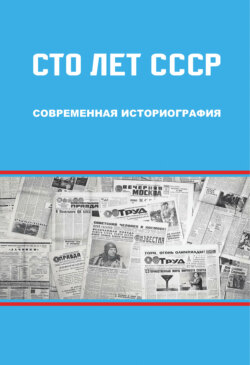Читать книгу Сто лет СССР: современная историография - Группа авторов - Страница 4
Э. Уиллимотт
Время, проведе́нное дома: Октябрьская революция и советское понятие времени
(Реферат)
ОглавлениеWillimott A. Time at home: the October Revolution and Soviet temporalities // History. – 2023. – Vol. 108, N 383. – P. 528–555.
Э. Уиллимотт (Лондонский университет королевы Марии, Великобритания) в новой статье продолжает свои многолетние исследования организации быта в раннесоветский период. В данной работе автор рассматривает коммуны и историю «нового быта» в контексте изменяющегося ощущения времени, характерного для российского общества в революционную эпоху.
Немецкий историк Р. Козеллек определил концепцию линейного прогресса как определяющую черту современности. Линейные, прогрессивные представления о времени все больше превосходили предположительно циклические представления о времени и истории. Многие человеческие действия и изобретения со времен Просвещения, как отметила П. Сатия, основывались на «убеждении, что история – это обязательно история прогресса» (цит. по: с. 531). Новые представления о человеческом существовании изменили значение «революции» с «чего-то, связанного с циклом времени или закономерностями движений, на механизм изменений или разрыва, ведущий к неопределенной трансформации общества» (с. 531).
Дом стал главным объектом пропаганды ключевой утопической идеи, долгожданного «нового быта», рассматривавшегося как более высокое состояние жизни, как «новый кодекс поведения, норм и привычек, который повысит сознание индивида и тем самым будет способствовать прогрессу человечества благодаря еще нереализованному коллективному потенциалу и социальной гармонизации» (с. 534). Ленин «осыпал презрением» тех, кто, по его мнению, заходил слишком далеко в предположениях, что новая пролетарская культура «откроет дверь к биологическому, интеллектуальному и социальному совершенствованию человечества» (с. 534). Тем не менее лидер большевиков понимал необходимость утопии, знал, что развитие революции будет зависеть в том числе от появления авангарда молодых людей, готовых реализовать ее идеалы. В 1919 г. он писал, что «победа над нашим собственным консерватизмом, недисциплинированностью, мелкобуржуазным эгоизмом, победа над привычками» будет еще труднее, чем победа над классовым врагом (цит. по: с. 534).
Представление о неудержимом, целеустремленном и позитивном авангарде, безусловно, стало основой большевистского революционного ви́дения. Коллективизм рассматривался как отличительная черта России, нетронутая капитализмом. Крестьянскую общину, «бастион русской социальной и светской традиции», большевики хвалили за то, что она сохранила свои основные коллективные структуры и ритмы на протяжении веков. Российские «радикалы, восходящие к Александру Герцену, увидели в этой черте “российской отсталости” незапятнанный дар прошлого – ключ, позволяющий открыть историю и прыгнуть вперед, минуя трудности европейского капитализма, прямо в лучшее будущее» (с. 530).
После 1917 г., публикуя советы в молодежной прессе, А. И. Коллонтай наставляла читателей отвергать «буржуазную мораль» и подчинять каждый аспект своей жизни «коллективному режиму» (цит. по: с. 536). Здесь коллективизм нес моральные коннотации, которые шли вразрез с «ленью и нормами русского аристократического времени». Коллективизм стал фактически синонимом современности. После Октября реформирование домашнего быта и принципов семейной жизни стали еще теснее ассоциироваться с развитием коллектива и дисциплинированным «новым образом жизни».
Наиболее распространенным явлением были дома-коммуны, они, как надеялись большевики, реформируют индивидуальную и семейную жизнь, освободив женщин от «домашнего рабства» и коллективизируя ряд видов деятельности. Проекты домов-коммун задумывались как средство «революционизирования повседневной жизни и формирования социалистических идеалов» (с. 537). Уже в 1919 г. были объявлены архитектурные конкурсы на проекты домов-коммун, которые могли бы обеспечить коллективное проживание 100–200 человек, с указанием, что в комплексе должны быть предусмотрены общая кухня, столовая, ванная комната, детский сад и школа, библиотека и рабочий кабинет. В теории такие дома должны были разрушить привычки и режим «старого образа жизни», введя новые коллективные соглашения и рационализированное управление временем. Это был «современный и дисциплинированный советский временно́й порядок, проникнутый революционным прочтением достоинств традиционного русского коллективизма» (с. 537).
Коммуны рассматривались как место, где можно было экспериментировать с повседневностью, включая «откровенно новое понимание временно́й дисциплины». Прежде всего это обеспечило пространство, где активисты могли «проводить время по-другому, строить свою жизнь не так, как их родители» (с. 541). В небольших комнатах общежития первые энтузиасты создали «общий котел», куда складывали свои стипендии и заработки. Общие деньги шли на покрытие коллективных расходов, включая еду и одежду. В центре этих комнат стоял стол, служивший местом для коллективных трапез, встреч, дебатов, чтения и проведения досуга.
Некоторые считали, что только в коммуне они обрели свободу жить так, как хотели. Другие выступали за формирование «новой семьи», которая рассматривалась как социальная ячейка, рожденная товариществом и взаимным сотрудничеством, основанным на кровных узах. Семейная жизнь больше не должна быть основана на «патриархате, религии и праздности». Появилось время для коллективного и равноправного выполнения задач. Члены коммуны вместе ели, выделяли время для совместного выполнения домашних обязанностей, а по вечерам читали, учились и организовывали политические дискуссии. Патриархальная семья считалась ловушкой и ограничителем общества, главным «буржуазным» институтом, тормозящим прогресс (с. 543).
Ленин рассматривал борьбу за «новый быт» как «третий фронт», как средство преодоления извечной российской проблемы «отсталости». Он хотел поощрять распространение грамотности, владение наукой и техникой – «отличительными чертами современности» (с. 547). Л. Д. Троцкий в книге «Вопросы повседневной жизни» (1923) отмечал, что стандарты поведения и новые социальные нормы имеют решающее значение для долгосрочного существования нового революционного государства. В 1927 г. Н. И. Бухарин поддержал эту идею, заявив, что «образ жизни» занимает центральное место в строительстве нового общества (с. 548).
Чистота и хорошее здоровье напрямую ассоциировались с социализмом и «новым бытом», в то время как грязь и нездоровье – с дореволюционным домом. Не менее важными были дисциплина и решимость, необходимые для принятия нового кодекса и режима жизни. Так, в середине 1920-х годов многие коммуны выступили против «ненужных украшений», декора, орнамента и вообще всех предметов, которые не имели никаких функций, а лишь скапливали пыль и грязь. С большим воодушевлением коммунары смотрели на внедрение электрического освещения, рассматривая его как один из главных символов «нового быта» и важнейший способ кардинальных перемен в повседневной жизни (с. 549).
Заметным мотивом среди коммунаров было создание специализированных секций («красных уголков») для чтения, где размещались советская литература, газеты и журналы. Некоторые из наиболее успешных и амбициозных коммун выделяли целые комнаты для просвещения и рационального досуга. Революционный дом, каким его видели коммунары, «отвергал интимные пространства и буржуазный уют в пользу чистой и современной социалистической рациональности». Это пространство должно быть «символически непритязательным и физически гигиеничным, чтобы способствовать социалистической жизни – антитезе как грязным лачугам российских бедняков, так и чрезмерно роскошным резиденциям российских богачей» (с. 550).
Неприятие «российской отсталости» и «азиатских условий» быта основывалось на идее Октябрьской революции как «скачка вперед», попытки вырваться из исторических и географических «оков» России. Страх перед «отсталостью», точнее, перед возвращением «отсталости», был дополнительно спровоцирован возрождением изысканных ресторанов, кабаре и других «нереволюционных» развлечений в годы нэпа. Новое «обуржуазивание» повседневной жизни представлялось как угроза и вызов «новому быту» (c. 550).
В России ведущие большевистские мыслители, такие как А. Гастев и П. Керженцев, выступали за развитие тейлоризма в новом идеологическом обличии. Керженцев, к примеру, основал «Лигу времени», которая пропагандировала новую организацию времени на заводах, в школах и университетах. Вместо того чтобы просто стремиться к повышению эффективности труда и производительности, такие организации, как «Лига времени», полагали, что эффективность и временна́я дисциплина рационализируют свободное время, помогая повысить культурный уровень и самосознание пролетариата (с. 552). К примеру, коммуна Политехнического института в Петрограде составила ежедневное расписание, где с точностью расписывались все действия членов коммуны, начиная с момента утреннего пробуждения и заканчивая временем, когда они ложились спать. Было выделено определенное время для приема пищи, учебы и чтения, отслеживалась продолжительность времени, затрачиваемого на выполнение таких задач, как уборка в доме. Считалось, что правильно составленный график и система мониторинга приведут к повышению эффективности во всех областях, позволяя общине выделять больше времени и энергии на просветительские мероприятия и рациональный досуг. Повседневная жизнь «возводилась в ранг науки» (с. 552). Некоторые коммуны разработали «научные» наблюдения за тем, как каждый человек проводит свое время. Другие коммуны взяли за правило сравнивать свои данные со средними показателями по стране, опубликованными в прессе. Они соперничали за повышение среднего уровня чистоты или гигиены, например принимая ванну или занимаясь уборкой чаще, чем обычные граждане.
«Догоняющая» индустриализация 1930-х годов («пятилетка в четыре года») основывалась на «концепции времени как линейного и прогрессивного – в соответствии с концепциями Просвещения об истории, которая прерывается и ускоряется героическими моментами человеческой деятельности» (с. 555). Такая «борьба со временем» подпитывалась желанием быстро и решительно преодолеть пресловутую «российскую отсталость». Городские коммуны в конечном счете прекратили свое существование при Сталине, сформировав при этом многие аспекты советской повседневности в последующие десятилетия.
И. К. Богомолов