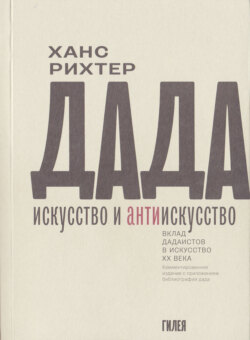Читать книгу Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство XX века - Ханс Рихтер - Страница 6
I. Дада в Цюрихе
1915–1920
«Кабаре Вольтер». Его участники и соучастники
ОглавлениеТо, что у Балля выражалось во вдумчивости, глубине и сдержанности, у румынского поэта Тристана Тцара (см. илл. 5) проявлялось в виде искрометности, невероятной духовной подвижности и напора. Он был невысок и неукротим – этакий Давид, который мог влепить любому Голиафу – камешком ли, комком грязи или дерьма, с шуткой или без, наглым ответом или отточенным гранитным осколком меткой речи – но всегда в самое больное место. Художник языка и жизни, который становился тем оживленнее, чем активнее разворачивались события вокруг него. Он был полной противоположностью Балля, и это несходство лишь подчеркивало и оттеняло свойства другого, так что оба анти-Диоскура стали в ту первую «идеалистическую» эпоху движения единым целым – комически-серьезным, но динамичным. Чего Тцара не знал, то он брал на себя смелость и обязанность придумать. С хитрой улыбкой, полный юмора, но и трюкачества тоже, он никому не давал заскучать. Всегда в движении, болтая по-немецки, по-французски, по-румынски, он был естественным антиподом спокойному, задумчивому Баллю… и был так же незаменим, как и тот. На самом деле каждый из этих состязателей ума и анти-ума был незаменим сам по себе. Чем было бы дада без стихов Тцара или без его неутолимого честолюбия, без его манифестов, не говоря уже о шуме, который он мастерски умел поднять? Он декламировал, пел и говорил по-французски, хотя не хуже мог и по-немецки, перебивал собственные выступления криками, всхлипами и свистом.
Звонки, барабанная дробь, коровий колокольчик, удары по столу или пустому ящику представляли собой неистовое требование нового языка в новой форме и – чисто физически – возбуждали публику, которая поначалу сидела за своими пивными кружками совершенно ошарашенная. Затем из этого состояния оцепенения ее взвинчивали до такого градуса, что она исступленно пускалась в соучастие. ЭТО и было искусством, это и было жизнью, именно этого и добивались.
Правда, футуристы еще раньше ввели в искусство (и в свои мероприятия) понятие и технику создания скандала. Как искусство, они назвали это брюитизмом, который Эдгар Варез 24 позднее возвел в ранг музыки. Варез следовал в этом открытиям шумовой музыки Руссоло – одному из основополагающих вкладов футуризма в современную музыку. Руссоло сконструировал в 1911 г. шумовой орга́н, на котором можно было воспроизвести любые – столь досаждающие нам – шумы повседневности… именно их Варез впоследствии использовал как элементы звучания. Этот своеобразный инструмент был разрушен в Париже, в «Синема-28» на премьере фильма Бунюэля-Дали “L’âge d’or” («Золотой век») в 1930 г., когда “Camélots du roi” 25 и другие реакционные организации бросали в экран, на котором показывали этот «антикатолический» фильм, зловонные бомбы, а потом громили и разбивали всё, что попадалось под руку: стулья, столы, картины Пикассо, Пикабиа, Ман Рэя, а заодно и выставленный вместе с картинами в фойе в качестве экспоната «брюитистский» орга́н Руссоло 26. Этот брюитизм был подхвачен в «Кабаре Вольтер» и обогащен на взлете и в неистовстве нового движения: расширен вверх и вниз, влево и вправо, внутрь (стоны) и вовне (рык).
По громкости и провокационности Тристану Тцара едва ли уступал его анти-друг, медик-поэт д-р Рихард Хюльзенбек. Хюльзенбек (см. илл. 7) был вовлечен в весьма подходящий ему водоворот кабаре в силу своей дружбы с Хуго Баллем, которого очень почитал. Его молодцеватость курсанта тоже способствовала – опять-таки иначе, чем быстрота и живость ума Тцара – приведению публики в раскованное состояние. Для усиления этого ухарского эффекта он обзавелся хлыстом наездника, которым метафорически стегал по крупу публику, сопровождая чтение своих свежесочиненных «Фантастических молитв» ритмическим свистом хлыста.
Хюльзенбек был одержим тактами негритянских ритмов, с которыми он экспериментировал вместе с Баллем еще раньше в Берлине. К своим энергично пружинящим и просмоленным «Молитвам» он предпочитал большой «том-том». Балль: «Он выступал за то, чтобы усиливать ритм (негритянский ритм). Дай ему волю, он избарабанил бы всю литературу дотла». Когда фортепьянные интерпретации Балля и тоненький, искусственный девичий голосок Эмми Хеннингс (она чередовала народные песни с распутными) сводились воедино с абстрактными негритянскими масками Янко, ввергавшими публику в джунгли художественных видений, вырвав их из дебрей оригинального языка новых стихов, то поневоле часть витальности и энтузиазма, оживлявших группу, передавалась и зрителям… «Они одержимые, маниакальные, проклятые за их труды. Они обращаются к публике так, будто она должна взяться за их болезнь, и они выкладывают перед нею материал для вынесения суждения об их состоянии»…, – писала пресса. В то время как Хюльзенбек беззаботно распевал:
Сокобауно сокобауно сокобауно
Шиканедер Шиканедер Шиканедер 27
наполняются ведра с пеплом сокобаунто сокобаунто
мертвые восстают из него с венками из факелов вкруг головы
смотрите лошади как они нагнулись над дождевыми бочками
смотрите парафиновые потоки изливаются из рогов луны
смотрите море Эресун как оно читает газету и поедает бифштекс
смотрите кариес сокобаунто сокобаунто
смотрите плацента как она вопиет в сетях бабочек
гимназисток
сокобаунто сокобаунто
вот закрывает пастор ши-иринку ратаплан ратаплан 28
ши-иринку и волосы торчат у него и-из ушей
с неба па-адает катапульта катапульта и
бабушка приоткрывает грудь
мы сдуваем муку с языка и кричим и кочует
голова на вершину
драткопфгаметот ибн бен закалупп ваувой закалупп
копчик надут и лопнет
выпотел о потрох поповский небесный Северин
гнойник суставной
голубой голубой всегда голубой цветущий поэт пожелтели рога
бир бар обибор
баумабор бочон ортишель севилья о ка са ка ка са ка ка са
ка ка са ка ка са ка ка са
болиголов в коже забагрял набух на червячке и обезьяне
имеет ладонь и зад
О чачипулала ота Мпота груды
Менгулала менгулала кулилибулала
Бамбоша бамбош
вот закрывает пастор ши-иринку ратаплан ратаплан
ши-иринку и волосы торчат у него и-из ушей
Чупураванта буррух пупаганда буррух
Ишаримунга буррух ши-иринку ши-иринку
Кампампа камо катапена кара
Чувупаранта да умба да умба да до
да умба да умба да 29 умбахихи
ши-иринку ши-иринку
Мпала стекло клык трара
Катапена кара поэт поэт катапена тафу
Мфунга Мпала Мфунга Коэль
Дитирамба торо и вол и вол и полные пальцы
Ярь-медянка у печки
Мпала тано мпала тано мпала тано мпала тано ойохо мпала тано
Мпала тано я тано я тано я тано о ши-иринку
Мпала Цуфанга Мфиша Дабоша Карамба юбоша даба элое 30,
Марселя Янко и его собратьев, как и Тристана Тцара, занесло в Цюрих из Бухареста – этого балканского Парижа.
Прежде, чем приехать в Швейцарию, Янко (см. илл. 6) старательно и ответственно изучал архитектуру. От той тростниковой корзины, которая, как известно, служила Моисею жилищем в первые дни его жизни, от этого передвижного строения – до трактатов о гармонии и перспективе Браманте, до теорий Ренессанса Леона Баттисты Альберти – всё было разложено у Марселя по полочкам.
Это отпечаталось в абстрактных рельефах, которые он производил и которые вскоре уже висели у нас на стенах (см. илл. 11, 14). Иногда они были выполнены в гипсе пуританской белизны, иногда расписаны, иногда украшены кусочками зеркала или вырезаны из дерева. Они воспринимались очень серьезно, считались искусством и имели, как писал в своем дневнике Балль, «свою собственную логику без ожесточения и иронии».
Всё, к чему он прикасался, приобретало элегантность, даже абстрактные устрашающие рожи, о которых Балль пишет:
«Для нового вечера Янко изготовил несколько масок, они были более чем талантливы. Они напоминали о японском или древнегреческом театре и были при этом совершенно современными. Рассчитанные на воздействие на расстоянии, в сравнительно небольшом помещении кабаре они производили огромное впечатление. Мы все были на месте, когда явился Янко со своими масками, и каждый немедленно привязал на себя по одной. И тут произошло нечто странное. Маски не только немедленно потребовали костюма, они стали диктовать и совершенно определенную патетическую жестикуляцию, граничащую с безумием. Еще за пять минут до этого ни о чём не подозревавшие, мы задвигались, выписывая особые фигуры, задрапировались и обвешались немыслимыми предметами, превосходя один другого в изобретательности. Движущая сила этих масок передалась нам с поразительной неотвратимостью. Мы разом поняли, в чем состояло значение таких личин для мимики, для театра. Маски просто требовали, чтобы их носители пришли в движение в трагически-абсурдном танце.
Тогда мы пригляделись как следует к этим вырезанным из картона, раскрашенным и оклеенным предметам и вычленили из их многозначных характерных черт несколько танцев, к которым я тут же сочинил по короткой музыкальной пьесе. Один танец мы назвали „Ловля мух“. К этой маске подходили неуклюжие, тяжелые шаги и несколько быстрых, хватающих, размашистых поз, дополненных нервозной, визгливой музыкой. Второй танец мы назвали „Наваждение“. Танцующая фигура в сгорбленной позе идет вперед, постепенно выпрямляясь и вырастая. Рот маски широко раскрыт, нос широкий и смещенный. Угрожающе поднятые руки исполнительницы удлинены специальными трубами. Третий танец мы назвали „Торжественное отчаяние“. На руках, поднятых сводом, надеты длинные вырезанные золотые ладони. Фигура несколько раз поворачивается влево и вправо, потом медленно кружится вокруг своей оси и, в конце концов, молниеносно в изнеможении падает, чтобы медленно вернуться к первому движению.
Что нас всех очаровало в масках – это то, что они воплощали не человеческие, а сверхъестественные характеры и страсти. Они сделали видимым тот парализующий ужас, который скрыт за покровами происходящего в наше время».
Янко, как и Тцара, участвовал в деле всей душой, но был неповоротливее и тише. К тому времени он был отцом семейства и жил со своей хорошенькой женой-француженкой и двумя младшими братьями в буржуазной квартире за Кройцплатц в Цюрихе. Там он работал, корпя над плакатами дада, которые сочинял главным образом сам, выручал нас, водя экскурсии по галереям, писал сценарии и рокотал со сцены в симультанных стихах. Он всегда был готов прийти на помощь и умел помогать. Ни один вечер, ни одно чтение не обходилось без него.
«В настоящее время Янко мне особенно близок, – пишет Балль 24 мая 1916 г. в своем дневнике. – Это высокий, стройный человек, которого отличает свойство смущаться от чужой глупости и странности всякого рода и затем с улыбкой или мягким жестом просить о снисхождении или понимании. Он единственный среди нас не нуждается в иронии для того, чтобы совладать с тяжелыми временами».
То, что у Тцара оставалось просчитанной (холодно или с жаром) наглостью для того, чтобы бесцеремонно задеть публику, то, что у Хюльзенбека было чем-то вроде подавленной ярости, удовольствием пройтись насчет обывателей, то у Ханса Арпа (см. илл. 4) было поначалу просто – удовольствием ради потехи, потехой ради удовольствия. В фортиссимо обоих – и Тцара, и Хюльзенбека – невозможно было бы расслышать нежные тона флейты этого эльзасского художника, если бы он в передышке двух производителей шума не расчищал себе от случая к случаю место при помощи замечательной магии своего характера и по-детски мудрого шарма своих стихов:
умер каспар 31
о горе умер наш добрый каспар.
кто же вплетет теперь пламенный дым в косу облаков и
влепит ежедневный черный щелбан.
кто будет крутить кофейную мельницу в пивной бочке.
кто приманит теперь идиллическую косулю из закаменевшего кулька.
кто высморкает ссаки параплюев ветрогонов пасечников
озоновых веретен и снимет заусенцы пирамид.
о горе о горе о горе умер наш добрый каспар. праведное небо умер каспар.
сенные акулы клацают зубами от горя в колокольных амбарах
как только заслышат его имя. поэтому я выстанываю лишь
его фамилию каспар каспар каспар.
зачем ты нас покинул. в какое обличье перекочевала теперь
твоя большая красивая душа. может ты стал звездой или ожерельем из воды
на горячем ветру или выменем из черного света или
прозрачной черепицей у стонущего барабана скалистого существа
. .
Когда в 1914 г. началась война, Арп находился в Париже. Будучи эльзасцем, родившимся в Страсбурге, он оказался в сложном положении: как-никак с немецким гражданством, хотя Эльзас стал германским только в 1870 г. До своего переселения он времени не терял. В 1915 г. Арп получил задание вдохнуть жизнь в голые стены теософского дома господина Рене Шваллера 32 в Париже. Как он мне рассказывал, он вырезал из бумаги большие искривленные формы разных цветов и декорировал стены этими лирическими абстракциями. Его работы были хорошо приняты и соответствовали духу теософского института. Но поскольку пребывание Арпа в Париже – немца, пусть и из Эльзаса – было рискованным, он отправился в Швейцарию.
«Питая отвращение к бойне мировой войны 1914 г., мы предавались в Цюрихе высокому искусству. В то время как вдали гремели орудия, мы от всей души пели, рисовали, клеили, сочиняли стихи. Мы искали элементарное искусство, которое исцеляло бы людей от безумия времени, и новый порядок, который установил бы равновесие между небесами и преисподней. Мы чувствовали, что стоим костью в горле у бандитов, которым в их одержимости властью даже искусство должно было служить оглуплению людей».
И Янко: «Была потеряна надежда на более справедливые условия существования искусства в нашем обществе. Те среди нас, кто осознавал эту проблему, чувствовали тяжесть повышенной ответственности. Мы были вне себя от страданий и унижения человека».
В Цюрихе, где Арп в 1916 г. примкнул к Баллю, бумажные вырезки вскоре превратились в резьбу по дереву. Его первые рельефы были ярко раскрашенными причудами, изгибами в дереве равномерной толщины (см. илл. 8). У меня самого был такой, пока Арп его у меня «не выменял на что‑нибудь другое, … что потом тоже “потерялось”».
Эти рельефы были без претензий и ничем не напоминали рельефы из истории искусств, – на которую нам было наплевать, – но зато они радовали нас своим юмором, уравновешенностью пропорций и новизной.
Немного позже Арп приколотил деревяшки, которые уже не требовали столярной обработки, на четырехугольную крышку ящика. Где-то подобранные, по-разному изукрашенные стариной и грязью палочки были поставлены в ряд и на свой лад музицировали.
Всем этим нельзя было заработать ни денег, ни славы, но, в конце концов, господин Корай 33, директор женской школы в Цюрихе, пригласил этого странного художника и его старшего друга Отто ван Рееcа 34, который тоже предпочитал цветам и горам красочные пятна и мазки, расписать входной портал его новопостроенной женской школы. Те охотно взялись за это. Так по обе стороны от входа в школу возникли две большие абстрактные фрески (впервые в такой близости к Альпам), которые должны были стать отрадой очей для маленьких девочек, а для граждан Цюриха памятником того, насколько прогрессивен их город. К сожалению, эти фрески были встречены с жестоким непониманием. Родители маленьких девочек были возмущены, отцы города негодовали от подобного безобразия: чтобы стены – а с ними и души маленьких девочек – были запятнаны ничего не изображающими мазками краски. Они распорядились, чтобы эта мазня была немедленно закрашена «приличными» картинками. Это и было сделано… и теперь «матери, ведущие за руку своих детей» красовались на месте гибели творений Арпа и ван Рееcа 35.
Единственная женщина в числе членов «Кабаре Вольтер», Эмми Хеннингс, находилась, как можно было подумать, в трудном положении среди мужского засилья труппы (см. илл. 2). Эмма обладала тоненьким голоском, совсем не похожим на голос оперной дивы, но была яркой личностью. В юности она вдохновляла нескольких лучших немецких поэтов, с которыми была знакома. Сколько я ее помню, (с 1912 г.), она жила исключительно среди богемных художников и писателей. Уже тогда она ходила с затуманенным, устремленным слегка вверх взглядом мистика. Мне всегда было не по себе рядом с ней, так же, как, впрочем, и рядом с Баллем, постоянно одетым по-пасторски в черное. Но по разным причинам. Я столь же мало верил в ее мистическую детскость, сколь и в аббатскую серьезность Балля. Я не мог заниматься разгадыванием ее детского жеманства, ее небылиц, преподносимых со всей серьезностью; это отчуждало меня от нее как от женщины и как от человека. Только Балль с его благодушной человечностью вполне понимал ее характер. И хотя он не мог не замечать ее жеманства, но смотрел на него сквозь пальцы и видел в Эмми простую девочку, чья доверчивость, которой так часто злоупотребляли, обращалась к его мужеству, не особо его обременяя.
Как единственная женщина этого кабаре, нашпигованного поэтами и художниками, Эмми вносила в программу крайне необходимую ноту, хотя (или, может, как раз потому что) ее номера ни по голосу, ни по содержанию не были в традиционном смысле артистическими. Они скорее представляли в своей непривычной пронзительности выпад, который выводил публику из себя не меньше, чем провокации ее коллег-мужчин:
ПОСЛЕ КАБАРЕ
Я иду рано утром домой.
Часы бьют пять, уже светает,
Но в отеле еще горит свет,
А кабаре, наконец, закрылось.
В углу приткнулись дети,
Крестьяне уже выезжают на рынок,
К церкви направляются те, кто потише и старше.
С колокольни звонят потихоньку,
И девка с растрепанными локонами
Всё еще слоняется, продрогшая и бледная 36.
(Эмми Хеннингс)
Итак, оркестр «Вольтера» был шестиголосый. Каждый играл на своем «инструменте», т. е. на себе самом – страстно и от всей души. Каждый, разительно отличаясь от остальных, был своей собственной мелодией, своим собственным текстом, своим собственным ритмом. Каждый пел во всю силу собственную песню… и каким-то чудом в итоге оказывалось, что они представляют собой нечто целое, что все они взаимно нуждаются друг в друге. Мне и сегодня по-прежнему не понятно, как из таких гетерогенных элементов могло образоваться движение. Но в «Вольтере» эти отдельности светились, словно краски радуги, как будто все они возникли из разложения единого света.
Я сам попал в Цюрих и в движение дада лишь по странной случайности.
Вскоре после начала войны в сентябре 1914 г., когда повестка о призыве в немецкую армию уже была у меня в кармане, друзья устроили мне прощальную вечеринку. Среди них были два поэта – Фердинанд Хардекопф и Альберт Эренштейн 37. Поскольку никогда не знаешь, как, где и когда свидишься в следующий раз, Эренштейн предложил, чтобы ободрить меня: «Если мы все трое будем живы, давайте встретимся 15 сентября 1916 г., т. е. через два года, в три часа пополудни в кафе „Де ля Террас“ в Цюрихе». Я не знал ни Цюриха, ни «Террасу», и моя надежда оказаться там казалась меньше самой малой.
Ханс Рихтер. Виолончелист.
1916. Линогравюра
Ханс Рихтер. Теодор Дойблер.
1916. Линогравюра
После полутора лет на войне, ковыляя на костылях, я был комиссован как инвалид войны и вдруг вспомнил о той неправдоподобной договоренности. Дело в том, что в июле 1916 г. я случайным образом должен был участвовать в коллективной выставке у Ханса Гольца 38 в Мюнхене, то есть в какой-то степени на полдороги в Цюрих, к тому же я как раз женился на медсестре, которая выхаживала меня в лазарете, и мы решили устроить наше свадебное путешествие через Мюнхен в Цюрих. В любом случае, посреди войны это было безнадежным предприятием, но благодаря большому терпению, ловкости и массе рекомендаций мы его осуществили. 15 сентября 1916 г. в три часа пополудни я был в кафе «Де ля Террас», и меня там действительно «поджидали» Фердинанд Хардекопф и Альберт Эренштейн. К этой совершенно невероятной встрече, к этой сказочной ситуации тут же присовокупилась еще одна. Через пару столиков от нас сидели три молодых человека. После того, как Эренштейн, Хардекопф и я обменялись первыми новостями, они познакомили меня с этими молодыми людьми: Тристаном Тцара, Марселем Янко и его братом Жоржем. Так я обеими ногами вляпался, так сказать, в группу «Дада», которая тогда уже так и называлась. Мои работы в журнале «Акцион», моя выставка у Гольца, мои картины и рисунки и вызывающая врезка к ним в каталоге узаконили меня:
«Как это увлекательно – быть художником. Если это не захватывает, то для времяпрепровождения есть другие, лучшие возможности… Мы ведь знаем, насколько глубоко значимы все вопросительные знаки, которые ничем не разрешить. В комплексную цену состояния „не беспокойте меня“ входит бюргерская трусость, для которой характерна укорененная обыкновенность, так что для них обращение к негритянской пластике или кубизму кажется кокетливой причудой, на которой им есть где разгуляться с их духовным приговором „мышления по струнке“. То, что кто-то переходит от натурального вида к конструкции, для них лишь драма душевного страха (в действительности, пожалуй, как раз наоборот, конечное освобождение и полновластное управление небывалой материей)» (Ханс Рихтер. Каталог галереи Ханса Гольца).
В последующие дни я был представлен остальным членам группы. Эмми Хеннингс я уже знал по Берлину, по старому «Кафе дес Вестенс» 39. И так я стал членом семьи и оставался им до начала мира и до конца цюрихского дада.