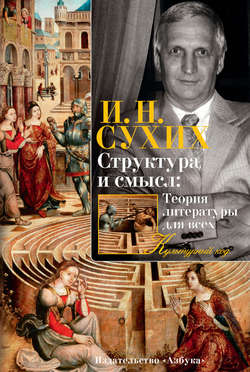Читать книгу Структура и смысл: Теория литературы для всех - И. Н. Сухих - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Практическая поэтика
Структура литературоведения
От службы понимания до риторики кроссовок
ОглавлениеРазговор о структуре литературоведения стоит начать с другого, более общего и древнего понятия. Как утверждают историки античности, слова филология (в переводе с греческого – любовь к слову, любословие) и филолог впервые встречаются у древнегреческого философа Платона (427–347 гг. до н. э.). Круг их значений широк. Первоначально филология означала «охоту к участию в философских беседах, произнесению философских речей», а филолог, соответственно, – «друга философских бесед».
Однако у одного из таких философов-филологов встречается фрагмент: «Алексид говорит, что вино… делает всех, кто пьет его в большом количестве, филологами». Замечательный филолог-классик советской эпохи А. И. Доватур забавно-перифрастически объяснял его смысл: «Принимая во внимание семантическое развитие слова „филология“ и контекст, который говорит о культурной атмосфере застольных бесед, мы должны под „филологами“ понимать людей, с удовольствием ведущих беседы на научные темы»[6].
С эпохи эллинизма филология дистанцируется от философии и становится более скромным, но важным занятием: техникой и методикой объяснения, комментирования (а позднее – издания) древних текстов, признаваемых образцовыми, классическими. Так понятая филология – психологическая предпосылка и источник всех последующих способов исследования словесных произведений.
«Филология есть служба понимания» (С. С. Аверинцев)[7].
«Филология велит знать и понимать все, и в этом ее великое назначение в истории человеческой культуры» (Г. О. Винокур)[8].
В Новое время (обычно этот процесс датируют первой половиной ХIХ века) «единство филологии как науки оказалось взорвано во всех измерениях; она осталась жить уже не как наука, но как научный принцип»[9]. На развалинах филологии возникают две основные научные дисциплины, по традиции существующие в рамках филологического факультета, – лингвистика и литературоведение. Они различаются как по предмету, так и по методу.
Лингвистика (языкознание) – наука о разнообразных аспектах языка: его структуре (фонетика, грамматика, лексика, синтаксис), историческом развитии (церковнославянский, русский язык ХVIII века, современный русский язык), способах функционирования (устная и письменная речь, диалекты и жаргоны). Литературные тексты – лишь часть общего поля лингвистики (В. В. Виноградов определял эту область как «теорию художественной речи»).
Литературоведение изначально имеет дело не просто с письменными, но с художественными текстами (хотя это понятие – одно из самых сложных и спорных, к чему мы еще вернемся). Оно не может обойтись без обращения к языковым аспектам произведения, но не может и свестись к ним. Литературоведение занимается способами превращения слова в образ, текста – в художественный мир.
За два последних столетия литературоведение превратилось в комплекс разнообразных дисциплин, пережило смену часто конфликтовавших между собой методов исследования.
Проще начать с характеристики так называемых вспомогательных литературоведческих дисциплин. Они непосредственно вырастают из филологической практики и призваны предоставить материал для дальнейшего литературоведческого исследования в наиболее удобной и корректной форме. Вспомогательными эти дисциплины, впрочем, называются условно. В них заключена важная часть филологической работы. Им посвятили жизнь многие крупные ученые-филологи.
Если представить филологическое исследование в систематически-упорядоченном виде, начинается оно в области текстологии. Текстология (от лат. textus – ткань, связь <слов> и греч. λόγος – слово, наука) – область филологии, задачей которой является изучение текста как памятника: выявление рукописей, их датировка и атрибуция (определение авторства), объяснение их смысла (интерпретация и комментирование).
Главная цель текстолога – корректная подготовка рукописи или уже публиковавшегося текста к изданию. Ключевые понятия текстологии – последняя авторская воля и основной (канонический) текст. Текстолог исходит из очевидных соображений: пока писатель работает над текстом, он по каким-то причинам его не удовлетворяет. Следовательно, последнюю авторскую волю фиксирует хронологически самая поздняя рукопись или издание. Поэтому, определив ее и после тщательного изучения исправив неточности и опечатки прежних изданий, восстановив цензорские и редакторские искажения, мы получим основной текст, отвечающий последней авторской воле.
Однако эта простая логическая формула в конкретном применении, на практике, наталкивается на множество исторических сложностей. Автор может оставить несколько рукописей, так и не доведя работу до конца, а может, напротив, издать текст в нескольких вариантах, где поздний очевидно уступает раннему. Цензурные и редакторские искажения бывает трудно восстановить, потому что первоначальная рукопись исчезла. Даже исторические изменения графики и орфографии ставят текстолога перед трудной проблемой. Издавать ли Ломоносова, Державина или даже Пушкина со всеми особенностями орфографии и пунктуации их времени (такие издания называются дипломатическими) или перевести их в привычный для нас вид, тем самым все-таки изменив особенности текста?
Серьезная работа над текстами, как правило, проводится в так называемых академических изданиях. Работа над ними обычно занимает десятилетия. Академический Пушкин в 16 томах (24 книгах) выходил тринадцать лет (1937–1949). Близкое к академическому 90-томное издание Л. Н. Толстого издавалось тридцать лет (1928–1958).
Еще сложнее обстоит дело с писателями-классиками ХХ века. В академическое издание М. Горького включены только его художественные произведения, но продолжается работа над томами публицистики и писем. Из задуманного к столетнему юбилею А. А. Блока двадцатитомного издания за тридцать пять лет (1980–2015) удалось подготовить всего семь томов, и окончание этого предприятия теряется во мгле будущего. Новое академическое двадцатитомное собрание сочинений А. С. Пушкина ограничивается пока тремя томами: специалистов, умеющих легко читать пушкинский почерк, очень мало. Так что работы текстологам хватит еще на много десятилетий.
Однако текстологию подстерегает опасность с другой стороны. Появление компьютера принципиально изменило разные области культуры. Рукопись в эпоху электронных средств фиксации становится раритетом, заменяясь компьютерным файлом, в котором результаты предшествующей работы вроде бы уничтожены. Чем будут заниматься текстологи будущего и сохранится ли эта квалификация?
В ответе на этот вопрос современный вольный филолог-архивист (А. Л. Соболев) полон оптимизма: «Это будет ужасно интересно! Во-первых, тщательнейшему анализу будет подвергнут жесткий диск компьютера, потому что сначала он будет полностью скопирован, потом аккуратно будут смотреть… Ты же понимаешь, как удаляется файл: истребляется упоминание о нем, грубо говоря, из оглавления, сам-то файл остается, пока занятое им место не понадобилось для чего-то другого. Потом будут восстанавливаться вот эти секторы на жестком диске, которые не заполнены, но где было что-то, восстанавливаться куски убитых файлов. Это будет получаться такая матрица, как будто там лист бумаги, по которому выстрелили дробью. И это можно будет как-то пытаться реконструировать. Когда все сладкое будет вынуто из жесткого диска, можно будет перейти к почте – все исходящие, все входящие, все черновики. <…> За много-много лет смотрим истории его <писателя> поиска в интернете, что он искал, на какие сайты ходил. Смотрим эти сайты, какой у него круг чтения. После этого переходим к его социальным сетям»[10].
Оканчивается эта филологическая фантазия иронически: архивист будущего должен будет заняться также писательской банковской карточкой, записями с камер наблюдения в его подъезде и данными его автомобиля. (Можно ли представить, чтобы творец ходил пешком – «как Чехов»?)
Пока же филологам на много лет хватит текстов и рукописей предшествующих эпох.
Вспомогательными дисциплинами по отношению к вспомогательной текстологии являются палеография и источниковедение.
Палеография (от греч. palaios – древний и grapho – пишу) – наука об орудиях, средствах и способах письма. Эти практические знания позволяют филологу и историку решить три важные задачи: определить место и время создания рукописи и по возможности атрибутировать ее, то есть определить автора.
Палеографические знания особенно необходимы исследователям ранних, допечатных этапов развития литературы. Большинство текстов этого времени (их обычно называют памятниками) анонимны и дошли до нас в списках более позднего времени. Без палеографического исследования невозможно ни издание памятника, ни включение его в историко-литературный контекст.
Однако знание особенностей почерка писателей изучаемой эпохи необходимо и филологу Нового времени. Найденная в архиве анонимная рукопись на основании особенностей почерка может быть атрибутирована писателю или публицисту и включена в собрание его сочинений. Для текстов, которые приписываются данному автору предположительно, в академических собраниях существует специальный раздел Dubia (лат. сомнительное).
Источниковедение – вспомогательная дисциплина, занимающаяся исследованием и классификацией источников. Для источниковедения, как и вообще для филологического анализа, важно разграничение собственно источника и пособия. Предмет исследования – это текст-источник. Другие же, часто очень многочисленные тексты, позволяющие этот текст издать, интерпретировать, – пособия.
В зависимости от цели и предмета исследования источники и пособия могут меняться местами. Для исследователя творчества Пушкина статьи В. Г. Белинского, безусловно, пособия. Однако для историка критики они превращаются в источник, а пособиями становятся сочинения и письма Пушкина, содержащие немногочисленные суждения о критике, которого поэт тоже читал и даже собирался (но не успел) пригласить в журнал.
Последним звеном в цепи вспомогательных дисциплин оказывается библиография – выявление, учет и описание разнообразных источников и пособий для изучения данного автора, эпохи, национальной литературы. В зависимости от предмета выделяют общие и персональные библиографии (включающие материалы об одном писателе). С хронологической точки зрения библиографии разделяются на текущие (постоянный учет материалов за какой-то относительно небольшой промежуток времени – неделю, месяц, год) и ретроспективные (охватывающие десятилетия или даже столетия). Наконец, по широте привлекаемого материала библиографии могут быть выборочные, рекомендательные и регистрационные, максимально полные, рассчитанные прежде всего на специалистов.
В докомпьютерную эпоху библиографии составлялись либо научными учреждениями, либо энтузиастами в течение десятилетий. В них было трудно восполнить пропуски или исправить ошибки, потому что переизданий этих адресованных узкому кругу специалистов пособий, как правило, не предпринималось. Электронные средства принципиально изменили условия и методы библиографической работы. Размещенные в Интернете старые библиографии или составленные новые становятся классическими примерами гипертекста, который легко уточняется, продолжается, объединяется с другими. Перевод фондов крупнейших библиотек в электронную форму уже активно идет и рано или поздно завершится. Это значительно облегчит предварительную библиографическую работу, но в чем-то и усложнит ее. Обращаясь к какой-то значительной теме, творчеству старого и хорошо изученного писателя, исследователь должен будет предпринимать особые усилия, чтобы не захлебнуться в обилии материалов. Не случайно и в докомпьютерную эпоху появлялись библиографии второй степени, библиографии библиографий[11].
Таким образом, цепь вспомогательных дисциплин – источниковедение и палеография, текстология, библиография – в совокупности обеспечивает изучение текста как текста, его внешних, формальных сторон.
Задача основных дисциплин, к рассмотрению которых мы переходим, – изучение текста как произведения в его уже не только внешних, формальных, но и внутренних, содержательных аспектах.
Наиболее распространенной является трехчленная классификация основных литературоведческих дисциплин: «Л<итературоведение> включает в себя ряд взаимосвязанных разделов: методологию и теорию литературы; историю литературы; литературную критику»[12].
Однако статус критики в этой триаде неоднозначен. Наряду с пониманием критики как части науки о литературе существуют еще две точки зрения.
Критика – не наука, а что-то иное, принципиально вненаучное, не имеющее отношения к строгому анализу. На этой позиции стоял замечательный филолог М. Л. Гаспаров: «Говорят, что царю Птолемею показалось трудным многотомное сочинение Евклида, и он спросил, нет ли более простого учебника. Евклид ответил: „В геометрии нет царских путей“. Но в филологии царский путь есть, и называется он: критика. Критика не в расширительном смысле „всякое литературоведение“, а в узком: та отрасль, которая занимается не выяснением, „что“, „как“ и „откуда“, а оценкой „хорошо“ или „плохо“. То есть устанавливает литературные репутации. Это не наука о литературе, а литература о литературе»[13].
Сходным образом рассуждают многие критики эссеистического толка – от Ю. И. Айхенвальда и К. И. Чуковского до современных журналистов. «Критика как литература» – название книги Б. И. Бурсова (1976).
Однако с подобной точкой зрения резко спорят многие «настоящие» авторы стихов и романов, выталкивая критику за пределы художественного творчества.
«Сколько можно спорить о литкритике? Литература она или нет? Писатели критики или не писатели? А ведь просто все. Искусствоведы, пишущие о живописи, скульптуре, архитектуре, не пытаются даже выдавать себя за живописцев или скульпторов. Чем от них литкритики отличаются?»[14]
Таким образом, мы получаем полный набор противоречащих друг другу утверждений, антиномический квадрат. «Критика – наука. – Критика – не наука. – Критика – литература. – Критика – не литература».
Решение состоит в том, чтобы выйти за пределы оппозиции «литература – наука», признать критику третьим элементом, областью, видом литературной деятельности, располагающимся на границах между собственно литературой и наукой, понятием и образом.
Критика при таком понимании – и то и другое, но, можно сказать, – ни то ни другое. Она – хамелеон, принимающий разную окраску, форму в зависимости от того, откуда мы ее обозреваем.
При взгляде «от литературы» отчетливо виден ее логический каркас, метаязык, объединяющий ее с наукой о литературе (при всей специфической научности самого литературоведения). Поэтому возникает вопрос: а где же здесь сюжет, персонажи, движение образа? Его заменяет развертывание мысли.
При взгляде «от науки», напротив, бросается в глаза субъективность, оценочность критики, а также стилистическая свобода, необязательная и даже чуждая собственно научному дискурсу. Любой прием и элемент поэтики – от тропа до образа-маски подставного автора, от «чужого слова» до монтажной композиции – можно проиллюстрировать на примере критики, хотя, конечно, они будут иметь служебный характер, нанизываясь на логическую структуру.
Исходную оппозицию «литература – критика» можно определить так: Художественная литература – создание и движение мира. Критика – движение мысли о мире.
Четко обозначить положение критики на гуманитарной карте, ее границы c соседними областями позволяют два сравнения. Историк литературы А. И. Белецкий в рабочих записях прибегает к кулинарной метафоре: «Писатель – повар, критик – дегустатор, литературовед – исследователь химического состава пищи, ее реакции на организм и т. д.»[15].
В записных книжках Сергея Довлатова возникает географическое сравнение: «Критика – часть литературы. Филология – косвенный продукт ее. Критик смотрит на литературу изнутри, филолог – с ближайшей колокольни»[16].
В терминологии М. М. Бахтина критика и филолога-литературоведа можно противопоставить как реализующих по отношению к тексту позиции диалогичности и вненаходимости (которая, конечно, относительна, ведь любой строгий литературовед – сначала читатель и потому не может совсем избавиться от эмоционального, оценочного, «критического» отношения к предмету своего исследования).
Определив особый статус критики, мы можем четко противопоставить друг другу две основные области литературоведения на основе синхронного и диахронного подходов к исследуемому материалу.
Задача теории литературы – исследование общих закономерностей литературного творчества и литературного произведения, а также формирование системы понятий, метаязыка, на котором об этом можно говорить.
История литературы, используя теоретические понятия и термины, изучает процесс конкретного литературного развития – эволюцию писателя, развитие национальной и даже мировой литературы (идею мировой литературы выдвинул в конце ХVIII века И. В. Гёте).
Обращаясь к теории литературы, мы добираемся наконец до поэтики. В разнообразных ее определениях можно увидеть доминанту, смысловое ядро.
В отличие от общей теории литературы, рассматривающей эстетические, психологические, философские вопросы (соотношение литературы и действительности, природа вымысла, психология творческого процесса, проблема формы и содержания и пр.), поэтика как часть теории литературы занимается конкретными текстами (в том широком понимании, которое обосновано во введении) и их ближайшим контекстом.
Задача поэтики – исследование приемов, способов, механизмов связности, «конструкции художественных произведений» (Б. В. Томашевский), в которой выявляются движение, динамика смыслов.
В зависимости от того, с какой точки зрения изучается эта конструкция, выделяют:
– частную (описательную) поэтику, ориентированную преимущественно на анализ конкретного произведения;
– общую поэтику, претендующую на полное, системное описание разнообразных литературных «конструкций»;
– историческую поэтику, перебрасывающую мостик от теории к истории, исследующую движение «конструкций» и отдельных их элементов во времени[17].
Определенным этапом исторической поэтики можно считать так называемую нормативную поэтику. Существовавшая еще в античности (древнейшая «Поэтика» Аристотеля относится к этому типу), она стала особенно влиятельной и весомой в эпоху классицизма. Нормативная поэтика задает правила создания «правильных» художественных текстов, четко видит отступления от этих правил и карает за них. В ней соединяются элементы как общей, так и частной поэтики.
Однако дальнейшее развитие литературы показало, что правила создаются не поэтиками, а художниками, в поэтике они только осознаются. Поэтому нормативные поэтики потеряли свое значение и свой научный статус, оставаясь, однако, важной частью формирования направлений и школ, входя в программные выступления, литературные манифесты.
Смысл, о котором говорилось чуть выше, формируется автором текста и должен быть воспринят читателем. Близкой к поэтике дисциплиной, занимавшейся сходными вопросами – способами выражения смысла, организацией нехудожественных, причем прозаических, текстов, – была риторика.
Традиционная риторика слагалась из пяти основных частей, представляющих этапы создания и произнесения устного текста: нахождение или изобретение материала для речи; его расположение; словесное выражение; запоминание; произнесение. Легко заметить, что три первых элемента риторики соотносятся с теоретическими понятиями темы, композиции и стиля.
«Риторика и поэтика слагаются в общую теорию литературы»[18], – не случайно утверждал Б. В. Томашевский.
Отталкиваясь от схемы эстетической коммуникации, можно построить таблицу, в которой выявляется место поэтики среди других способов анализа и интерпретации литературного произведения.
При этом элементы, «щепотки» поэтики, наблюдения над конструкцией присутствуют и в историко-литературном, и в функциональном изучении, и даже в социологии литературы.
В ХХ веке границы эстетического раздвинулись, перестали жестко связываться с категорией вымысла. «Для эстетической значимости не обязателен вымысел и обязательна организация – отбор и творческое сочетание элементов, отраженных и преображенных словом. В документальном контексте, воспринимаемом эстетически, жизненный факт в самом своем выражении испытывает глубокие превращения. Речь идет не о стилистических украшениях и внешней образности. Слова могут остаться неукрашенными, нагими, как говорил Пушкин, но в них должно возникнуть качество художественного образа»[19], – замечала Л. Я. Гинзбург, создавшая теорию «промежуточной литературы», документальной прозы.
Соответственно, расширились и границы поэтики. Появились исследования о поэтике бытового поведения (Ю. М. Лотман). Книга об А. П. Чехове называется «Поэтика раздражения» (Е. Д. Толстая), о М. М. Зощенко – «Поэтика недоверия» (А. К. Жолковский). Часто в таком расширенном понимании поэтику заменяет риторика. Предметами исследования могут быть риторика мифа, риторика поступка (М. М. Бахтин), риторика истории, риторика восторга и даже риторика кроссовок.
С поэтикой (будем все-таки пользоваться этим термином) мы сталкиваемся всюду, где можем увидеть в тексте (в широком смысле как «всяком связном знаковом комплексе») не просто семантическую, но одновременно выразительную структуру, предполагающую взаимопроникновение объективного значения и индивидуального смысла.
Поэтому можно говорить о поэтике «Войны и мира», школьного учебника (понятно, что далеко не каждого), бытового поведения и даже выбора и ношения кроссовок, но нельзя – о поэтике пчелиного танца или, скажем, летних гроз и закатов. В явлениях природы или проявлениях инстинкта, даже полных красоты и своеобразия, не предполагается индивидуально формируемого человеческого смысла.
Задача практической поэтики не в том, чтобы научить создавать художественные тексты (эпоха нормативных поэтик прошла, хотя рекламные брошюры о сочинении бестселлеров по-прежнему популярны и востребованы), но в том, чтобы предложить непротиворечивое, системное, наглядное описание их строения, «конструкции» и тем самым облегчить разговор о произведении. Занимающие много места в традиционных «Теориях литературы» и «Введениях в литературоведение» вопросы об эстетических категориях, форме и содержании, подражании, природе вымысла и пр. оставлены в стороне. Речь пойдет лишь об эмпирике художественного (а отчасти и нехудожественного) произведения, о тех феноменах, структурных уровнях и элементах, которые непосредственно связаны со значением и смыслом.
Подобное знание может послужить и конкретным практическим умениям – от умения сочинить простой стихотворный поздравительный текст до умения читать тексты человеческого поведения и истории. Все остальное зависит от желания, упорства и таланта.
Заглавие этой книги, как легко заметить, ориентировано на классическую, многократно переизданную и только что процитированную работу Б. В. Томашевского «Теория литературы. Поэтика»[20]. Хотя автор утверждал, что книга представляет собой объективное описание, его «Теория литературы» – в ее экстралингвистическом разделе «Тематика» – отражала по преимуществу формальную точку зрения (в трактовке мотива, сюжета и фабулы, персонажа и пр.).
Однако наряду с формальной, психологической (и психоаналитической), социологической, структуральной и пр. возможна, с нашей точки зрения, поэтика до метода: системное описание феноменов художественного текста, какими они представляются профессиональному читательскому восприятию, по возможности очищенное от методологических предпосылок и проекций. Описываемые далее уровни и элементы могут быть использованы (и практически используются) в любой «методологической» поэтике.
6
Вестник древней истории. 1969. № 1. С. 189.
7
Аверинцев С. С. Филология // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. Т. 7. М., 1972. Стлб. 976.
8
Винокур Г. О. Введение в изучение филологических наук (1945). М., 2000. С. 65.
9
Аверинцев С. С. Филология. Стлб. 979.
10
URL: http://www.colta.ru/articles/literature/3598.
11
См., например: Кандель Б. Л., Федюшина Л. М., Бенина М. А. Русская художественная литература и литературоведение: Указатель справочно-библиографических пособий с конца XVIII в. по 1974 г. М., 1976.
12
Мейлах Б. С. Литературоведение // Краткая литературная энциклопедия. Т. 4. М., 1967. Стлб. 331.
13
Гаспаров М. Л. Критика как самоцель // Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М., 2001. С. 109–110.
14
Конецкий В. Третий лишний. Л., 1983. С. 251.
15
Белецкий А. И. Из последних тетрадей // Литературная газета. 1984. № 44, 31 октября.
16
Довлатов C. Уроки чтения. СПб., 2012. С. 111.
17
См.: Гаспаров М. Л. Поэтика // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 295–296.
18
Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика (1931). М., 1996. С. 25.
19
Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1977. С. 10.
20
См. также: Фоменко И. В. Практическая поэтика. М., 2006. Однако эта книга посвящена нескольким частным, преимущественно лингвистическим, аспектам: ключевым и служебным словам, цитатности и пр.