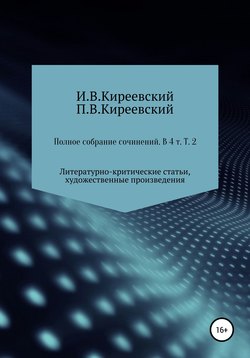Читать книгу Полное собрание сочинений: В 4-х т. Т. 2. Литературно-критические статьи, художественные произведения и собрание русских народных духовных стихов / Сост., научн. ред. и коммент. А. Ф. Малышевского - И. В. Киреевский - Страница 10
Часть I. Литературно-критические статьи и художественные произведения И. В. Киреевского
Глава I. Литературно-критические статьи
§ 10. Обозрение современного состояния литературы[156]
Оглавление<Статья первая>
Было время, когда говоря «словесность» разумели обыкновенно изящную литературу, в наше время изящная литература составляет только незначительную часть словесности. Потому мы должны предупредить читателей, что, желая представить современное состояние литературы в Европе, мы поневоле должны будем обращать внимание на произведения философские, исторические, филологические, политико-экономические, богословские и т. п., чем собственно на произведения изящные.
Может, от самой эпохи так называемого возрождения науки в Европе никогда изящная литература не играла такой жалкой роли, как теперь, особенно в последние годы нашего времени, хотя, может быть, никогда не писалось так много во всех родах и никогда не читалось так жадно все, что пишется. Еще XVIII век был по преимуществу литературный, еще в первой четверти XIX века чисто литературные интересы были одной из пружин умственного движения народов, великие поэты возбуждали великие сочувствия; различие литературных мнений производили страстные партии, появление новой книги отзывалось в умах как общественное дело. Но теперь отношение изящной литературы к обществу изменилось, из великих всеувлекающих поэтов не осталось ни одного, при множестве стихов и, скажем еще, при множестве замечательных талантов – нет поэзии, незаметно даже ее потребности, литературные мнения повторяются без участия, прежнее магическое сочувствие между автором и читателем прервано, из первой блистательной роли изящная словесность сошла на роль наперсницы других героинь нашего времени, мы читаем много, читаем больше прежнего и все, что попало, но все мимоходом, без участия, как чиновник прочитывает входящие и исходящие бумаги. Читая, мы не наслаждаемся, еще меньше можем забыться, но только принимаем к соображению, ищем извлечь применение, пользу, и тот живой, бескорыстный интерес к явлением чисто литературным, та отвлеченная любовь к прекрасным формам, то наслаждение стройностью речи, то упоительное самозабвение в гармонии стиха, какое мы испытали в нашей молодости, – молодое поколение будет знать о нем разве что по преданию.
Говорят, что этому надобно радоваться, что литература потому заменилась другими интересами, что мы стали дельнее, что если прежде мы гонялись за стихом, за фразою, за мечтою, то теперь ищем существенности, науки, жизни. Не знаю, справедливо ли это, но, признаюсь, мне жаль прежней, не применяемой к делу, бесполезной литературы. В ней было много теплого для души, а что греет душу, то может быть не совсем лишнее для жизни.
В наше время изящную словесность заменила словесность журнальная. И не надобно думать, что характер журнализма принадлежал одним периодическим изданиям: он распространяется на все формы словесности, с весьма немногими исключениями.
В самом деле, куда ни оглянемся, везде мысль подчинена текущим обстоятельствам, чувство приложено к интересам партии, форма приноровлена к требованиям минуты. Роман обратился в статистику нравов, поэзия – в стихи на случай[157], история была отголоском прошедшего, старается быть и зеркалом настоящего и доказательством какого-нибудь общественного убеждения, цитатой в пользу какого-нибудь современного воззрения, философия, при самых отвлеченных созерцаниях вечных истин, постоянно занята их отношением к текущей минуте, даже произведения богословские на Западе по большей части продолжаются каким-нибудь посторонним обстоятельством внешней жизни. По случаю одного кельнского епископа[158] написано больше книг, чем по причине господствующего неверия, на которое так жалуется западное духовенство.
Впрочем, это общее стремление умов к событиям действительности, к интересам дня имеет источником своим не одни личные выгоды или корыстные цели, как думают некоторые. Хотя выгоды частные и связаны с делами общественными, но общий интерес к последним не из одного этого расчета. По большей части это просто интерес сочувствия. Ум разбужен и направлен в эту сторону. Мысль человека срослась с мыслью о человечестве. Это стремление любви, а не выгоды[159]. Он хочет знать, что делается в мире, в судьбе ему подобных, часто без отношения к себе. Он хочет знать, чтобы только участвовать мыслию в общей жизни, сочувствовать ей изнутри своего ограниченного круга.
Несмотря на то, однако, кажется, не без основания жалуются многие на это излишнее уважение к минуте, на этот всепоглощающий интерес к событиям дня, к внешней, деловой стороне жизни. Такое направление, думают они, не обнимает жизни, но касается только ее наружной стороны, ее несущественной поверхности. Скорлупа, конечно, необходима, но только для сохранения зерна, без которого она свищ; может быть, состояние умов понятно как состояние переходное, но бессмыслица как состояние высшего развития. Крыльцо к дому хорошо как крыльцо, но если мы расположимся на нем жить, как будто оно весь дом, тогда нам оттого может быть и тесно, и холодно.
Впрочем, заметим, что вопросы собственно политические, правительственные, которые так долго волновали умы на Западе, теперь уже начинают удаляться на второй план умственных движений, и хотя при поверхностном наблюдении может показаться, что они еще в прежней силе, потому что по-прежнему еще занимают большинство голов, но это большинство уже отсталое, оно уже не составляет выражения века, передовые мыслители решительно преступили в другую сферу, в область вопросов общественных, где первое место уже занимает не внешняя форма, но сама внутренняя жизнь общества вся в действительных, существенных отношениях.
Излишним считаю оговариваться, что под направлением к вопросам общественным я разумею не те уродливые системы, которые известны в мире более по шуму, ими произведенному, чем по смыслу своих недодуманных учений: эти явления любопытны только как признак, а сами по себе несущественны. Нет интерес к вопросам общественным, заменяющий прежнюю, исключительно политическую заботливость, вижу я не в том или другом явлении, но в целом направлении литературы европейской.
Умственные движения на Западе совершаются теперь с меньшим шумом и блеском, но очевидно имеют более глубины и общности. Вместо ограниченной сферы событий дня и внешних интересов мысль устремляется к самому источнику всего внешнего, к человеку, как он есть, и к его жизни, как она должна быть. Дельное открытие в науке уже более занимает умы, чем пышная речь в Камере[160]. Внешняя сторона судопроизводства кажется менее важной, чем внутреннее развитие справедливости, живой дух народа существеннее его наружных устроений. Западные писатели начинают понимать, что под громким вращением общественных колес таится неслышное движение нравственной пружины, от которой зависит все, и потому в мысленной заботе своей стараются перейти от явления к причине, от формальных внешних вопросов хотят возвыситься к тому объему идеи общества, где и минутные события дня, и вечные условия жизни, и политика, и философия, и наука, и ремесло, и промышленность, и сама религия, и вместе с ними словесность народа сливаются в одну необозримую задачу: усовершенствование человека и его жизненных отношений.
Но надобно признаться, что, если частые литературные явления имеют оттого более значительности и, так сказать, более соку, зато литература в общем объеме своем представляет странный хаос противоречащих мнений, несвязных систем, воздушных разлетающихся теорий, минутных, выдуманных верований и в основании всего совершенное отсутствие всякого убеждения, которое могло бы назваться не только общим, но хотя господствующим. Каждое новое усилие мысли выражается новою системою, каждая новая система, едва рождаясь, сразу уничтожает все предыдущее и, уничтожая их, сама умирает в минуту рождения, так что, беспрестанно работая, ум человеческий не может успокоиться ни на одном добытом результате, постоянно стремясь к построению какого-то великого, заоблачного здания, нигде не находит опоры, чтобы утвердить хотя бы один первый камень для нешатающегося фундамента.
Оттого во всех сколько-нибудь замечательных произведениях словесности, во всех важных явлениях мысли на Западе, начиная с новейшей философии Шеллинга и оканчивая давно забытой системой сенсимонистов[161], обыкновенно находим мы две различные стороны: одна почти всегда возбуждает сочувствие в публике и часто заключает в себе много истинного, дельного и двигающего вперед мысль, это сторона отрицательная, полемическая, опровержение систем и мнений, предшествовавших излагаемому убеждению; другая сторона, если иногда и возбуждает сочувствие, то почти всегда ограниченное и скоро проходящее: эта сторона положительная, то есть именно та, что составляет особенность новой мысли, ее сущность, ее право на жизнь за пределами первого любопытства.
Причина такой двойственности западной мысли очевидна. Доведя до конца свое прежнее десятивековое развитие, новая Европа пришла в противоречие с Европой старой и чувствует, что для начала новой жизни ей нужно новое основание. Основание жизни народной есть убеждение. Не находя готового, соответствующего ее требованиям, западная мысль пытается создать себе убеждение усилием, изобрести его, если можно, напряжением мышления, но в этой отчаянной работе, во всяком случае любопытной и поучительной, до сих пор еще каждый опыт был только противоречием другого.
Многомыслие, разноречие кипящих систем и мнений при недостатке одного общего убеждения не только раздробляет самосознание общества, но необходимо должно действовать и на частного человека, раздвояя каждое живое движение его души. Оттого, между прочим, в наше время так много талантов и нет ни одного истинного поэта. Ибо поэт создается силою внутренней мысли, из глубины души своей должен он вынести, кроме прекрасных форм, еще саму душу прекрасного, свое живое цельное воззрение на мир и человека. Здесь не помогут никакие искусственные устроения понятий, никакие разумные теории. Звонкая и трепещущая мысль его должна исходить из самой тайны его внутреннего, так сказать, надсознательного убеждения, и где это святилище бытия раздроблено разночтением верований или пусто их отсутствием, там не может быть речи ни о поэзии, ни о каком могучем воздействии человека на человека.
Это состояние умов в Европе довольно новое. Оно принадлежит последней четверти девятнадцатого века. Восемнадцатый век хотя был по преимуществу неверующий, но тем не менее имел свои горячие убеждения, свои господствующие теории, на которых успокаивалась мысль, которыми обманывалось чувство высшей потребности человеческого духа. Когда же за порывом упоения последовало разочарование в любимых теориях, тогда новый человек не выдержал жизни без сердечных целей: господствующим чувством его стало отчаяние, Байрон свидетельствует об этом переходном состоянии. Но чувство отчаяния по сущности своей только минутное. Выходя из него, западное самосознание распалось на два противоположных стремления. С одной стороны, мысль, не поддержанная высшими целями духа, упала на службу чувственным интересам и корыстным видам – отсюда промышленное направление умов, которое проникло не только во внешнюю общественную жизнь, но и в отвлеченную область науки, в содержание и форму словесности и даже в самую глубину домашнего быта, в святость семейных связей, в волшебную тайницу первых юношеских мечтаний. С другой стороны, отсутствие основных начал пробудило во многих сознание их необходимости. Самый недостаток убеждений произвел потребность веры. Но умы, искавшие веры, не всегда умели согласить ее западные формы с настоящим состоянием европейской науки. Оттого некоторые решительно отказались от последней и объявили непримиримую вражду между верою и разумом, другие же, стараясь найти их соглашение, или насилуют науку, чтоб втеснить её в западные формы религии, или хотя те самые формы религии преобразовать по своей науке, или, наконец, не находя на Западе формы, соответствующей их умственным потребностям, выдумывают себе новую религию без церкви, без Предания, без Откровения и без веры.
Границы этой статьи не позволяют нам изложить в ясной картине того, что есть замечательного и особенного в современных явлениях словесности Германии, Англии, Франции и Италии, где тоже загорается теперь новая, достойная внимания мысль религизно-философская. В последующих номерах «Москвитянина» надеемся мы представить это изображение со всевозможным беспристрастием. Теперь же в беглых очерках постараемся обозначить в иностранных словесностях только то, что они представляют самого резко замечательного в настоящую минуту.
В Германии господствующее направление умов до сих пор остается преимущественно философское, к нему примыкает с одной стороны направление исторически-теологическое, которое есть следствие собственного, более глубокого развития мысли философской, a с другой – направление политическое, которое, кажется, по большей части надобно приписать чужому влиянию, судя по пристрастию замечательнейших писателей этого рода к Франции и ее словесности. Некоторые из этих немецких патриотов доходят до того, что ставят Вольтера как философа выше мыслителей германских.
Новая система Шеллинга[162], так долго ожиданная, так торжественно принятая, не согласовалась, кажется, с ожиданиями немцев. Его берлинская аудитория, где первый год его появления с трудом можно была найти место, теперь, как говорят, сделалась просторною. Его способ примирения веры с философией не убедил до сих пор ни верующих, ни философствующих. Первые упрекают его за излишние права разума и за тот особенный смысл, который он влагает в свои понятия о самых основных догматах христианства. Самые близкие друзья его видят в нем только мыслителя на пути к вере. «Я надеюсь, – говорит Неандер (посвящая ему новое издание своей церковной истории), – я надеюсь, что милосердый Бог скоро сделает Вас вполне нашим»[163]. Философы, напротив того, оскорбляются тем, что он принимает как достояние разума догматы веры, не развитые из разума по законам логической необходимости. «Если бы система его была сама святая истина, – говорят они, – то и в таком случае она не могла бы быть приобретением философии, покуда не явится собственным ее произведением».
Этот, по крайней мере, наружный неуспех дела всемирно значительного, с которым соединялось столько великих ожиданий, основанных на глубочайшей потребности духа человеческого, смутил многих мыслителей, но вместе был причиною торжества для других. И те, и другие забыли, кажется, что новотворческая мысль вековых гениев должна быть в разногласии с ближайшими современниками. Страстные гегельянцы, вполне довольствуясь системою своего учителя и не видя возможности повести мысль человеческую далее показанных им границ, почитают святотатственным нападением на самую истину каждое покушение ума развить философию выше теперешнего ее состояния. Но между тем торжество их при мнимой неудаче великого Шеллинга, сколько можно судить из философских брошюр, было не совсем основательное. Если и правда, что новая система Шеллинга в той особенности, в какой она была им изложена, нашла мало сочувствия в теперешней Германии, то, тем не менее, его опровержения прежних философий, и преимущественно Гегелевой, имело глубокое и с каждым днем более увеличивающееся действие. Конечно, справедливо и то, что мнения гегелианцев беспрестанно шире распространяются в Германии, развиваясь в применениях к искусствам, литературе и всем наукам (включая еще наук естественных), справедливо, что они сделались даже почти популярными, но зато многие из первоклассных мыслителей уже начали сознавать недостаточность этой формы любомудрия и ясно чувствуют потребности нового учения, основанного на высших началах, хотя и не ясно еще видят, с какой стороны можно им ожидать ответа на эту незаглушимую стремящегося духа потребность. Так по законам вечного движения человеческой мысли, когда новая система начинает спускаться в низшие слои образованного мира, в то самое время передовые мыслители уже сознают ее неудовлетворительность и смотрят вперед, в ту глубокую даль, в голубую беспредельность, где открывается новый горизонт их зоркому предчувствию.
Впрочем, надобно заметить, что слово «гегельянизм» не связано ни с каким определенным образом мыслей, ни с каким постоянным направлением. Гегельянцы сходятся между собой только в методе мышления и еще более в способах выражения, но результаты их методы и смысл выражаемого часто совершенно противоположны. Еще при жизни Гегеля между ним и Гансом, гениальнейшим из его учеников, было совершенное противоречие в применяемых выводах философии. Между другими гегельянцами повторяется то же разногласие. Так, например, образ мыслей Гегеля и некоторых из его последователей доходил до крайнего аристократизма, между тем как другие гегельянцы проповедуют самый отчаянный демократизм, были даже некоторые, выводившие из тех же начал учение самого фанатического абсолютизма. В религиозном отношении иные держатся протестантизма в самом строгом, древнем смысле этого слова, не отступая не только от понятия, но даже от буквы учения, другие, напротив того, доходят до самого нелепого безбожия. В отношении искусства сам Гегель начал с противоречия новейшему направлению, оправдывая романтическое и требуя чистоты художественных родов, гегельянцы остались и теперь при этой теории, между тем как другие проповедуют искусство новейшее в самой крайней противоположности романтическому при самой отчаянной неопределенности форм и смешанности характеров. Так, колеблясь между противоположными направлениями, – то аристократическая, то народная, то верующая, то безбожная, то романтическая, то новожизненная, то чисто прусская, то вдруг турецкая, то, наконец, французская, – система Гегеля в Германии имела различные характеры, и не только на этих противоположных крайностях, но и на каждой ступени их взаимного расстояния образовала и оставила особую школу последователей, которые более или менее склоняются то на правую, то на левую сторону. Потому ничто не может быть несправедливее, как приписывать одному гегельянцу мнение другого, как это бывает иногда и в Германии, но чаще в других литературах, где система Гегеля еще не довольно известна. От этого недоразумения большая часть последователей Гегеля терпит совершенно незаслуженные обвинения. Ибо естественно, что самые резкие, самые уродливые мысли некоторых из них всего скорее распространяются в удивленной публике как образец излишней смелости или забавной странности, и, не зная всей гибкости Гегелевой методы, многие невольно приписывают всем гегельянцам то, что принадлежит, может быть, одному.
Впрочем, говоря о последователях Гегеля, необходимо отличать тех из них, которые занимаются приложением его методов к другим наукам, от тех, которые продолжают развивать его учение в области философии. Из первых есть некоторые писатели, замечательные силою логического мышления, из вторых же до сих пор неизвестно ни одного особенно гениального, ни одного, который бы возвысился даже до живого понятия философии, проник бы далее ее внешних форм и сказал бы хотя одну свежую мысль, не почерпнутую буквально из сочинений учителя. Правда, Эрдман сначала обещал развитие самобытное, но потом, однако, 14 лет сряду не устает постоянно переворачивать одни и те же общеизвестные формулы. Та же внешняя формальность наполняет сочинения Розенкранца, Мишлета, Маргейнеке, Гото Ретчера и Габлера, хотя последний, кроме того, еще переиначивает несколько направление своего учителя и даже самую его фразеологию или оттого, что в самом деле так понимает его, или, может быть, так хочет понять, жертвуя точностью своих выражений для внешнего блага всей школы. Вердер пользовался некоторое время репутацией особенно даровитого мыслителя, покуда ничего не печатал и был известен только по своему преподаванию берлинским студентам, но, издав «Логику», наполненную общих мест и старых формул, одетых в изношенное, но вычурное платье с пухлыми фразами, он доказал, что талант преподавания еще не порука за достоинство мышления. Истинным, единственно верным и чистым представителем гегельянизма остается до сих пор все еще сам Гегель, и один он, – хотя, может быть, никто более его самого не противоречил в применениях основному началу его философии.
Из противников Гегеля легко было бы высчитать многих замечательных мыслителей, но глубже и сокрушительнее других кажется нам, после Шеллинга, Адольф Тренделенбург – человек, глубоко изучивший древних философов и нападающий на методу Гегеля в самом источнике ее жизненности: в отношении чистого мышления к его основному началу[164]. Но и здесь, как во всем современном мышлении, разрушительная сила Тренделенбурга находится в явном неравновесии с созидательною.
Нападения гербартиянцев имеют, может быть, менее логической неодолимости, зато более существенного смысла потому, что на место уничтожаемой системы ставят не пустоту бессмыслия, от которой ум человеческий имеет еще более отвращения, чем физическая природа, но предлагают другую, уже готовую, весьма достойную внимания, хотя еще мало оцененную систему Гербарта[165].
Впрочем, чем менее удовлетворительности представляет философское состояние Германии, тем сильнее раскрывается в ней потребность религиозная. В этом отношении Германия теперь весьма любопытное явление. Потребность веры, так глубоко чувствуемая высшими умами, среди общего колебания мнений и, может быть, вследствие этого колебания обнаружилась там новым религиозным расстройством многих поэтов: образованием новых религиозно-художнических школ и более всего новым направлением богословия. Эти явления тем важнее, что они, кажется, только первое начало будущего сильнейшего развития. Я знаю, что обыкновенно утверждают противное, знаю, что видят в религиозном направлении некоторых писателей только исключение из общего господствующего состояния умов. И в самом деле оно исключение, если судить по материальному, числительному большинству так называемого образованного класса, ибо надобно признаться, что этот класс более чем когда-нибудь принадлежит теперь к самой левой крайности рационализма. Но не должно забывать, что развитие мысли народной исходит не из численного большинства. Большинство выражает только настоящую минуту и свидетельствует более о прошедшей, действовавшей силе, чем о наступающем движении. Чтобы понять направление, надобно смотреть не туда, где больше людей, но туда, где больше внутренней жизненности и где полное соответствие мысли вопиющим потребностям века. Если же мы возьмем во внимание, как приметно остановилось жизненное развитие немецкого рационализма, как механически он двигается в несущественных формулах, перебирая одни и те же истертые положения, как всякое самобытное трепетание мысли видимо вырывается из этих однозвучных оков и стремится в другую, теплейшую сферу деятельности, – тогда мы убедимся, что Германия пережила свою настоящую философию и что скоро предстоит ей новый, глубокий переворот в убеждениях.
Чтобы понять последнее направление ее лютеранского богословия, надобно припомнить обстоятельства, служившие поводом к его развитию.
В конце прошедшего и в начале настоящего века большинство немецких теологов было, как известно, проникнуто тем популярным рационализмом, который произошел из смешения французских мнений с немецкими школьными формулами. Направление это распространилось весьма быстро. Землер в начале своего поприща был провозглашен вольнодумным новоучителем, но при конце своей деятельности и не переменяя своего направления он же самый вдруг очутился с репутацией закостенелого старовера и гасильника разума. Так быстро и так совершенно изменилось вокруг него состояние богословского учения.
В противоположность этому ослаблению веры, в едва заметном уголке немецкой жизни сомкнулся маленький кружок людей, напряженно верующих, так называемых пиетистов[166], сближавшихся несколько с гернгутерами[167] и методистами[168].
Но 1812 год разбудил потребность высших убеждений во всей Европе, тогда, особенно в Германии, религиозное чувство проснулось опять в новой силе. Судьба Наполеона, переворот, совершившийся во всем образованном мире, опасность и спасение отечества, переначатие всех основ жизни, блестящие молодые надежды на будущее – все это кипение великих вопросов и громадных событий не могло не коснуться глубочайшей стороны человеческого самосознания и разбудило высшие силы его духа. Под таким влиянием образовалось новое поколение лютеранских теологов, которое естественно вступило в прямое противоречие с прежним. Из их взаимного противодействия в литературе, в жизни и в государственной деятельности произошли две школы: одна, в то время новая, опасаясь самовластия разума, держалась строго символических книг своего исповедания, другая позволяла себе их разумное толкование. Первая, противоборствуя излишним, по ее мнению, правам философствования, примыкала крайними членами своими к пиетистам; последняя, защищая разум, граничила иногда с чистым рационализмом. Из борьбы этих двух крайностей развилось бесконечное множество средних направлений.
Между тем несогласие этих двух партий в самых важных вопросах, внутреннее несогласие разных оттенков одной и той же партии, несогласие разных представителей одного и того же оттенка и, наконец, нападения чистых рационалистов, уже не принадлежащих к числу верующих, на все эти партии и оттенки вместе взятые, – все это возбудило в общем мнении сознание необходимости более основательного изучения Священного Писания, нежели как оно совершалось до того времени, и более всего необходимости твердого определения границ между разумом и верою. С этим требованием сошлось, и частию усилилось, новое развитие исторического и особенно филологического и философского образования Германии. Вместо того что прежде студенты университетские едва разумели по-гречески, теперь ученики гимназий начали вступать в университеты уже с готовым запасом основательного знания в языках латинском, греческом и еврейском. Филологические и исторические кафедры занялись людьми замечательных дарований. Богословская философия считала многих из видных представителей, но особенно оживило и развило ее блестящее и глубокомысленное преподавание Шлейермахера[169] и другое, противоположное ему, хотя не блестящее, но не менее глубокомысленное, хотя едва понятное, но, по какому-то невыразимому, сочувственному сцеплению мыслей удивительно увлекательное преподавание профессора Дауба. К этим двум системам примкнула третья, основанная на философии Гегеля. Четвертая партия состояла из остатков прежнего брейтшнейдеровского популярного рационализма[170]. За ними начинались уже чистые рационалисты с голым философствованием без веры.
Чем ярче определялись различные направления, тем многостороннее обрабатывались частные вопросы, тем труднее было их общее соглашение.
Между тем сторона преимущественно верующих, строго держася своих символических книг, имела великую внешнюю выгоду над другими: только последователи Аугсбургского исповедания[171], пользовавшегося государственным признанием вследствие Вестфальского мира, могли иметь право на покровительство государственной власти. Вследствие этого многие из них требовали удаления противомыслящих от занимаемых ими мест.
С другой стороны, эта самая выгода была, может быть, причиною их малого успеха. Против нападения мысли прибегать под защиту внешней силы для многих казалось признаком внутренней несостоятельности. К тому же в их положении была еще другая слабая сторона: самое Аугсбургское исповедание основалось на праве личного толкования. Допускать это право до XVI века и не допускать его после – для многих казалось другим противоречием. Впрочем, от той или другой причины, но рационализм, приостановленный на время и не побежденный усилиями законно верующих, стал снова распространяться, действуя теперь уже с удвоенной силой, укрепившись всеми приобретениями науки, покуда, наконец, следуя неумолимому течению силлогизмов, оторванных от веры, он достиг самых крайних, самых отвратительных результатов.
157
Уже Гёте предугадал это направление и под конец своей жизни утверждал, что истинная поэзия есть поэзия на случай (Gelegenheits-Gedicht). Впрочем, Гете понимал это по-своему. В последнюю эпоху его жизни большая часть поэтических случаев, возбуждавших его вдохновение, были придворный бал, почетный маскарад или чей-нибудь день рождения. Судьба Наполеона и перевернутой им Европы едва оставила следы во всем собрании его творений. Гете был всеобъемлющий, величайший и, вероятно, последний поэт жизни индивидуальной, еще не сопроникнувшейся в одно с жизнью общечеловеческою. – И. К.
Гете заметил: «Все мои стихи – стихи по поводу, они навеяны действительностью…» (Эккерман И. П. Разговоры с Гете. Ч. 1. 1836). – Сост.
158
Архиепископ Кёльна Клементий Август (барон фон Дросте Фишеринг) протестовал против постановления прусского правительства, разрешающего браки между католиками и протестантами, за что был смещен и арестован (1837). Этот конфликт привлек внимание прессы. – Сост.
159
По поводу этих суждений И. В. Киревского А. И. Герцен писал в статье «“Москвитянин” и вселенная»: «Какое глубокое пониманье! Вот когда бы истые славяне умели подобным образом понимать явления, тогда хульные слова на Европу не так легко произносились бы ими» (Герцен А. И. Собр. соч.: в 30-то т. М., 1954. Т. 2. С. 138). – Сост.
160
Имеется в виду палата депутатов в парламенте. – Сост.
161
Подразумевается учение Сен-Симона и его последователей Анфантена, Базара и др. – Сост.
162
Речь идет о последнем этапе творческой деятельности Шеллинга – философии мифологии и откровения. См.: Наст. изд. Т. 1. Девятнадцатый век. – Сост.
163
И. В. Киреевский приводит слова А. Неандера из его книги: «Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche» (Всеобщая история христианской религии и церкви). Zweite und verbesserte Auflage. Bd. 1. Hamburg, 1842. — Сост.
164
Ф. А. Тренделенбург доказывал, что Гегель в построении своей идеалистической системы (в «чистом мышлении») негласно использует понятие внешнего мира («основное начало»); тем самым выводимые Гегелем категории оказываются мнимо самостоятельными. – Сост.
165
<…> Думаем, что систему Гербарта ожидает новое значение на время философского междуцарствия в Германии. – И. К.
Философская система И. Ф. Гербарта предполагала в человеке этическую и эстетическую потребность видеть мир целесообразным; эта потребность, по Гербарту, и доказывает существование Бога. – Сост.
166
Пиетизм – течение в немецком протестантизме (лютеранстве), представители которого (пиетисты) ставили внутреннее религиозное переживание верующего выше христианских догматов и обрядности. – Сост.
167
Гернгутеры – богемские (или моравские) братья – религиозная секта, отдалившаяся от католической церкви и требовавшая в нравственном и религиозном отношении возврата к временам раннего христианства; это отразилось в их проповеди «учения о справедливости». – Сост.
168
Методисты – последователи методизма, разновидности протестантизма, отделившейся от англиканской церкви. Методисты во главе с Д. Уэсли боролись против религиозного индифферентизма и рационализма, отстаивая глубокую религиозную веру как средство совершенствования человека и спасения души. – Сост.
169
В учении Шлейермахера религиозные и этические категории выводились из субъекта, что сочеталось с рационалистической интерпретацией Ветхого и Нового Заветов. – Сост.
170
Имеется в виду теолог К. Г. Брейтшнейдер, который с рационалистических позиций оспаривал подлинность Евангелия от Иоанна и с тех же позиций излагал христианскую догматику в книге «Handbuch der Dogmatik der evangelischen Kirche» (Руководство по догматике евангельской церкви. 1838). – Сост.
171
Аугсбургское исповедание – изложение основ лютеранства, составленное сподвижником М. Лютера Ф. Меланхтоном и представленное для утверждение на Аугсбургском рейхстаге (1530). – Сост.