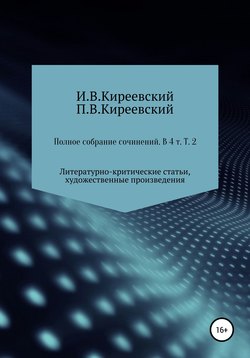Читать книгу Полное собрание сочинений: В 4-х т. Т. 2. Литературно-критические статьи, художественные произведения и собрание русских народных духовных стихов / Сост., научн. ред. и коммент. А. Ф. Малышевского - И. В. Киреевский - Страница 3
Часть I. Литературно-критические статьи и художественные произведения И. В. Киреевского
Глава I. Литературно-критические статьи
§ 3. Обозрение русской словесности за 1829 год[20]
ОглавлениеПрежде нежели мы приступим к обозрению словесности прошедшего года, я прошу просвещенных читателей обратить внимание на сочинение, которое хотя вышло ранее 29 года, но имело влияние на его текущую словесность; которое должно иметь еще большее действие на будущую жизнь нашей литературы; которое успешнее всех других произведений русского пера должно очистить нам дорогу к просвещению европейскому; которым мы можем гордиться перед всеми государствами, где только выходят сочинения такого рода; которого издание (выключая, может быть, учреждение ланкастерских школ) было самым важным событием для блага России в течение многих лет и важнее наших блистательных побед за Дунаем и Араратом, важнее взятия Эрзерума и той славной тени, которую бросили русские знамена на стены царьградские. Эта книга – читатель уже назвал Ценсурный устав[21].
Влияние его на текущую словесность прошедшего года, хотя мало приметное, было тем не менее действительно. Наши журналы заимствовали более из журналов иностранных; переводы, хотя по большей части дурные, передавали нам более следов умственной жизни наших соседей, и оттого вся литература наша неприметно приближалась более к жизни общеевропейской. Самые перебранки наших журналов, их неприличные критики, их дикий тон, их странные личности, их вежливости негородские – все это было похоже на нестройные движения распеленатого ребенка, движения, необходимые для развития силы, для будущей красоты и здоровья.
Но, чтобы вернее определить особенность нашей литературы прошедшего года, открыть в ней признаки господствующего направления нашей словесности вообще и ее отношение к целостному просвещению Европы, бросим беглый взгляд на характер всей литературы нашей девятнадцатого столетия, ибо одно прошедшее дает цену и указывает место настоящему, определяя дорогу для будущего.
Литературу нашу девятнадцатого столетия можно разделить на три эпохи, различные особенностью направления каждой из них, но связанные единством их развития. Характер первой эпохи определяется влиянием Карамзина, средоточием второй была муза Жуковского, Пушкин может быть представителем третьей.
Начало девятнадцатого столетия в литературном отношении представляет резкую противоположность с концом восемнадцатого. В течение немногих лет просвещение сделало столь быстрые успехи, что с первого взгляда они являются неимоверными. Кажется, кто-то разбудил полусонную Россию. Из ленивого равнодушия она вдруг переходит к жажде образования, ищет учения, книг, стыдится своего прежнего невежества и спешит породниться с иноземными мнениями. Когда явился Карамзин, уже читатели для него были готовы, а его удивительные успехи доказывают не столько силу его дарований, сколько повсюду распространившуюся любовь к просвещению.
Но остановимся здесь и подивимся странностям судьбы человеческой. Тот, кому просвещение наше обязано столь быстрыми успехами, кто подвинул на полвека образованность нашего народа, кто всю жизнь употребил во благо отечества и уже видел плоды своего влияния на всех концах русского царства, человек, которому Россия обязана стольким, – он умер недавно, почти всеми забытый, близ той Москвы, которая была свидетельницею и средоточием его блестящей деятельности. Имя его едва известно теперь большей части наших современников; и если бы Карамзин не говорил о нем[22], то, может быть, многие, читая эту статью, в первый раз услышали бы о делах Новико́ва и его товарищей и усомнились бы в достоверности столь близких к нам событий. Память о нем почти исчезла; участники его трудов разошлись, утонули в темных заботах частной деятельности; многих уже нет, но дело, ими совершенное, осталось: оно живет, оно приносит плоды и ищет благодарности потомства.
Новиков не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению. Прежде него, по свидетельству Карамзина, были в Москве две книжные лавки, продававшие ежегодно на 10 тысяч рублей; через несколько лет их было уже 20, и книг продавалось на 200 тысяч. Кроме того, Новиков завел книжные лавки в других и в самых отдаленных городах России, распускал почти даром те сочинения, которые почитал особенно важными, заставлял переводить книги полезные, повсюду распространял участников своей деятельности, и скоро не только вся Европейская Россия, но и Сибирь начала читать. Тогда отечество наше было, хотя ненадолго, свидетелем события, почти единственного в летописях нашего просвещения: рождение общего мнения[23].
Так действовал типографщик Новиков. Замечательно, что почти в то же время другой типографщик, более славный, более счастливый, типографщик Франклин, действовал почти таким же образом на противоположном конце земного шара, но последствия их деятельности были столь же различны, сколько Россия отлична от Соединенных Штатов.
Может быть, сам Карамзин обязан своею первою образованностью Новикову и его друзьям-единомышленникам. По крайней мере, в их кругу началось первое развитие его блестящих дарований, и он оставил нам трогательное описание своей дружбы с одним из них, с г-м П[24]. Говорить ли о другом товарище Новикова, об этом славном Ленце[25], о надежде и удивлении просвещенной Европы, который у нас, в нищете и крайности, замерз на большой дороге[26]!
Карамзин застал свою публику под влиянием мистицизма, странно перемешанного с мнениями французскими из середины восемнадцатого столетия. Этим двум направлениям надлежало сосредоточиться, и они естественно соединились в том филантропическом образе мыслей, которым дышат все первые сочинения Карамзина. Кажется, он воспитан был для своей публики, и публика для него. Каждое слово его расходилось по всей России, прозу его учили наизусть и восхищались его стихами, несмотря на их непоэтическую отделку, – так согласовался он с умонаклонностью своего времени. Между тем всеобщность его влияния доказывает нам, что уже при первом рождении нашей литературы мы в самой поэзии искали преимущественно философии и за образом мнения забывали образ выражения. До сих пор еще мы не знаем, что такое вымысел и фантазия; какая-то правдивость мечты составляет оригинальность русского воображения, и то, что мы называем чувством, есть высшее, что мы можем постигнуть в произведениях стихотворных.
Направление, данное Карамзиным, еще более открыло нашу словесность влиянию словесности французской. Но именно потому, что мы в литературе искали философии, искали полного выражения человека, образ мыслей Карамзина должен был и пленить нас сначала, и впоследствии сделаться для нас неудовлетворительным. Человек не весь утопает в жизни действительной, особенно среди народа недеятельного. Лучшая сторона нашего бытия, сторона идеальная, мечтательная, та, которую не жизнь нам дает, но мы придаем нашей жизни, которую преимущественно развивает поэзия немецкая, – оставалась у нас еще невыраженною. Французско-карамзинское направление не обнимало ее. Люди, для которых образ мыслей Карамзина был довершением, венцом развития собственного, оставались спокойными; но те, которые начали воспитание мнениями карамзинскими, с развитием жизни увидели неполноту их и чувствовали потребность нового. Старая Россия отдыхала, для молодой нужен был Жуковский.
Идеальность, чистота и глубокость чувств, святость прошедшего, вера в прекрасное, в неизменяемость дружбы, в вечность любви, в достоинство человека и благость Провидения; стремление к неземному; равнодушие ко всему обыкновенному, ко всему, что не душа, что не любовь, – одним словом, вся поэзия жизни, все сердце души, если можно так сказать, явилось нам в одном существе и облеклось в пленительный образ музы Жуковского. В ее задумчивых чертах прочли мы ответ на неясное стремление к лучшему и сказали: «Вот чего не доставало нам!» Еще большею прелестью украсили ее любовь к отечеству, ужас и слава народной войны[27].
Но поэзия Жуковского, хотя совершенно оригинальная в средоточии своего бытия (в любви к прошедшему, которую можно назвать господствующим тоном его лиры)[28], была, однако же, воспитана на песнях Германии. Она передала нам ту идеальность, которая составляет отличительный характер немецкой жизни, поэзии и философии; и таким образом в состав нашей литературы входили две стихии: умонаклонность французская и германская.
Между тем лира Жуковского замолчала. Изредка только отрывистые звуки знакомыми переливами напоминали нам о ее прежних песнях. Но развитие духа народного не могло остановиться. Как мысль зовет звук, так народ ищет поэта. Ему необходим наперсник, который бы сердцем отгадывал его внутреннюю жизнь, а в восторженных песнях вел дневник развитию господствующего направления. Поэт для настоящего – что историк для прошедшего: проводник народного самопознания.
Литература наша, как мы уже сказали, представляла два борющиеся начала, но и филантропизм французский и немецкий идеализм совпадались в одном стремлении: в стремлении к лучшей действительности. Пушкин выразил его сначала под светлою краскою доверчивой надежды, потом под мрачным покровом байроновского негодования к существующему.
Но ни то, ни другое не могло быть продолжительным: это две крайности колебания маятника, ищущего равновесия. Между безотчетностью надежды и байроновским скептицизмом есть середина: это доверенность судьбе и мысль, что залог желанного будущего заключен в действительности настоящего; что в необходимости есть Провидение; что, если прихотливое создание мечты гибнет, как мечта, зато из совокупности существующего должно образоваться лучшее прочное. Оттуда уважение к действительности, составляющее средоточие той степени умственного развития, на которой теперь остановилось просвещение Европы и которая обнаруживается историческим направлением всех отраслей человеческого бытия и духа.
История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого развития – направление историческое обнимает {все}. Политические мнения для приобретения своей достоверности должны обратиться к событиям, следовательно, к истории: так Тьерри, чтобы защитить некоторые положения в парламенте, написал историю Франции[29]. Философия, сомкнувши круг своего развития сознанием торжества ума и бытия, устремила всю деятельность на применение умозрений к действительности, к событиям, к истории природы и человека. Математика остановилась в открытии общих законов и обратилась к частным приложениям, к сведению теории на существенность действительности. Поэзия, выражение всеобщности человеческого духа, должна была также перейти в действительность и сосредоточиться в роде историческом.
Век не мог не иметь влияния и на Пушкина: мы увидим это, говоря о Полтаве. Но обратимся теперь к прошедшему году: теперь, с высоты общей мысли, нам будет легче обнять весь горизонт нашей словесности и указать настоящее место ее частным явлениям.
После всего будем мы говорить об наших журналах и альманахах. О других изданиях временных, хотя и непериодических, упомянем только в отношении к важнейшим сочинениям или в пример и доказательство некоторых оттенков характера нашей литературы; но преимущественно обратимся к тем первоклассным произведениям нашей словесности, которые блеснули на литературном небе прошедшего года так ярко, как близкие кометы, и утвердились на нем так прочно, как неподвижные звезды, чтобы навсегда светить и указывать путь.
Первое, что привлекает здесь наше внимание, это XII том «Истории Российского государства»[30], последний плод трудов великих, последний подвиг жизни полезной, священной для каждого русского. XII том «Истории Российского государства», кажется, еще превзошел прежние силою красноречия, обширностью объема, верностью изображений, ясностью, стройностью картин и этим ровным блеском, этою чистотою, твердостью бриллиантовою карамзинского слога. Вообще достоинство его «Истории» растет вместе с жизнию протекших времен. Чем ближе к настоящему, тем полнее раскрывается перед ним судьба нашего отечества; чем сложнее картина событий, тем она стройнее отражается в зеркале его воображения, в этой чистой совести нашего народа. Не место здесь входить в подробный разбор Карамзина и не по силам нам оценить его достоинство. В молчании почтим память бессмертного и с благоговением принесем дань благодарности и удивления на его свежую могилу.
Но как умолчать о его критиках, делавших столько шуму в нашей литературе? Почти каждое произведение Карамзина было яблоком раздора для нашей полупросвещенной словесности. Это тем удивительнее, что Карамзин ни разу не отвечал ни на одну критику и не оскорбил ни одного самолюбия; что возвышенность и до конца неизменившаяся чистота его души и жизни не оставили никакого оправдания для личной вражды; что, наконец, слава его, казалось, не могла не заглушить внушений низкой зависти. Несмотря на то, сколь немногие из критиков сохранили в глазах публики характер беспристрастия! Но если Карамзин имел врагов, зато истинными друзьями никто не был счастливее Карамзина и никто не имел стольких почитателей, стольких поклонников, стольких горячих защитников своей славы. Оттого первый шаг его в область словесности уже был ознаменован рождением партий. Они разделяли почти всю просвещенную Россию на две неравные стороны, не засыпали в продолжение всей жизни Карамзина и пережили его земное существование. Чем выше звезда, тем гуще толпа родных звезд вокруг нее, тем больше места для темных туч под нею.
Всех критиков «Истории Российского государства» можно разделить на два класса: к первому принадлежат критики, нападающие на частные ошибки, неизбежные в труде столь огромном, столь несоразмерном с силами одного человека. Долго еще не изведать нам вполне бездонного моря народной жизни, затемненного его отдаленностью и мутностью источников! Признательности просвещенных заслуживают люди, посвятившие себя изучению древности, когда с достаточными силами, с простотою, с должным уважением к бессмертному историку они исправляют погрешности, которые естественно должны были вкрасться в его «Историю». Но так ли поступает большая часть наших критиков? В темных подвалах архивских они теряют всякое чувство приличия и выходят оттуда с червями самолюбия и зависти, с пылью мелких придирок и в грязи неуважения к достоинству. Сюда принадлежат некоторые статьи, помещенные в «Московском вестнике» 28 и 29 годов и заслужившие справедливое негодование всех друзей русской истории и покойного историографа[31]. Но все справедливое справедливо только в границах, и те, которые, за помещение сих статей, поставили издателя в один разряд с сочинителем и включили его в число противников Карамзина, столько же не правы, сколько сам издатель, поместивший сии статьи. Если последний нашел в них замечания, казавшиеся ему истинными, то, по моему мнению, он должен был требовать от автора исключения всего неприличного и в случае отказа, совсем не печатать его рецензий, с потерею которых публика потеряла бы весьма немного. Но если г. Погодин поступил иначе, то он заслуживает упрек как журналист, а не как человек и писатель, не имеющий должного уважения к Карамзину. Собственные сочинения г. Погодина служат тому лучшим доказательством.
Второй разряд критиков нападает на систему и план целого, на понятия историографа об истории вообще[32]. Они обвиняют Карамзина в том, что он не обнимает всех сторон и оттенков нашей прошедшей жизни. Но критики не чувствуют, что если упреки их справедливы, то они служат не порицанием, а похвалою «Истории Российского государства» Ибо невозможно обнять народной жизни во всех ее подробностях, покуда частные отрасли ее развития не обработаны в отдельных творениях и не сведены к последним выкладкам. Оттого из стольких историков, признанных за образцовых, критики не назовут нам двух, писавших по одному плану. Напротив того, каждый бытописатель избирал и преследовал преимущественно одну сторону жизни описываемого им государства, оставляя прочие в тени и в отдалении. Если Карамзин, следуя их примеру, ограничился преимущественным изложением политических событий и недосказал многого в других отношениях, то это ограниченье было единственным условием возможности его успеха; и нам кажется весьма странным упрекать Карамзина за неполноту ее картины тогда, когда и с этой неполной картины мы еще до сих пор не можем снять даже легкого очерка, чтобы оценить ее как должно. Пусть люди с талантом пишут другие истории, пусть изберут они средоточием своих изысканий частную жизнь нашего народа, или изменение наших гражданских постановлений, или воспитание нашего просвещения, или ход и успехи торговли, или монеты и медали – труд их может быть полезен, и достижение цели возможно, ибо они пойдут по дороге, уже прочищенной.
Кроме сих двух разрядов есть еще третий род критиков, которым самая ничтожность их дает право на особенный класс: это критики-невежды. Равно бедные познаниями историческими и литературными, лишенные даже поверхностного понятия об общих положениях науки и совершенно бесчувственные к приличиям нравственным, они слабыми руками силятся пошатнуть творение вековое, переворачивают смысл в словах писателя великого, смеют приписывать ему собственное неразумие и хотят учить детским истинам мужа бессмертного, гордость России. Даже достоинство учености думают они отнять у «Истории» Карамзина и утверждают, что она писана для одних светских невежд, они, невежи несветские! Все бесполезно, что они говорят; все ничтожно, все ложь – даже самая истина; и если случайно она вырвется из уст их, то, краснея, спешит снова спрятаться в свой колодезь, чтобы омыться от их осквернительного прикосновения. Я не называю никого: читатель сам легко отличит этот разряд судей непризванных по той печати отвержения, которою украсило их литературное и нравственное невежество, положив клеймо своей таможни на их контрабандное лицо. Оставим их.
Но с удовольствием укажем на критику, в которой дельность и беспристрастие разысканий соединяются с приличностью тона: это статья, напечатанная в 3-м номере «Московского вестника» «О участии Годунова в убиении Димитрия»[33].
Кроме XII тома «Российской истории», в прошедшем году вышло у нас, если верить журналам, еще одно сочинение историческое, замечательное по достоинству литературному, – это «Полтава» Пушкина. В самом деле, из двадцати критик, вышедших на эту поэму, более половины рассуждало о том, действительно ли согласны с историей описанные в ней лица и происшествия[34]. Критики не могли сделать большей похвалы Пушкину.
Мы видели, что одно стремление воплотить поэзию в действительность уже доказывает и большую зрелость мечты поэта, и его сближение с господствующим характером века. Но всегда ли поэт был верен своему направлению? И, переселив воображение в область существенности, нашел ли он в ней полный ответ на все требования поэзии? Или выступал иногда из круга действительности, как бы видя в нем арфу, у которой недостает еще нескольких струн, чтобы выразить все движения души?
Кроме голой существенности и дополнительной думы поэта (которая также существенность), мы еще находим в «Полтаве» иногда думу, противоречащую действительности, иногда порыв чувства, несогласный с тем шекспировским состоянием духа, в котором должен находиться творец, чтобы смотреть на внешний мир как на полное отражение внутреннего. В доказательство укажем на два места «Полтавы»: на софизм о любви стариков и на романическую чувствительность Мазепы, когда он узнает хутор Кочубея[35]. И то, и другое противоречит истине, но и то, и другое делает минутный эффект. Это сцена из Корнеля, вплетенная в трагедию Шекспира.
Такое борение двух начал, мечтательности и существенности, должно необходимо предшествовать их примирению. Это переход с одной степени на другую, и в наше время не один Пушкин может служить примером такого разногласия. Им дышит большая часть трагедий Шиллера, все трагедии Раупаха, Фр. Шлегеля[36], Грильпарцера и почти все произведения новейших немецких писателей; французская мелодрама обязана ему своим происхождением; иногда мы находим его даже у Вальтера Скотта, когда для возбуждения большего любопытства он вводит своих героев в положения неестественные; сам Гете, великий Гете, даже в «Эгмонте» наклонился один раз перед своим веком, олицетворив свободу Фландрии[37].
Но та зрелость таланта, которую доказывает господствующий, хотя и не везде выдержанный характер «Полтавы», заметна также и в отдельных частях сей поэмы. Об ней свидетельствуют и мастерская обработка стихов, и сжатая полнота рассказа, и стройность переходов, особливо в первой песне, и ясная выразительность картин, и даже некоторая небрежность в языке и в описаниях. Вообще если мы будем смотреть на «Полтаву» как на зеркало дарования, то увидим, что она дает нам право на большую надежду в будущем, нежели все прежние поэмы Пушкина. Но зато если мы будем рассматривать ее в отношении к ней самой, то найдем в ней такие несовершенства, которые хотя несколько объясняют нам, почему публика приняла ее не с таким восторгом, какой обыкновенно возбуждают в ней произведения Пушкина. Главное из сих несовершенств есть недостаток единства интереса, единственного из всех единств, которого несоблюдение не прощается законами либеральной пиитики. Если бы поэт сначала возбудил в нас участие любви или ненависти к политическим замыслам Мазепы, тогда и Петр, и Карл, и Полтавская битва были бы для нас развязкою любопытного происшествия. Но посвятив первые две песни преимущественно истории любви Мазепы и Марии, Пушкин окончил свою повесть вместе с концом второй песни, и в отношении к главному интересу поэмы всю третью песнь можно назвать почти лишнею.
По этой ли причине или потому, что словесность наша еще не доросла до господствующего направления «Полтавы», поэма сия не имела видимого влияния на нашу литературу, и ни один из подражателей Пушкина не избрал ее в образцы для своих мозаиков.
Но сколько однолетних литературных цветков вышло в прошедшем году из семян, брошенных Пушкиным на поле нашей словесности еще во время его байроновского направления! Замечательнейший из подражателей Пушкина есть г. Подолинский. Но его поэма, «Борский», по бедности мыслей, по несоответственности языка с чувствами и чувств с предметами и по еще важнейшим несообразностям в плане – замечательна только одною звучностью стихов.
Жуковский напечатал в прошедшем году свое «Море», «Песнь победителей» из Шиллера и связанные отрывки из «Илиады». Здесь в первый раз увидали мы в Гомере такое качество, которого не находили в других переводах: что у других напыщенно и низко, то здесь просто и благородно; что у других бездушно и вяло, здесь сильно, мужественно и трогательно; здесь все тепло, все возвышенно, каждое слово от души; может быть, это-то и ошибка, если прекрасное может быть ошибкою.
«Море» Жуковского живо напоминает всю прежнюю его поэзию: те же звуки, то же чувство, та же особенность, та же прелесть. Кажется, все струны его прежней лиры отозвались здесь в одном душевном звуке. Есть, однако, отличие: что-то больше задумчивое, нежели в прежней его поэзии.
«Торжество победителей» во многих местах превосходит подлинник изящностью отделки и поэтическими оттенками языка. Такова участь большей части переводов Жуковского. Из подражателей Жуковского, писавших в прошедшем году, замечательнейшие И. И. Козлов и Ф. Н. Глинка[38]. Первый издал собрание своих стихотворений.
Любовь к литературе германской, которой мы обязаны Жуковскому, все более и более распространяясь в нашей словесности, была весьма заметна и в произведениях прошедшего года. Между поэтами немецкой школы отличаются имена Шевырева, Хомякова и Тютчева[39]. Последний, однако же, напечатал в прошедшем году только одно стихотворение[40]. Хомяков, которого стихи всегда дышат мыслию и чувством, а иногда блестят доконченностью отделки, отдал на театр своего «Ермака»[41]; но, чтобы судить об этой трагедии, подождем ее явления в большой печатный свет: давно уже сказано, что типографский станок есть единственно верный пробный камень для звонкой монеты стихов. Шевырев помещал в журналах некоторые мелкие стихотворения и кроме того отрывки из перевода «Вильгельма Теля». Имея дарования отличные, обладая редким познанием русского языка, удивительною легкостью в труде и более всего душою пламенною, сосредоточенною в любви к высокому, Шевырев, однако ж, имеет важный недостаток: недостаток отделки, и не только в частях, но и в плане, не только в важных, но даже и в мелких стихотворениях. Часто вмещает он две разнородные господствующие мысли в одну пьесу и тем мешает чувству сосредоточиться. Но это богатство мыслей, часто излишнее (как бы желали мы упрекнуть в этом качестве большую часть наших писателей!), это богатство мыслей, особенно заметное в прозе Шевырева, не есть ли залог его будущих успехов? Теперь он только выступает на поприще, когда же жизнь и опыт положат последний венец вкуса на его счастливые дарования, тогда, конечно, он займет значительное место в нашей литературной аристократии.
Говоря о той части словесности, которая преимущественно обнаруживает влияние немецкое, нельзя не упомянуть об «Ижорском», сочинение неизвестного[42]. Некоторые сцены из этой драматической фантазии были напечатаны в «Северных цветах» прошедшего года и замечательны по редкому у нас соединению глубокости чувства с игривостью воображения. Мы причисляем это произведение к немецкой школе, несмотря на некоторое подражание Шекспиру, потому, что Шекспир здесь более Шекспир тиковский[43], огерманившийся, нежели Шекспир настоящий, Шекспир англичанин. К тому же и дух целого сочинения, сколько можно судить по отрывкам, кажется нам преимущественно немецкий.
Но среди молодых поэтов, напитанных великими писателями Германии, более всех блестел и отличался покойный Д. В. Веневитинов, которого стихотворения вышли в прошедшем году[44]. Его желание исполнилось: прочтя немногое, что осталось нам после него, кто не скажет с чувством восторга и печали:
Как я люблю его созданья!
Он дышит жаром красоты,
В нем ум и сердце согласились,
И мысли полные носились
На легких крылиях мечты.
Как знал он жизнь, как мало жил![45]
Веневитинов создан был действовать сильно на просвещение своего отечества, быть украшением его поэзии и, может быть, создателем его философии. Кто вдумается с любовью в сочинения Веневитинова (ибо одна любовь дает нам полное разумение); кто в этих разорванных отрывках найдет следы общего им происхождения, единство одушевляющего их существа; кто постигнет глубину его мыслей, связанных стройною жизнью души поэтической, – тот узнает философа, проникнутого откровением своего века; тот узнает поэта глубокого, самобытного, которого каждое чувство освещено мыслью, каждая мысль согрета сердцем, которого мечта не украшается искусством, но сама собою родится прекрасная, которого лучшая песнь – есть собственное бытие, свободное развитие его полной, гармонической души. Ибо щедро природа наделила его своими дарами и их разнообразие согласила равновесием. Оттого все прекрасное было ему родное; оттого в познании самого себя находил он разрешение всех тайн искусства, и в собственной душе прочел начертание высших законов, и созерцал красоту создания. Оттого природа была ему доступною для ума и для сердца, он мог
В ее таинственную грудь,
Как в сердце друга, заглянуть[46].
Созвучие ума и сердца было отличительным характером его духа, и самая фантазия его была более музыкою мыслей и чувств, нежели игрою воображения. Это доказывает, что он был рожден еще более для философии, нежели для поэзии[47]. Прозаические сочинения его, которые печатаются и скоро выйдут в свет, еще подтвердят все сказанное нами[48].
Но что должен был совершить Веневитинов, чему помешала его ранняя кончина, то совершится само собою, хотя, может быть, уже не так скоро, не так полно, не так прекрасно. Нам необходима философия: все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия, она одна может дать душу и целость нашим младенствующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, заимеет от нее изящество стройности. Но откуда придет она? Где искать ее?
Конечно, первый шаг наш к ней должен быть присвоением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все другие народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного быта. Когда? И как? – скажет время, но стремление к философии немецкой, которое начинает у нас распространяться, есть уже важный шаг к этой цели.
Чтобы еще более убедиться в пользе влияния немецких мыслителей, взглянем на многочисленную толпу тех из наших писателей, которые, не отличаясь личным дарованием, тем яснее показывают достоинство приобретенного ими чужого. Здесь господствуют два рода литераторов: одни следуют направлению французскому, другие немецкому. Что встречаем мы в сочинениях первых? Мыслей мы не встречаем у них, ибо мысли собственно французские уже стары, следуют не мысли, а общие места: сами французы заимствуют их у немцев и англичан[49]. Но мы находим у них игру слов редко, весьма редко, и то случайно соединенную с остроумием, и шутки, почти всегда лишенные вкуса, часто лишенные всякого смысла. И может ли быть иначе? Остроумие и вкус воспитываются только в кругу лучшего общества, a многие ли из наших писателей имеют счастие принадлежать к нему?
Напротив того, в произведениях писателей, которые напитаны чтением немецких умствователей, почти всегда найдем мы что-нибудь достойное уважения, хотя тень мысли, хотя стремление к этой тени.
Но я говорю о писателях без дарований: талант равно блестит везде; он, как красота, дает прелесть всем движениям; как чувство, дает душу всем словам; как ум, дает уместностью цену всем мыслям. Князь Вяземский может быть тому прекрасным доказательством. Следуя преимущественно направлению французскому, он умеет острые стрелы насмешки закалять в оригинальных мыслях и согревать чувством всегда умную, всегда счастливую, блестящую игру ума. Но и князь Вяземский, несмотря на все свои дарования, несмотря на то, что мы можем назвать его остроумнейшим из наших писателей, еще выше там, где, как в «Унынии», голос сердца слышнее ума.
Многие утверждают, что французское направление господствует также и в произведениях Баратынского[50], но, по нашему мнению, он столько же принадлежит к школе французской, сколько Ламартин[51], сколько сочинитель Сен-Марса[52], сочинитель Заговора Малета[53], сколько наш Пушкин и все те писатели, которые, начав свое развитие мнениями французскими, довершили его направлением европейским, сохранив французского одну доконченность внешней отделки.
Поэзия собственно французская, как утреннее солнце, золотит одни вершины. Только те минуты жизни, которые выдаются из жизни вседневной, которые и толпа разделяет с поэтом, имеют право входить в заколдованный круг их мечтаний, и, может быть, один Шенье делает исключение, если можно направление Шенье назвать французским. Но муза Баратынского, обняв всю жизнь поэтическим взором, льет равный свет вдохновения на все ее минуты и самое обыкновенное возводит в поэзию посредством осветительного прикосновения с целою жизнью, с господствующею мечтою. Оттого, чтобы дослышать все оттенки лиры Баратынского, надобно иметь и тоньше слух, и больше внимания, нежели для других поэтов. Чем более читаем его, тем более открываем в нем нового, не замеченного с первого взгляда, – верный признак поэзии, сомкнутой в собственном бытии, но доступной не для всякого. Даже в художественном отношении многие ли способны оценить вполне достоинство его стихов, эту точность в выражениях и оборотах, эту мерность изящную, эту благородную щеголеватость? Но если бы идеал лучшего общества явился вдруг в какой-нибудь неизвестной нам столице, то в его избранном кругу не знали бы другого языка.
Между тем красота жизни поэтической, с лица которой муза Баратынского сняла покрывало до половины, доказывает нам, что поэт еще не весь выразился в стихах своих; что мы должны ожидать еще несравненно более того, что он совершил; что ему еще предназначено столько превзойти наши ожидания, сколько разоблачение красоты может удивить воображение.
Но в его «Бальном вечере»[54], напечатанном в прошедшем году, есть недостаток, которого нет в его «Эдде», ни в «Переселении душ», в этом милом, остроумно-мечтательном капризе поэтического воображения, в «Бальном вечере» Баратынского, нет средоточия для чувства и (если можно о поэзии говорить языком механики) в нем нет одной составной силы, в которой бы соединились и уравновесились все душевные движения. Несмотря на то, однако же, эта поэма превосходит все прежние сочинения Баратынского изящностью частей, наружною связью целого и совершенством отделки. В самом деле, кто, прочтя ее, не скажет, что поэт сделал успехи; что самые недостатки его доказывают, что он требовал от себя больше, чем прежде; что смещение тени и света здесь не сумерки, а рассвет, заря новой эпохи для его таланта; одним словом, что на его «Бальном вечере», как и на других бальных вечерах непоэтических, сквозь тонкий, прозрачный занавес виден утренний свет наступающего дня?
Барон Дельвиг издал собрание своих стихотворений[55]. Так же, как Баратынский, он не принадлежит ни к одной из новейших школ, и даже подражания его древним носят печать оригинальности.
Всякое подражание по системе должно быть холодно и бездушно. Только подражание из любви может быть поэтическим и даже творческим. Но в последнем случае можем ли мы совершенно забыть самих себя? И не оттого ли мы и любим образец наш, что находим в нем черты, соответствующие требованиям нашего духа? Вот отчего новейшие всегда остаются новейшими во всех удачных подражаниях древним[56]; скажу более: нет ни одного истинно изящного перевода древних классиков, где бы ни легли следы такого состояния души, которого не знали наши праотцы по уму. Чувство религиозное, коим мы обязаны христианству; романическая любовь – подарок арабов и варваров; уныние – дитя Севера и зависимости; всякого рода фанатизм – необходимый плод борьбы вековых неустройств Европы с порывами к улучшению; наконец, перевес мысленности над чувствами и оттуда стремление к единству и сосредоточенью – вот новые струны, которые жизнь новейших народов натянула на сердце человека. Напрасно думает он заглушить их стон, ударяя в лиру Греции: они невольно отзываются на его песню, и, вместо простого звука, является аккорд.
Таковы подражания Дельвига. Его муза была в Греции; она воспиталась под теплым небом Аттики; она наслушалась там простых и полных, естественных, светлых и правильных звуков лиры греческой; но ее нежная краса не вынесла бы холода мрачного Севера, если бы поэт не прикрыл ее нашею народною одеждою; если бы на ее классические формы он не набросил душегрейку новейшего уныния[57], – и не к лицу ли гречанке наш северный наряд?
То же господствующее чувство заметно и в других произведениях Дельвига, и то же качество, которое дает отлив новейшего его подражаниям древним, было причиною, что поэт выше всего является в своих русских песнях.
Но говоря о писателях образцовых, коих имена блестели в литературе прошедшего года, можно ли не упомянуть об одной из лучших надежд наших? Немногие получили в удел такую силу и мужество, коими красуются произведения Языкова. Каждый стих его живет огнем, как саламандра.
Если мы будем рассматривать литературу нашу в отношении к другим европейским, то найдем в ней соединенное влияние почти всех словесностей. Мы сказали уже, что направление немецкое и французское у нас господствующее. Влияние поэзии английской, особенно байроновской и оссиановской[58], заметно в произведениях многих из наших литераторов. Подражания древним, хотя немногочисленные, не могли не иметь влияния на общий характер нашей литературы. Словесность итальянская, отражаясь в произведениях Нелединского и Батюшкова, также бросила свою краску на многоцветную радугу нашей поэзии. Все это живет вместе, мешается, роднится, ссорится и обещает литературе нашей характер многосторонний, когда добрый гений спасет ее от бесхарактерности.
Но влияние итальянское, или, лучше сказать, батюшковское, заметно у немногих из наших стихотворцев. Туманский отличается между ними нежностью чувства и музыкальностью стихов. В прошедшем году он печатал немного. К той же школе принадлежат г-да Раич и Ознобишин.
Пределы этой статьи не позволяют нам распространяться обо всех замечательных произведениях прошедшего года. Упомянем о некоторых. Василий Львович Пушкин напечатал три главы из своей романтической поэмы «Храбров», где муза его не изменила своей обыкновенной любезности. Г-жа Лисицына издала собрание своих стихотворений, где чувство и простота выражений ручаются за неподложность таланта. Барон Розен издал «Деву семи ангелов».
Кроме того здесь и там мелькают имена господ Илличевского, Корсака, Трилунного, Павлова, Григорьева, Вельтмана, Вердеревского, Лихонина, Михаила Дмитриева, Маркевича, Крюкова, Сиянова, Краинского, Якубовича, Степанова[59], Левшина, Каховского, Петрова[60], Тростина, Олина, Межакова, Масальского, Зайцевского, Каркунова, Багяилова и других. Но что сказать об этих писателях? Многие из них знакомы уже нашей публике, другие вышли еще с белыми щитами на опасное поприще стихотворной деятельности. Во многих, может быть, таится талант и для развития силы ищет только времени, случая и труда – по крайней мере будем хранить уважение к надежде подле любви к воспоминанию.
Драматическая литература наша – но можно ли назвать литературою сбор наших драматических произведений? В этой отрасли словесности мы беднее всего. Трагедии в прошедшем году не вышло ни одной. Из комедий ни одна не превышает посредственного. Замечательнее других – «Светский случай» г-на Хмельницкого, его же отрывки из «Арзамасских гусей»[61], отрывки из «Колумба», недоконченной комедии покойного А. И. Писарева[62], и «Дворянские выборы», сочинение неизвестного[63].
Вообще наш театр представляет странное противоречие с самим собою: почти весь репертуар наших комедий состоит из подражаний французам, и, несмотря на то, именно те качества, которые отличают комедию французскую от всех других, – вкус, приличность, остроумие, чистота языка и все, что принадлежит к необходимостям хорошего общества, – все это совершенно чуждо нашему театру. Наша сцена, вместо того чтобы быть зеркалом нашей жизни, служит увеличительным зеркалом для одних лакейских наших, далее которых не проникает наша комическая муза. В лакейской она дома, там ее и гостиная, и кабинет, и зала, и уборная; там проводит она весь день, когда не ездит на запятках делать визиты музам соседних государств, и, чтобы русскую Талию изобразить похоже, надобно представить ее в ливрее и в сапогах.
Таков общий характер наших оригинальных комедий, еще не измененный немногими редкими исключениями. Причина этого характера заключается отчасти в том, что от Фонвизина до Грибоедова мы не имели ни одного комического таланта, а известно, что необыкновенный человек, как и необыкновенная мысль, всегда дают одностороннее направление уму, что перевес силы уравновешивается только другою силою, что вред гения исправляется явлением другого, противодействующего.
Между тем можно бы заметить нашим комическим писателям, что они поступают нерасчетливо, избирая такое направление. За простым народом им не угнаться, и как ни низок язык их, как ни богаты неприличностями их удалые шутки, как ни грубы их фарсы, которым хохочет раек, но они никогда не достигнут до своего настоящего идеала, и все комедии их – любой извозчик убьет одним словом.
Почти на каждом из наших писателей заметно влияние, более или менее смешанное, какой-нибудь из иностранных литератур или которого-нибудь из наших первоклассных писателей. Есть, однако же, у нас особенная школа, оригинальная, самобытная, имеющая свои качества, свое направление, своих многочисленных приверженцев, совершенно отличная от всех других, хотя многие из наших писателей заимствуют у нее красоты свои. Школа сия началась вместе с веком, и основателем ее был граф Дмитрий Иванович Хвостов[64], а последователи его гг. Борис Федоров, Телепнев, Свечин, Волков, Бестужев-Рюмин, А. Орлов и другие. Почти все сии писатели суть поэты эпические, и почти каждый из них создал особенную поэму в классическом духе, и только немногие, например г. Рюмин, позволяют себе вступать в область романтики, но г. Федоров делает исключение из всех: более других приближаясь к основателю школы, он писал почти во всех родах.
Этою школою мы заключим обозрение оригинальных произведений наших стихотворцев. Переводами прошедший год был богаче всех предшествовавших. Назовем замечательнейшие. Г-н Ротчев перевел «Вильгельма Теля» и «Мессинскую невесту» Шиллера и печатал некоторые отрывки из «Макбета» Шекспирова. Стих г. Ротчева силен и звучен, но он иногда темен, часто неверен подлиннику и редко передает все оттенки оригинала. Г-н Шевырев напечатал одно действие «Вильгельма Теля». Его перевод ближе к подлиннику и изящнее перевода г-на Ротчева. Г-н Вронченко перевел «Гамлета», отрывки из «Дзядов» Мицкевича, отрывки из Юнга и несколько «Ирландских мелодий» Мура. Вообще переводы его весьма близки и язык правилен, хотя не довольно изящен и тяжел в оборотах. Г-н Познанский перевел «Альпугару» из Мицкевича, она принадлежит еще не к лучшим произведениям г-на Познанского, который вообще отличается верным чувством поэтических красот подлинника, изящною простотою языка и точностью выражений.
Кроме того переводили и печатали отрывки в разных журналах и альманахах: из «Ромео и Юлии» Шекспира г…[65], из «Дон-Карлоса» Шиллерова и «Ифигении» Гете г. Лихонин, из «Дон-Карлоса» же г. Колачевский и г. Ободовский, из Байронова «Дон-Жуана» и «Паризины», из Парни и Мура г. Маркевич, «Паризину» перевел также г. Карцев, г. Щастный перевел «Фариса» Мицкевича, «Лару» Байрона перевел г. Носков. Г-н Трилунный переводил из «Гяура» Байрона и несколько сцен из Мольерова «Амфитриона». Г-н Козлов перевел «Крымские сонеты» Мицкевича. Его же «Субботний вечер», подражание Борнсу[66], замечателен по приложенным в начале стихам на смерть А. А. Воейковой, где видно трогательное чувство души, умеющей любить прекрасное.
Сии переводы, хотя весьма различного достоинства, все, однако же, доказывают успехи нашего просвещения и усовершенствование нашего языка. Двадцать лет назад каждый из них возбудил бы особенное внимание. Заметим, что шесть иностранных поэтов разделяют преимущественно любовь наших литераторов: Гете, Шиллер, Шекспир, Байрон, Мур и Мицкевич. Добрый знак для будущего! Знакомством с Гете, Шиллером и Шекспиром обязаны мы распространившемуся влиянию словесности немецкой и Жуковскому; знакомством с Байроном обязаны мы Пушкину; любовь к Муру принадлежит к тем же странностям нашего литературного вкуса, которые прежде были причиною безусловного обожания Ламартина. С Мицкевичем прежде всех познакомил нас князь Вяземский[67]: это счастливое начало дружественного сближения двух родных словесностей, которые до сих пор чуждались друг друга.
Польская литература, так же, как русская, до сих пор была не только отражением литературы французско-немецкой, но и существовала единственно силою чуждого влияния. Как могла она действовать на Россию? Чтобы обе словесности вступили в сношения непосредственные и заключили союз прочный, нужно было хотя одной из них иметь своего уполномоченного на сейме первоклассных правителей европейских умов, ибо одно господствующее в Европе может иметь влияние на подвластные ей литературы. Мицкевич, сосредоточив в себе дух своего народа, первый дал польской поэзии право иметь свой голос среди умственных депутатов Европы и вместе с тем дал ей возможность действовать и на нашу поэзию[68].
Более или менее сложное влияние сих шести чужеземных поэтов, соединенное с влиянием нашей собственной литературы, образует теперь общий характер всех первоклассных стихотворцев наших и, следовательно, характер нашей текущей словесности вообще. Но прежде нежели мы получим право говорить о сем общем характере, должны мы докончить картину литературы прошедшего года обозрением прозаических сочинений и журналов.
Мы не будем здесь говорить ни об «Истории четырех ханов», ни об «Описании Пекина», изданных отцом Иакинфом[69], ни о картине войны с Турцией, сочиненной г-м Бутурлиным[70], ни о других более или менее замечательных произведениях, не входящих в область чистой литературы. Но заметим, что прошедший год был особенно богат произведениями в роде повествовательном. Назовем лучшие: «Мешок с золотом» г-на Полевого[71]; «Черная курица», сказка для детей г-на Погорельского; «Черная немочь» г-на Погодина[72]; «Уединенный домик на Васильевском острове» Тита Космократова; «Русалка» г-на Байского и другие. «Черный год, или Горские князья» имеет все те же качества, какая публика находила в прежних романах покойного г. Нарежного[73]: возможность таланта, которому для перехода в действительность еще недоставало большей образованности и вкуса.
Менее таланта, но более литературной опытности, язык более гладкий, хотя бесцветный и вялый находим мы в «Выжигине», нравственно-сатирическом романе г-на Булгарина[74]. Пустота, безвкусие, бездушность, нравственные сентенции, выбранные из детских прописей, неверность описаний, приторность шуток – вот качества сего сочинения, качества, которые составляют его достоинство, ибо они делают его по плечу простому народу и той части нашей публики, которая от азбуки и катехизиса приступает к повестям и путешествиям. Что есть люди, которые читают «Выжигина» с удовольствием и, следовательно, с пользою, это доказывается тем, что «Выжигин» расходится. Но где же эти люди? – спросят меня. Мы не видим их точно так же, как и тех, которые наслаждаются «Сонником» и книгою «О клопах»[75], но они есть, ибо и «Сонник», и «Выжигин», и «О клопах» раскупаются во всех лавках.
Замечательно, что в прошедшем году вышло около 100 000 экземпляров «Азбуки русской», около 60 000 «Азбуки славянской», 60 000 экземпляров «Катехизиса», около 15 000 «Азбуки французской», и вообще учебные книги расходились в этом году почти целою третью более, нежели в прежнем. Вот что нам нужно, чего недостает нам, чего по справедливости требует публика.
Из переводных книг назовем две: «Вертера», сочинение Гете, перевод г-на Р.[76], и «Историю литературы» Фр. Шлегеля, перевод неизвестного[77]. Первый можно назвать самым близким, самым изящным из всех прозаических переводов, вышедших у нас в последнее двадцатилетие.
Странная неприличность полемики составляла отличительный характер наших журналов прошедшего года. Мы надеемся, однако, что это скоро утомит нашу публику и что она скоро захочет видеть в наших литераторах кое-что кроме двуногих животных с перьями.
Обозрение особенных качеств каждого из наших журналов не входит в план этой статьи. Заметим однако, что «Телеграф»[78] был богаче других хорошими, дельными статьями и более других передавал нам любопытного из журналов иностранных, «Северная пчела»[79] была свежее других политическими новостями, «Атеней»[80] менее других участвовал в неприличных полемиках, «Славянин»[81] неприличность брани усилил до поэзии.
Заметим еще одно качество, общее почти всем журналам нашим, – странный слог, которым пишутся многие оригинальные и большая часть переводных статей, слог неточный, шершавый и часто хуже того, которым писали у нас прежде Карамзина и Дмитриева[82]. Может быть, это одна из главных причин, почему люди со вкусом почти не читают наших журналов, ибо для образованного слуха нет ничего тяжелее фальшивых тонов.
«Северные цветы» были без сравнения лучшим из всех альманахов. В «Невском альманахе» заметим прозаическую статью «Ливония», сочинение неизвестного[83], – если бы наше обозрение было писано тем же пером, которое начертало «Ливонию», то мы печатали бы его без боязни неуспеха.
Другие альманахи – но что пользы нам знать, что те или другие статьи печатались в том, а не в другом периодическом издании? Объяснит ли это сколько-нибудь характер нашей литературы?
До сих пор рассматривали мы словесность нашу в отношении к ней самой и потому с любопытством останавливались на каждом произведении, которое открывает нам новую сторону нашего литературного характера или подает новую надежду в будущем. Здесь все казалось нам важным, все достойным внимания, как семена, из коих со временем созреет плод.
Но если мы будем рассматривать нашу словесность в отношении к словесностям других государств, если просвещенный европеец, развернув перед нами все умственные сокровища своей страны, спросит нас: «Где литература ваша? Какими произведениями можете вы гордиться перед Европою?» – Что будем отвечать ему?[84]
Мы укажем ему на «Историю Российского государства», мы представим ему несколько од Державина, несколько стихотворений Жуковского и Пушкина, несколько басен Крылова, несколько сцен из Фонвизина и Грибоедова, и – где еще найдем мы произведение достоинства европейского?
Будем беспристрастны и сознаемся, что у нас еще нет полного отражения умственной жизни народа, у нас еще нет литературы. Но утешимся: у нас есть благо, залог всех других, у нас есть надежда и мысль о великом назначении нашего отечества!
Венец просвещения европейского служил колыбелью для нашей образованности, она рождалась, когда другие государства уже доканчивали круг своего умственного развития, и где они остановились, там мы начинаем. Как младшая сестра в большой, дружной семье, Россия прежде вступления в свет богата опытностью старших.
Взгляните теперь на все европейские народы: каждый из них уже совершил свое назначение, каждый выразил свой характер, пережил особенность своего направления, и уже ни один не живет отдельною жизнью: жизнь целой Европы поглотила самостоятельность всех частных государств.
Но для того чтобы целое Европы образовалось в стройное, органическое тело, нужно ей особенное средоточие, нужен народ, который бы господствовал над другими своим политическим и умственным перевесом. Вся история новейшего просвещения представляет необходимость такого господства: всегда одно государство было, так сказать, столицею других, было сердцем, из которого выходит и куда возвращается вся кровь, все жизненные силы просвещенных народов.
Италия, Испания, Германия (во время Реформации), Англия и Франция попеременно управляли судьбою европейской образованности. Развитие внутренней силы было причиною такого господства, а упадок силы причиною его упадка.
Англия и Германия находятся теперь на вершине европейского просвещения, но влияние их не может быть живительное, ибо их внутренняя жизнь уже окончила свое развитие, состарилась и получила ту односторонность зрелости, которая делает их образованность исключительно им одним приличною.
Вот отчего Европа представляет теперь вид какого-то оцепенения; политическое и нравственное усовершения равно остановились в ней; запоздалые мнения, обветшалые формы, как запруженная река, плодоносную страну превратили в болота, где цветут одни незабудки да изредка блестит холодный блуждающий огонек.
Изо всего просвещенного человечества два народа не участвуют во всеобщем усыплении, два народа, молодые, свежие, цветут надеждою: это Соединенные Американские Штаты и наше отечество.
Но отдаленность местная и политическая, а более всего односторонность английской образованности Соединенных Штатов – всю надежду Европы переносят на Россию.
Совместное действие важнейших государств Европы участвовало в образовании начала нашего просвещения, приготовило ему характер общеевропейский и вместе дало возможность будущего влияния на всю Европу.
К той же цели ведут нас гибкость и переимчивость характера нашего народа, его политические интересы и самое географическое положение нашей земли.
Судьба каждого из государств европейских зависит от совокупности всех других – судьба России зависит от одной России.
Но судьба России заключается в ее просвещении: оно есть условие и источник всех благ. Когда же эти все блага будут нашими – мы ими поделимся с остальною Европою и весь долг наш заплатим ей сторицею.
21
Цензурный устав 1828 г., сравнительно с уставом 1826 (чугунным), был менее жестким. Этим уставом не допускалось предвзятое отношение цензора к литературному произведению, произвольное толкование его в неблагоприятном для автора смысле, придирки к словам и выражениям. Вместе с тем по-прежнему запрещались суждения о современной деятельности правительства. – Сост.
22
О деятельности Н. И. Новикова Н. М. Карамзин писал в статье «О книжной торговле и любви ко чтению в России». – Сост.
23
Речь идет об общественном мнении, которое И. В. Киреевский считал важнейшим показателем образованности нации, залогом правильного развития личности. – Сост.
24
См.: Сочинения Карамзина, статью «Цветок на гроб моего Агатона». – И. К.
Речь идет об Александре Алексеевиче Петрове. – Сост.
25
Я. М. Ленц с 1781 г. жил в России и участвовал в кружке Н. И. Новикова. – Сост.
26
О сочинениях Ленца смотри прекрасную статью Экштейна в его журнале «le Catholique» 1829 года. – И. К.
Статья французского журналиста Ф. Экштейна была написана по поводу изданных в Берлине (1828) сочинений Я. Ленца. – Сост.
27
На события Отечественной воны 1812 г. В. А. Жуковский откликнулся в стихотворениях «Певец во стане русских воинов», «Вождю победителей» – Сост.
28
Автор оттого не распространяется здесь о характере произведений Жуковского, что в этом же альманахе предполагал он напечатать особенный разбор его стихотворений, который, однако ж, по некоторым причинам остался неоконченным. – И. К.
И. В. Киреевский предполагал поместить в «Деннице. Альманахе на 1830 год» статью о В. А. Жуковском. Была ли она написана – неизвестно. – Сост.
29
Книга О. Тьерри «Письма об истории Франции» вышла в 1827 г. – Сост.
30
И. В. Киреевский имеет в виду «Историю государства Российского». Последний 12-й т. вышел в 1829 г., после смерти Н. М. Карамзина. – Сост.
31
В «Московском вестнике», издателем которого был М. П. Погодин, появились статьи Н. Арцыбашева и П. Строева (1818. Ч. 11, 12. 1829. Ч. 3), неуважительные по тону и содержащие не всегда обоснованные упреки, а то и просто придирки в адрес «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Сам Погодин отчасти поддерживал выступления Арцыбашева и Строева, хотя и не был вполне согласен с их мнениями (Московский вестник. 1828. Ч. 12. № 23–24. С. 378–389). Впоследствии П. Строев иначе оценил труд Карамзина и издал обстоятельное справочное пособие «Ключ к “Истории государства Российского” Н. М. Карамзина» (1835). – Сост.
32
Исторические взгляды Н. М. Карамзина и сам принцип летописного построения «Истории государства Российского» подверг критике, в частности Н. А. Полевой (Московский телеграф. 1829. № 12). См. также: Полевой Н. А. История русского народа. М., 1829. Т. 1. Предисловие. – Сост.
33
В статье М. П. Погодина «Об участии Годунова в убиении царевича Димитрия» (Московский вестник. 1829. Ч. 3) содержалась полемика с некоторыми мнениями Карамзина: в частности, ставилась под сомнение виновность Бориса Годунова в убийстве и все его царствование расценивалось как блестящая эпоха в русской истории. – Сост.
34
В споре об исторической достоверности изображенных в «Полтаве» лиц и событий участвовали Ф. Булгарин (Сын Отечества. 1829. № 15–16), Н. Надеждин (Вестник Европы. 1829. № 8–9), находившие в поэме ряд погрешностей. Им возражали М. Максимович (Атеней. 1829. № 12) и автор «Разбора “Полтавы”» (Сын Отечества. 1829. № 15) и «Северного архива» (Галатея. 1829. № 17). На эту полемику откликнулся А. Пушкин (Денница на 1831 год). – Сост.
35
Подразумеваются стихи из первой песни «Полтавы»:
Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет. <…>
Но поздний жар уже не стынет
И с жизнью лишь его покинет.
И стихи из третьей песни:
Обозревая зорким взглядом
Степей широкий полукруг <…>
И сад, откуда ночью темной
Ты вышел в степь…
Узнал, узнал!
На высказанное в статье замечание И. В. Киреевского, что эти места поэмы противоречат истине, А. С. Пушкин ответил в «Деннице на 1831 год». – Сост.
36
Недостатки трагедий Ф. Шлегеля имеют еще другой главнейший источник: неравновесие гениальности с системою. – И. К.
37
Имеется в виду финал трагедии Гёте «Эгмонт», когда приговоренному к смерти главному герою является видение, олицетворяющее Свободу Фландрии. В этом видении Эгмонт узнает черты своей возлюбленной Клерхен. В подобных образах И. В. Киреевский видел чуждое художественной правде смешение мечтательности и существенности. – Сост.
38
Некоторые мотивы поэзии И. И. Козлова позволяют говорить о близости его к особенностям стиха В. А. Жуковскому.
Гражданские мотивы в творчестве Ф. Н. Глинки все более вытеснялись религиозно-медитативной лирикой, что также сближало его с В. А. Жуковским. – Сост.
39
Против отнесения Ф. И. Тютчева к поэтам немецкой школы возражал критик журнала «Галатея» (1830. № 6. С. 331), во многом выражавший мнение С. Е. Раича. – Сост.
40
Вероятно, имеется в виду стихотворение Ф. И. Тютчева «На камень жизни роковой…» (Атеней. 1829. Кн. 1). – Сост.
41
Трагедия А. С. Хомякова «Ермак» была представлена в Малом театре (Санкт-Петербург) в августе 1829 г. Отдельное ее издание вышло в 1832 г. – Сост.
42
Мистерию «Ижорский» написал находящийся тогда в ссылке поэт-декабрист В. К. Кюхельбекер. – Сост.
43
Т. е. написанный в духе немецкого писателя-романтика Людвига Тика. – Сост.
44
Сочинения Д. В. Веневитинова. М., 1829. Ч. 1. Стихотворения. – Сост.
45
Последние стихи покойного Д. В. Веневитинова. – И. К.
Цитата из стихотворения Веневитинова «Поэт и друг». – Сост.
46
И. В. Киреевский цитирует «Монолог Фауста», представляющий собой отрывок из предпринятого Д. В. Веневитиновым перевода «Фауста» Гёте. – Сост.
47
Немногие прозаические труды Д. В. Веневитинова свидетельствуют о больших возможностях его как оригинального мыслителя. В статье «О состоянии просвещения в России» и в речи «Что написано пером, того не вырубить топором», произнесенной в кружке любомудров (1824), Веневитинов обосновывал необходимость создания самобытной русской философии, которая поможет просвещению «развить свои силы и образовать систему мышления». – Сост.
48
Сочинения Д. В. Веневитинова. М., 1831. Ч. 2. Проза. – Сост.
49
Что французская литература девятнадцатого века, утратив свою прежнюю самобытность, живет единственно чужим вдохновением, о том свидетельствуют все ее лучшие произведения. Но еще новым подтверждением сей истины может служить славный триумвират законодателей французского мышления в наше время. Есть ли хотя одна плодоносная мысль в лекциях Cousin, которую бы он не занял у немцев? Не англичанам ли и немцам принадлежат все основные положения Villemain, столь блестящего в своих применениях, столь искусно умеющего скрыть строгую стройность системы под наружным беспорядком отдельных замечаний? Литературно-критические сочинения Гизо обнаруживают еще непримиримую борьбу нового германского учения с прежними мнениями французов, но исторические его лекции дышат системою связною, полною, глубокою и занятою совершенно у новейших немецких философов, хотя новое развитие сей системы, ее полнейшее и часто гениальное применение к жизни средних веков делают Гизо одним из оригинальнейших французских мыслителей. Есть, однако, в литературе французской такое качество, которое отличает ее от всех других, обещает много для будущего и самим подражанием дает цвет оригинальности: это тесная связь литературы с жизнью, но именно этого-то качества не могут перенять наши русские подражатели. – И. К.
В. Кузен (Cousin) испытал значительное философское воздействие Ф. Якоби, Шеллинга и особенно Гегеля.
Что касается Гизо, то, вероятно, И. В. Киреевский имеет в виду его книгу: «Vie des poètes francaois du siècle de Louis XIV» («Жизнь французских поэтов века Людовика XIV». 1813). – Сост.
50
О близости Баратынского французскому направлению писал, в частности, А. Дельвиг: «Баратынский недавно познакомился с романтиками, а правила французской школы всосал с материнским молоком». – Сост.
51
Говоря о принадлежности Ламартина (как и Баратынского и др.) к французской школе, И. В. Киреевский имеет в виду, что он, как и другие поэты-романтики, начали следовать эстетическим принципам классической французской поэзии. – Сост.
52
Автором романа «Сен Мар» был французский писатель А. В. де Виньи. – Сост.
53
Пьеса «Заговор Мале» входила в книгу Фонжере (общий псевдоним французских литераторов О. Каве и А. Дитмера) «Вечера в Нейи» (1828). – Сост.
54
Поэма Е. Баратынского «Бал» (1825–1828). – Сост.
55
Стихотворения барона Дельвига. СПб., 1829. – Сост.
56
Великий Гете представляет тому убедительный пример. Все, что есть прекрасного в его пленительной «Ифигении», эти поэтические переливы сердечных оттенков, выраженные душевно-музыкальными стихами, принадлежат исключительно поэзии новейшей. И чем обязана «Ифигения» систематическому усилию подражания? Неподвижностью действия и безличностью характеров, которые делают ее неспособною к театральному представлению и совершенно несносною в немного посредственном переводе. То же можно сказать и о шиллеровой «Мессинской невесте». – И. К.
Трагедия Гёте называется «Ифигения в Тавриде» (1787). – Сост.
57
Это выражение вызвало насмешки критиков (Полевой К. Взгляд на два Обозрения русской словесности 1829 года, помещенные в «Деннице» и «Северных цветах» // Московский телеграф. 1830. № 2). Вообще И. В. Киреевский старался избегать подобных стилистических фраз. Впоследствии В. И. Ламанский даже находил, что Киреевский обладал «необыкновенным, почти платоновским изяществом изложения. По языку он писатель классический». – Сост.
58
Оссиан – легендарный герой кельтского эпоса. Под его именем известен большой цикл поэтических произведений, так называемых «поэм Оссиана». В их сумрочно-мистическом духе в европейской литературе создавалось множество произведений, наиболее известные – поэмы Д. Макферсона «Фингал» и «Темора», выпущенные под именем Оссиана. Первый русский перевод «поэм Оссиана» был сделан в 1792 г. Е. Т. Костровым. Оссиановские мотивы и образы широко вошли в русскую поэзию (Жуковский, Пушкин и др.). – Сост.
59
Возможно, имеется в виду В. А. Степанов, сотрудник альманаха «Цефей» (1829). – Сост.
60
Возможно, имеется в виду И. М. Петров. – Сост.
61
Принадлежащие Н. И. Хмельницкому комедия в стихах «Светский случай» и отрывки из комедии «Арзамасские гуси» были опубликованы в альманахе «Букет Карманная книжка для любителей и любительниц театра на 1829 год» (1829) – Сост.
62
Первое действие исторической комедии А. И. Писарева «Христофор Колумб» было опубликовано в «Московском вестнике» (1829. Ч. 1). – Сост.
63
Автор комедии «Дворянские выборы» – Г. Ф. Квитка-Основьяненко. – Сост.
64
Д. И. Хвостов, не имея литературного дарования, писал очень много, эпигонски следуя классическим образам, и снискал себе репутацию писателя-графомана. Был неизменной мишенью насмешек и эпиграмм многих литераторов. И. В. Киреевский говорит о школе Хвостова, подразумевая посредственных писателей-эпигонов. – Сост.
65
В «Северных цветах на 1829 год» была напечатана «Сцена из трагедии Шекспира “Ромео и Юлия”», переводчиком которой был П. А. Плетнев. – Сост.
66
Книга И. Козлова называлась «Сельский субботний вечер в Шотландии. Вольное подражание Р. Борнсу И. Козлова» (СПб., 1829). – Сост.
67
И. В. Киреевский, вероятно, имеет в виду подборку прозаических переводов произведений А. Мицкевича («Крымские сонеты» и др.), сделанных П. А. Вяземским и опубликованных в «Московском телеграфе» (1827. № 7). Однако переводы произведений Мицкевича появились и раньше: прозаические переводы баллад «Свитезь» (Новости литературы. 1825. Сентябрь), «Свитезянка» (Сириус. Собрание сочинений и переводов в стихах и прозе, изданное М. А. Бестужевым-Рюминым. СПб., 1826. Кн. 1) и др. – Сост.
68
И. В. Киреевский выделял в европейской литературе романтическое творчество А. Мицкевича, был в дружеских отношениях с ним и посвятил ему свое стихотворение «Мицкевичу» (см.: Наст. изд.). – Сост.
69
Упомянутые И. В. Киреевским книги о Иакинфа (Н. Я. Бичурина): История первых четырех ханов из дома Чингисхана. СПб., 1829; Описание Пекина, с приложением плана сей столицы, снятого в 1817 году. СПб., 1829. – Сост.
70
Имеется в виду книга: Картина войн России с Турциею в царствование Екатерины II и императора Александра I. Сочинение генерал-майора Д. П. Бутурлина / Пер. с франц. СПб., 1829. Ч. 1–2. – Сост.
71
Романтическая повесть Н. А. Полевого. – Сост.
72
Повесть М. П. Погодина. – Сост.
73
Упомянутый сатирический роман В. Т. Нарежного был написан в 1818 г., но из-за цензурных соображений был опубликован только после смерти автора. Прежние романы… Нарежного – «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (1814. Ч. 1–3), «Аристион, или Перевоспитание» (1822), «Два Ивана…» и др. – Сост.
74
Писатель так называемого торгашеского направления в литературе. Известен своей враждебностью к прогрессивным писателям, многочисленным доносам, идейной беспринципностью и недобросовестностью. Был автором морализаторских романов «Иван Выжигин» (1829), «Петр Иванович Выжигин» (1831) и др. – Сост.
75
Книги «О клопах» вышла в прошлом году несколько тысяч экземпляров. – И. К.
76
Имеется в виду кн.: Страдания Вертера / С нем. Р… М., 1828–1829. Ч. 1–2. Переводчиком романа был Н. М. Рожалин. – Сост.
77
«История древней и новой литературы» Ф. Шлегеля (СПб., 1829–1830. Ч. 1–2) вышла в переводе В. Д. Комовского. – Сост.
78
«Телеграф» – журнал «Московский телеграф», который издавал в 1825–1834 гг. Н. А. Полевой. – Сост.
79
Газета «Северная пчела», издаваемая Ф. Булгариным, благодаря близости издателя к официальным кругам, получила монопольное право на печатанье политических новостей. – Сост.
80
«Атеней. Журнал наук, искусств и изящной словесности», издавался в Москве в 1828–1830 гг. профессором М. Г. Павловым. – Сост.
81
«Славянин» – еженедельный журнал, издавался А. Ф. Воейковым в 1827–1830 гг. в Санкт-Петербурге. Полемические материалы «Славянина» часто затрагивали личности литературных противников, отличались резкостью и злой насмешливостью (особенно в отделе «Хамелеонистики»). – Сост.
82
Здесь имеется в виду И. И. Дмитриев. – Сост.
83
Автором статьи «Ливония (отрывки)» (Невский альманах на 1829 год) был писатель-романист А. А. Бестужев-Марлинский, декабрист, отбывавший ссылку. – Сост.
84
Данная здесь И. В. Киреевским образная формула представления России перед судом европейской цивилизации будет почти в тех же выражениях воспроизведена Ф. М. Достоевским в 1877 г. в «Дневнике писателя»: «Она <Европа> спросит нас: “где ваша цивилизация? Усматривается ли строй экономических сил ваших в том хаосе, который видим мы все у вас? Где ваша наука, ваше искусство, ваша литература?”» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произведений. М.—Л., 1929. Т. 12. С. 206). – Сост.