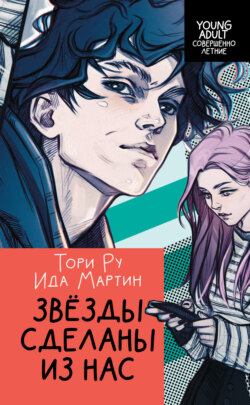Читать книгу Звезды сделаны из нас - Ида Мартин - Страница 11
Глава 9. Глеб
ОглавлениеМоя первая серьезная стычка с Макаровым пришлась на конец шестого класса. Стояла середина апреля, первые солнечные деньки. Все мальчишки и девчонки, как по команде, поскидывали теплую одежду и нацепили совсем легкие курточки и ветровки, а старшеклассники и вовсе красовались, приходя в школу в одних пиджаках.
Я же пока свой зимний гардероб не сменил и даже носил шапку. Мама очень боялась, что я заболею и ей придется сидеть со мной на больничном, тратиться на лекарства и водить по врачам, поэтому взяла с меня обещание носить шапку до первого мая. Ей, конечно, было не понять, что тем самым я осознанно подписал себе приговор, поэтому и постичь величину моего подвига она не могла. Это я уже потом понял, что люди всегда оценивают поступки других только по себе. Тот, кто не любит сладкое, никогда не увидит в отказе от торта ничего героического, а тому, у кого дома есть собака, не понять того, кто нашел в себе мужество погладить бездомного пса. Люди вообще редко ставят себя на место других.
Мама, например, носила платки круглый год, так что мой подвиг с шапкой для нее подвигом не был.
Мы шли из школы. Я и еще двое мальчишек, которые на следующий же год свалили из школы как раз из-за Макарова. Они, в общем-то, были в порядке и ничем особенным перед ним не провинились, кроме того, что общались со мной.
Так вот, Макаров и его шобла пристроились за нами на пути домой. Просто тащились рядом, обзывались и старались посильнее обрызгать из каждой попадавшейся лужи, а мы молчали, чтобы не «обострять». Их было человек пять, все наглые и задиристые: Ляпин, Титов, Журкин, кто-то еще.
Однако Макаров был хуже всех. В лужи, в отличие от остальных, он не лез, предпочитая не пачкать свои белые кроссы и предоставив всю грязную работу своим прихлебателям, но говорил самые обидные и унизительные вещи, о которых мне и думать было неприятно, не то что пересказывать. После того раза, когда я набросился на одноклассников сестры Титова, я сделал выводы и понял, что иногда лучше промолчать и перетерпеть. Знал, что даже если не стерплю, на что Макаров и рассчитывал, и попробую дать ему отпор, то смеяться надо мной станут еще больше. Но то, что я злюсь, Макаров отлично видел. Наверное, именно это и провоцировало его каждый раз доставать именно меня. Он ждал, когда же моему самообладанию придет конец. И все-таки дождался.
Это случилось, когда, подкравшись сзади, Макаров сдернул с меня шапку и запульнул прямиком в лужу.
– Ой, сдуло, – прогнусавил он дурашливым голосом. – Какая неприятность.
Все, включая мальчишек, с которыми я шел, засмеялись. Я остановился, но поднимать шапку не торопился – было ясно, что стоит мне за ней наклониться, как кто-нибудь обязательно отвесит пинка.
– Не плачь, бедненький, мамочка тебе ее постирает. Вместе с трусиками. Она же стирает тебе трусики? И платочки твои сопливые с козявками. Придешь домой и пожалуешься на ветер, скажешь, подул, гад, и шапочку уронил, – мерзко сюсюкая, Макаров подобрал на обочине палку и, подцепив ею шапку, поднял. В лужу потекли струи темной талой воды.
– Фу-у-у, бее-е, гадость, сифа, – подхватила шобла вразнобой. – Поносная жижа.
– Отдай, – наконец сказал я Макарову, протягивая руку.
– Да-да, конечно, обязательно отдам, Журкин тебе ее даже надеть поможет, – Макаров протянул конец палки с шапкой Журкину.
Гадостливо скривившись и изобразив рвотные позывы, тот взял шапку двумя пальцами и двинулся на меня.
Что он собирается сделать, я догадывался.
– Только попробуй.
– А то что? – обрадовался Макаров. – Что ты ему сделаешь?
– Не ему, а тебе сделаю.
– Ой-ой, как страшно, – голос Макарова снова зазвучал омерзительно. – Мамкин сын рассердился. Сейчас что-то будет.
Мой приятель потянул меня за рукав, предлагая уйти.
– У него зубы скрипят, – заржал Гоша Титов. – Кулаки сжал, сейчас пернет от натуги.
Журкин помахал перед моим носом шапкой:
– У-тю-тю.
Но только я дернулся, как он попытался надеть мокрую шапку мне на голову. Я увернулся, однако, вместо того чтобы защищаться от Журкина, бросился на довольно ухмыляющегося Макарова. Крепко обхватил и, не думая, рухнул вместе с ним в ту лужу, где недавно плавала шапка.
Это произошло настолько неожиданно, что все растерялись. На что я, собственно, и рассчитывал. Прихвостни Макарова оторопели, мои спутники обалдели, сам Макаров, искупавшись в луже с головой, лишился дара речи.
Я ударил его всего два раза, и то несильно, потом встал, выхватил у Журкина шапку и быстрым шагом рванул домой. Но до подъезда дойти не успел. Они все же догнали меня и отпинали так, что сломали кусок переднего зуба и разодрали куртку. Кто-то из прохожих вызвал полицию, и нас всех под конвоем доставили прямиком к директрисе.
А вечером мне вдогонку как следует влетело от мамы, доходчиво объяснившей, что денег на такую роскошь, как драки, у нас нет. И если я и дальше собираюсь купаться в лужах, рвать одежду и лишаться зубов, то для начала мне стоит подыскать себе работу.
После того случая мои отношения с Макаровом существенно обострились. Теперь я был не просто чмошником, которого можно шпынять, – я стал настоящим объектом травли. Напрямую со мной связываться никто не решался, потому что я считался «чикане», а вот буллить толпой нравилось всем.
И все же именно тот эпизод раскрыл мне тайную суть настоящей крутизны и власти над людьми, которой обладал Макаров. Когда они заловили меня и стали бить, Макаров снес моей спиной сначала зеркало одной машины, а после приложил головой о капот другой. Остальные пацаны перепугались и стали кричать ему про зеркало и вмятины на капоте, что нас кто-то видел из окна и сейчас приедет полиция, уговаривали смотаться и разобраться со мной после, однако на все, что ему говорили, Макаров отвечал лишь «пофиг». И ему действительно было пофиг. Но не из-за влиятельных или богатеньких родителей, которые у него имелись. Макарову было «пофиг», потому что он не боялся ни наказаний, ни общественного осуждения, ни прочих последствий. Наверное, это можно было бы назвать смелостью, если бы не тот факт, что повреждение машин он свалил на Журкина с Титовым, а мою порванную куртку – на Ляпина. И никто из них ему потом слова не сказал, потому что знали, что в любой момент на моем месте могут оказаться они.
Именно в этом и заключается главная проблема всей моей бестолковой аутсайдерской жизни. Мне никогда не бывает ни на что по-настоящему «пофиг», я постоянно думаю о том, что делаю, и как это отразится на других. Я патологически боюсь стать таким человеком, как Мишка, из-за которого страдает столько людей, и меня слишком часто посещают совесть и раскаяние – даже тогда, когда моя вина или проступок не очевидны.
Я переживаю, что слишком долго вожусь на кассе в магазине и задерживаю людей, что, переходя по «зебре» без светофора, вынуждаю водителей останавливаться лишь из-за меня одного, что, забирая последнюю булочку в столовой, обделяю того, кому она, возможно, нужнее.
С другой стороны, самое сложное – это поставить диагноз. И раз уж я знаю, чем болен, что мешает мне вылечиться? Стать таким же равнодушным типом, которому будет на все пофиг? Пофиг на домашку, на прогулы и обещания, пофиг на мемы, на правила приличия и всех остальных.
Наверняка Макаров думал, что ему пофиг, когда укуренный сажал Алису на мотик. Но ведь именно поэтому она и поехала с ним, что приняла этот пофигизм за надежность.
Я захожу в первый попавшийся магазин. К счастью, там нет покупателей. Подхожу к молодой узбечке на кассе:
– Мне, пожалуйста, сигареты.
– Какие?
– Все равно. Нормальные какие-нибудь. И зажигалку.
– «Винстон»? – предлагает она, роясь на полочке с пачками.
– Отлично.
– Двести тридцать рублей и паспорт.
Паспорт у меня оказывается с собой, но отдать двести рублей за какую-то отраву я не готов.
– А что-то подешевле есть?
Курить я не умею и даже не пробовал, но решаю, что пофиг. С чего-то же нужно начинать.
Буду курить возле школы, за гаражами, где все обычно курят. Заявлюсь и стану дымить им в лицо с наглым видом, как Макаров. Без него они меня и пальцем не тронут. Побоятся, что призову высшие силы.
Прошлой весной, когда они собирались меня в мусорку скинуть, я устроил показательный молебен с взыванием к Всевышнему и проклятиями. Нес, по правде говоря, откровенную пургу, просто пародируя манеру батюшки, благо насмотрелся. А им много не надо, поверили, как нечего делать, сдали назад, один только Макаров сказал, что ему пофиг, и закинул меня в контейнер для пищевых отходов.
Но теперь у меня есть козырь. Галицкий подбросил отличную идею. Припомню им тот случай и скажу, что Макаров умер из-за того моего проклятия.
Это действительно суперидея. Она мне так нравится, что начинает казаться: выполнить обещание, данное Нелли, вполне реально.
Пусть все узнают, что я опасен. Пусть остерегаются и уважают. Брать на себя ответственность за смерть Макарова не особо приятно. Но никто не обещал, что будет легко. К тому же я не должен расслабляться и забывать, что мне пофиг.
Тренируюсь курить за хозяйственным магазином – там такой закуток, где бомжи в туалет ходят. Мерзко, но зато никто из маминых знакомых не увидит. Мне, конечно, пофиг, но на маму это не распространяется.
Вкус у сигарет омерзительный. В горле першит, язык щиплет, голова становится чугунная. Не понимаю, что приятного люди в этом находят, но делать нечего.
Кое-как приноравливаюсь затягиваться так, чтобы проглатывать дым и потом выдыхать его из себя, а не тупо выпускать изо рта. Однако больше одной сигареты выкурить не могу – такое ощущение, что уши заложило, и подташнивает, будто укачало.
Но я все равно очень доволен собой и весь вечер репетирую перед большим зеркалом крутые позы с сигаретой. Знаю, что выгляжу глупо и по-киношному нелепо, однако знаю и то, что репетиция выступления перед зеркалом приносит отличные результаты. По крайней мере, при подготовке докладов я всегда тренируюсь, глядя на свое отражение.
На следующий день я так вдохновлен своим новым образом, что совсем забываю прикрыть белую рубашку, и на входе в школу снова попадаюсь завучихе на глаза. Она останавливает меня и так долго кричит, ругаясь, что мозг начинает взрываться.
– Это в последний раз! – напоследок предупреждает она. – Если еще раз подобное повторится, позвоню твоей маме, пусть приходит и переодевает тебя.
На первых двух переменах из школы обычно никто не выходит, мало времени, да и охранник не выпускает – все начинается на третьей. Кто-то бежит в столовую, а кто-то за гаражи.
Я выхожу и как ни в чем не бывало шагаю за Титовым, он мельком оглядывается, но торопится догнать ушедших вперед. И я просто иду следом. Немного не доходя гаражей, он оборачивается.
– Святоша? – В глазах вспыхивает удивление. – Тебе чего?
– То же, что и тебе. – Я делаю вид, что его внимание меня напрягает.
Это дается без труда, потому что обычно их общее внимание к моей персоне действительно напрягает.
– Пацаны, глядите, кто приперся, – тут же оповещает собравшихся за гаражами Титов.
Здесь не только наши, но и ашки, и десятый класс, девчонки тоже, включая Румянцеву. Всего человек двенадцать. Стоят группками, а кто-то и сам по себе.
– Че надо? – тут же набычивается Журкин.
Окинув его равнодушным взглядом, я отхожу чуть в сторону. Типа я не с ними. Вытягиваю из пачки сигарету, вставляю в зубы и, глубоко затянувшись, прикуриваю. Пока все идет хорошо, я не кашляю и дым из ушей не валит. Во рту по-прежнему мерзко, но перетерпеть можно. Достаю телефон и утыкаюсь в него, будто читаю. Реакция не заставляет себя ждать.
– Совсем попутал? – Журкин, кажется, теперь у них за главного. Подходит ко мне и сверлит бычьим взглядом: – Пошел вон отсюда.
– Не мешай, – отмахиваюсь я от него. – Дай параграф дочитать.
– Какой, к черту, параграф? – обалдевает он. – Ты сюда дорогу забудь.
– Фигасе! Святоша курит, – подваливает Румянцева.
Она настроена более доброжелательно, чем парни, за что я ей очень благодарен.
Ляпин принюхивается:
– По ходу, ладан.
– Ты правда ладан куришь? – хрипло смеется Румянцева.
– Я курю фимиам.
– А это что такое?
– Типа ладана, только круче.
– Дрянь какую-то курит, – морщится Титов. – Табачище дешевый. Небось отечественный.
– Погодите, – останавливает их Журкин. – Я, кажется, доходчиво сказал ему отваливать. Или он нарочно нарывается?
– Послушай, – тороплюсь сказать я, потому что сигарета от глубоких затяжек почти истлела, а перемена скоро закончится, – я хожу, куда хочу. Ясно? И ты или кто-то еще мне не указ.
– Это он без Макарова борзеть начал, – подтявкивает Титов.
– Именно! – Журкин бьет мне по руке с телефоном. – Ты нарочно пришел, да? Позлорадствовать насчет Сашки?
Я убираю телефон в карман, достаю еще одну сигарету, снова картинно прикуриваю и ухмыляюсь.
Мне уже совсем дурно, в голове плывет, а желудок сопротивляется интоксикации.
– Я пришел нарочно, – признаю я. – И теперь буду приходить всегда. Чтобы каждый раз, глядя на меня, вы вспоминали Макарова. И то, как он оступился. И как был наказан. Чтобы смотрели и помнили, что за все в жизни нужно расплачиваться. Быть может, не сию секунду и не громом среди ясного неба, а всего лишь мокрым асфальтом или фонарным столбом. Бог все видит, пацаны, и вы у него уже не на хорошем счету.
Лицо Журкина вытягивается, Титов бледнеет, на губах Румянцевой блуждает недоверчивая, но испуганная улыбочка.
– Хочешь, чтобы мы связали его смерть с тобой? – Она косится на мальчишек.
– От вас я ничего не хочу. Просто сказал, и все. Дальше решайте сами.
В школе звенит звонок, ашки и десятиклассники сваливают, а наши замирают в непонятках.
Судя по всему, их пробрало. Они вроде и наехать хотят, но теперь уже не знают, стоит ли.
На этой фееричной ноте я горделиво вскидываю подбородок, разворачиваюсь с одной лишь мыслью – поскорее добежать до туалета, но после первого же шага организм, придя в движение, больше не в состоянии сдерживаться. Ноги подгибаются, и меня позорно тошнит прямо на глазах у всей макаровской шоблы.