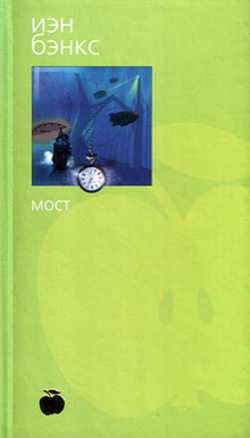Читать книгу Мост - Иэн Бэнкс - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Метаформоз
Глава третья
ОглавлениеЗа моей спиной лежит пустыня, впереди – море. Пустыня – золотая, море – синее; они встречаются, как соперничающие времена. Море живет в настоящем, оно сверкает барашками, вздымается белыми валами, и ухает вниз, и бьется в песчаный берег, и его прилив – как дыхание… Пустыня движется медленно, но верно, ее высокие рассыпчатые волны ползут по безжизненной земле под гребенкой невидимого ветра.
Меж пустыней и морем, утонув наполовину и в той, и в другом, лежит древний город.
Он изъеден ветром, песком и водой. Подобно зернышку, он угодил меж крутящимися мельничными жерновами – каменные строения не устояли перед разрушительной силой ветра.
Я был один, я бродил в полуденной жаре, белым призраком витал между грудами обломков. Тени своей я не видел, она тянулась назад от ног.
Темные с розовым оттенком камни лежали кругом в полнейшем беспорядке. Сгинуло большинство улиц, их давным-давно погребли крадущиеся пески. Склоны барханов были испещрены ветхими арками, вывалившимися перемычками, кусками поверженных стен. У бахромчатой кромки берега разрозненные останцы каменной кладки противостояли набегам волн. Чуть дальше из моря выступали накренившиеся башни и фрагмент арки, словно кости давно утонувшего чудовища.
Над пустыми дверными проемами и забитыми песком окнами я видел резные фризы. Я рассматривал удивительные полусточенные фигурки и символы и пытался разгадать их смысл. Несомый ветром песок истончил иные стены и балки до ширины вытесанных на них знаков; сквозь кроваво-алый камень просвечивало голубое небо.
– А ведь мне знакомо это место, – ни к кому не обращаясь, проговорил я. – Я вас знаю, – сказал я безмолвным развалинам.
В стороне от городища стояла исполинская статуя. Изваяние с могучим торсом и мужской головой, высотой в три-четыре человеческих роста, располагалось между пеной прибоя и кромкой молчаливых руин. В незапамятные времена у него отвалились или были отбиты руки. Ветер и песок чуть ли не до блеска отшлифовали сколы на культях. Одна сторона массивного туловища и головы накопила следы бесчинств ветра, но другая половина осталась узнаваемой: большой обнаженный живот, на груди – всевозможные украшения, в том числе ожерелья толщиной с манильский канат. На широкой плеши – корона, ухо оттянуто тяжелыми кольцами, в носу тоже кольцо. Как и смысла резных символов, я не смог разгадать выражения изъязвленного временем лика: то ли жестокость, то ли горечь, то ли равнодушие очерствелой души ко всему кроме песка и ветра.
Я поймал себя на том, что шепчу, глядя в выпученные каменные глаза:
– Мох? Мокко?
Но от великана – никакого содействия. Имена тоже ветшают, хоть и медленно. Сначала искажаются, потом сокращаются, наконец забываются.
На пляже перед городом, в некотором отдалении от каменного истукана, я заметил человека. Он был низок, хром и горбат, он стоял по колено в прибойной пене, омывавшей его темные лохмотья, бил по воде тяжелой цепью и громко проклинал все и вся.
Тяжелый горб клонил его голову книзу, грязные патлы тугими жгутами свисали до самой воды; иногда словно седой волос выбивался из этой темной гущи – длинная струя слюны падала на воду и уплывала прочь.
Всякий раз, когда он вскидывал и резко опуская правую руку, на море обрушивалась цепь – дюжина тронутых ржавчиной, но поблескивающих тяжелых чугунных звеньев на гладкой деревянной рукояти. Вокруг под размеренными и непрекращающимися ударами пенилась и пузырилась вода и темнела от поднятого со дна песка.
Горбун по-крабьи сместился на шаг в сторону, вытер рукавом рот и возобновил порку. Он непрерывно бормотал, пока взлетала и падала, поднимая брызги, тяжелая цепь. Я долго стоял за его спиной на берегу и наблюдал. Вот он снова прервал экзекуцию, вытер лицо и сделал еще шаг в сторону. Ветер взметнул изорванные одежды, подкинул засаленные космы. Эти же порывы трепали и мой ветхий наряд. Должно быть, горбун уловил в шуме прибоя посторонний звук, так как он не возвратился к своему занятию. Голова чуть повернулась, словно он напрягал слух. Казалось, он силится выпрямить увечную спину… а потом сдался. Мелкими, шаркающими шажками, будто стреноженный, он медленно повернулся кругом. И вот мы стоим лицом к лицу. Он постепенно поднял голову и замер, когда наши глаза встретились. Волны плескали в его колени, цепь, чью рукоять сжимали узловатые пальцы, покачивалась в воде.
Его физиономия почти целиком скрывалась под спутанными волосами, выражения было не разобрать. Я ждал, когда он заговорит, но он терпеливо безмолвствовал, и наконец я произнес:
– Извините… Продолжайте, пожалуйста.
Он долго молчал, ничем не выдавая, что услышал мои слова. Словно нас разделяла некая среда, гораздо медленнее пропускавшая звуки, чем это делает воздух. Наконец коротышка ответил удивительно вежливым голосом:
– Понимаете, это моя работа. Меня специально наняли.
– Ну конечно же, понимаю, – кивнул я, ожидая дальнейших объяснений.
Опять показалось, что мои слова дошли до него с большим запозданием. Он очень неуклюже пожал плечами:
– Видите ли, однажды великий император… – Тут его голос на добрую минуту затих. Я ждал. Он задумчиво покачал головой и шаркающе развернулся к изрезанному волнами синему горизонту. Я громко позвал, но если он и услышал, то не подал виду.
Бранясь и бормоча, спокойно и монотонно он снова принялся рассекать цепью волны.
Я еще немного понаблюдал за тем, как он бичует море, потом повернулся и зашагал прочь. Не замеченный мной раньше чугунный браслет, словно наручник беглого арестанта, тихо и ритмично позвякивал на моем запястье, когда я возвращался к развалинам.
В самом ли деле мне это приснилось? Разрушенный город у моря, человек с цепью?.. Несколько мгновений пребываю в замешательстве: может, это просто я накануне вечером лежал не смыкая глаз и пытался придумать для врача правдоподобный сон?
Нежась в темноте на широкой теплой постели, я даже испытываю облегчение. Я даже тихо смеюсь, крайне довольный собой, – ведь я в конце концов дождался сна, который можно пересказать доброму доктору с чистой совестью. Я встаю и надеваю халат. В квартире холодно, серая заря едва просвечивает через высокие окна; робкий, медленно пульсирующий свет исходит из-за моря, из-за длинного вала темной тучи, как будто туча – это суша, а заря – медленно мигающий в гавани буй.
Где-то бьет колокол, где-то очень далеко, и вслед раздается другой звон, потише, и так пять раз. Уже пять утра. Далеко внизу локомотив со свистом выпускает пар. Едва различимый ухом, скорее осязаемый, рокот говорит мне о прохождении груженого товарняка.
Я выхожу в гостиную и вижу неподвижную серую картину: человек на больничной койке. Прихотливо расставленные по комнате бронзовые статуэтки рабочих-мостовиков отражают своими неровными поверхностями бледный монохромный свет. Внезапно в кадр молча входит женщина, медсестра, и приближается к койке. Ее лица я не вижу. Похоже, она зашла проверить температуру больного.
Никаких звуков, кроме далекого шипения. Медсестра обходит вокруг кровати, ступая по блестящему полу: проверяет аппаратуру. И снова исчезает, уйдя из-под объектива камеры, но тут же возвращается с небольшим металлическим подносом. Она берет с подноса шприц, наполняет его какой-то жидкостью из пузырька, переворачивает иглой вверх, протирает ваткой руку больного и делает укол. Втягиваю воздух сквозь зубы – я всегда (точно в этом уверен) боялся уколов.
Картинка слишком мутная, не рассмотреть, как сталь входит под кожу, но воображение рисует косой срез иглы, изжелта-бледную дряблую кожу… Я сочувственно морщусь и выключаю телевизор.
Я поднимаю подушку с телефона. По-прежнему – короткие гудки, разве что, может, почаще прежних. Я кладу трубку на рычаг. Тотчас аппарат разражается звоном. Снимаю трубку и вместо гудков слышу:
– Ага, Орр! Наконец-то. Ведь это ты?
– Да, Брук, это я.
– И где же пропадал? – Язык у него запинается.
– Спал.
– Где, где? Пардон, этот шум…
На заднем плане в трубке слышится какая-то болтовня.
– Нигде я не пропадал. Я спал. Или, точнее, я…
– Спал? – громко перебивает Брук. – Ну нет, Орр, так не пойдет! Не пойдет, и все тут! Сейчас же дуй к нам, в «Дисси Питтон», мы для тебя бутылочку сберегли…
– Брук! Ночь на дворе!
– Да иди ты! Не может быть! Я ведь только что сюда пришел.
– Уже светает.
– Да ты что? – В трубке замирает изумленный голос Брука. Затем я слышу, как он что-то выкрикивает, и раздается громкий недружный смех. – Орр, давай к нам, и побыстрее. Садись на первый поезд, или что там уже ходит. Мы ждем.
– Брук…
Но Брук снова говорит не в трубку, а еще слышны далекие крики.
– Кстати! – произносит он. – Шляпу захвати. Понял? Ты должен быть в… – Новые вопли на заднем плане. – Да, пусть будет широкополая. У тебя найдется широкополая шляпа?
– Но при чем…
Меня перебивают крики. Брук уже орет в трубку:
– Да, широкополая! Если нет широкополой, то никакой не надо. Так как, есть у тебя широкополая?
– Наверное, – отвечаю и спохватываюсь, что этим признанием я вынуждаю себя ехать.
– Отлично, – говорит Брук. – До скорой встречи. Шляпу не забудь.
Он кладет трубку на рычаг. Я поступаю так же, снова поднимаю трубку и слышу ритмичные гудки. Я гляжу в окно на медленно мигающий свет над облачным валом, пожимаю плечами и иду в гардеробную.
Бар «Дисси Питтон» занимает не пользующиеся особым спросом помещения в считаных ярусах над железной дорогой. Это несколько залов, асимметрично расположенных друг над другом. Непосредственно под нижним баром находятся канатные мастерские, там в длинных узких ангарах плетут веревки и тросы. Вполне естественно, что и «Дисси Питтон» – это царство веревок и тросов. Вся мебель там не стоит на полу, а подвешена к потолку. В «Дисси Питтоне» даже мебель на ногах не держится, как заметил Брук в один из тех редких моментов, когда в нем просыпается чувство юмора.
Швейцар спит стоя, привалившись к стене, сложив руки на груди и свесив голову. Козырек фуражки защищает его глаза от мерцающей над дверью неоновой вывески. Я вхожу и поднимаюсь по лестнице через два темных безлюдных этажа. Шум и свет указывают мне путь туда, где вечеринка в самом разгаре.
– Орр! Ты-то нам и нужен!
Из людской сутолоки, из качающегося нагромождения столов, стульев, кушеток и ширм появляется нетвердо держащийся на ногах Брук. Он подходит ко мне, перешагнув через какого-то сморенного сном посетителя. В «Дисси Питтоне» мертвецки пьяные редко задерживаются под одним столом, обычно они успокаиваются в каком-нибудь дальнем уголке бара; кажущийся беспредельным тиковый пол соблазняет их ползти и ползти на четвереньках. А может, их толкает глубоко укоренившийся инстинкт инфантильной любознательности. Или дело в том, что они вживаются в образ улитки?
– Вот молодец, что пришел, – говорит Брук, подавая мне руку. Он глядит на широкополую шляпу, которую я прихватил с собой. – Шикарная шляпа. – Он ведет меня к дальнему столу.
– Угу. – Я отдаю ему шляпу. – Кому она понадобилась? И что тут затевается?
– Да что ты говоришь. – Он останавливается, вертит шляпу в руках. Заинтригованно изучает подкладку, словно рассчитывая найти там подсказку.
– Помнишь, ты просил широкополую шляпу? – говорю. – Хотел, чтобы я ее сюда принес.
– Хм… – говорит Брук и ведет меня к столу, за которым сгрудились четверо или пятеро. Я узнаю Бейкера и Фаулера, это инженеры, приятели Брука. Они снова и снова пытаются встать. Брук все еще озадачен. Пристально глядит на шляпу.
– Брук, – с трудом сдерживаю раздражение, – ты потребовал, чтобы я принес эту проклятую шляпу, и было это совсем недавно, еще и получаса не прошло. Да не мог ты забыть, черт бы тебя побрал!
– А ты уверен, что это нынче было? – скептически вопрошает Брук.
– Ты звонил, Брук! И пригласил меня сюда, и…
– Постой-ка! – Брук рыгает и тут же тянется за бутылкой. – Хлопни-ка винца, и мы это дело обмозгуем. – Он сует мне в руки стакан. – Ты ж опоздал – изволь наверстывать.
– Боюсь, за тобой мне уже никак не угнаться.
– Орр, да ты, кажется, расстроен чем-то. – Брук наполняет вином мой стакан.
– Трезв как стекло. Просто симптомы очень похожи.
– Нет, ты расстроен.
– Ничего подобного.
– И чем же ты так расстроен?
С чего это у меня сложилось впечатление, что Брук почти не слушает? И ведь такое уже далеко не в первый раз. Иногда разговариваешь с человеком, и вдруг его охватывает какая-то рассеянность. Как будто не лицо у него вовсе, а маска, к изнанке которой он обычно прижимается, словно ребенок носом к витрине кондитерской. Но когда я с ним разговариваю, пытаюсь обсудить сложный или неинтересный для него вопрос, собеседник отдаляет свое внутреннее «я» от маски и задумывается о чем-нибудь своем. Если воспользоваться аналогией, он снимает ботинки, закидывает ноги на стол, пьет кофе и расслабляется. А потом, набравшись сил и бодрости, неодобрительно кивает и отпускает совершенно неуместное замечание – отголосок его застарелых мыслей. Возможно, дело здесь во мне. Возможно, только я оказываю на людей такой эффект и никто другой на это не способен.
Впрочем, наверное, такая мнительность больше пристала параноику, и, если я отважусь вынести на обсуждение эту тему, сразу выяснится, что вовсе никакой я не феномен, а чуть ли не самое рядовое явление. («Ага, я тоже за собой такое замечал!», «И со мной бывало!», «А ведь думал, что я один такой!»)
Между тем инженерам Бейкеру и Фаулеру удается наконец встать и надеть пальто. Брук что-то серьезно втолковывает Фаулеру, тот выглядит озадаченным. Затем его лицо проясняется. Он возбужденно отвечает, Брук кивает и возвращается ко мне.
– Буч! – торжественно изрекает он и снимает со спинки дивана свое пальто.
– Что? – переспрашиваю.
– Томми Буч, – надевает пальто Брук. – Это ему понадобилась шляпа.
– Зачем?
– Понятия не имею.
– Ну и где же он? – оглядываю бар.
– Вышел недавно, – застегивает пальто Брук. Позади него пошатываются Фаулер и Бейкер, ждут.
– Вы что, уходите? – задаю совершенно риторический вопрос.
– Долг зовет! – Брук берет меня за руку, склоняется к уху и громко шепчет:
– Срочная работенка у миссис Ганновер.
– У миссис… – Я не договариваю – вспомнил. У миссис Ганновер лицензия на содержание борделя. Мне известно, что Брук со товарищи давно протоптали туда дорожку; как я слышал, в этом злачном местечке развлекаются главным образом инженеры. И тут в голову навязчиво лезет целый сонм не слишком тонких аллюзий.
Меня к миссис Ганновер еще не приглашали, к тому же я сам дал понять, что не стремлюсь туда попасть. Сие целомудрие проистекает не из моральных соображений, а из пустого тщеславия, уверил я Брука. Но он, похоже, с тех пор подозревает, что за всеми моими разглагольствованиями о сексе, политике и религии прячется ханжество.
– Как насчет с нами за компанию? – спрашивает Брук.
– Спасибо, нет.
– Хм… Я и не сомневался, – кивает Брук. Снова берет меня за руку, снова чуть наклоняется и шепчет на ухо:
– Послушай, Орр, мне не очень удобно просить…
– О чем? – Я смотрю, как инженер Фаулер разговаривает с длинноволосым молодым человеком, который сидит за соседним столиком в тени. Второй молодой человек, напротив него, уснул, уронив голову на стол.
– Это дочка Эррола, – кивает на них Брук.
– Кто?
– Дочка главного инженера Эррола, – шепчет Брук. – Она тут как бы с нами, да только братец ее, видишь, наклюкался и задрых. И если мы сейчас отсюда смоемся, некому будет… Слушай, а ты не можешь с нею… ну посидеть, поговорить, что ли? А?
– Брук, – отвечаю ледяным тоном, – сначала ты мне звонишь в пять утра, потом…
Я не договариваю. При поддержке Фаулера, выражающего всем своим видом нетерпение, Бейкер по синусоиде подходит к Бруку и говорит:
– Брук, может, пойдем, а? Чего-то мне нехорошо…
Инженер Бейкер замолкает – у него явные позывы на рвоту. Раздуваются щеки, он судорожно сглатывает, потом с гримасой на лице кивает на ступеньки, что ведут на этаж ниже.
– Орр, нам пора, – торопливо произносит Брук, подхватывая Бейкера под руку, в то время как Фаулер подхватывает под другую. – До скорого. И заранее спасибо, что за девочкой приглядишь. Извини, но знакомиться самому придется.
Вся троица плетется враскачку мимо меня. Брук сует мне в руки широкополую шляпу. Фаулер тащит к лестнице Бейкера, Брук волочится в кильватере.
– Увижу Томми Буча, спрошу про шляпу, – выкрикивает Брук.
Они неуклюже пробираются среди мебели и других посетителей к лестнице. Я оборачиваюсь к молодому человеку, с которым только что разговаривал Фаулер. Юноша поднимает припухшие от недосыпа глаза и улыбается мне.
Я ошибся. Это не юноша, а девушка. На ней широкие темные брюки и пиджак оригинального фасона, парчовый жилет с чересчур, пожалуй, массивной золотой цепочкой поперек живота, белая хлопковая рубашка. Ворот рубашки расстегнут, с него свисают незавязанные концы черного галстука-бабочки. Туфли тоже черные. Волосы у незнакомки темные, до плеч. Она сидит в кресле наискось, подобрав ногу под себя. Приподнимает круто изогнутую черную бровь. Я прослеживаю за взглядом девушки до треножника из инженеров, который драматически прокладывает себе путь к лестнице.
– Как считаете, получится у них? – Она слегка наклоняет голову вбок, подпирает кулачком затылок.
– Пожалуй, много бы я на них не поставил.
Она задумчиво кивает и подносит к губам высокий стакан. Глотнув, произносит:
– Пожалуй, я тоже. Прошу прощения, я ведь не знаю вашего имени.
– Меня зовут Джон Орр.
– Эбберлайн Эррол.
– Как поживаете?
Вопрос кажется Эбберлайн Эррол смешным.
– Как хочу, так и поживаю, мистер Орр. А вы?
– Вы, наверное, дочь главного инженера Эррола? – в тон ей отвечаю я и кладу шляпу на край дивана. Если мне повезет, ее кто-нибудь стибрит.
– Не наверное, а точно, – отвечает она. – А вы, мистер Орр, кто по роду занятий? Инженер? – Она указывает длинной, без единого кольца или перстня, кистью на местечко рядом с собой.
Я снимаю пальто, присаживаюсь.
– Нет, я пациент доктора Джойса.
– Ах вот оно что… – медленно кивает она и глядит на меня в упор, что не очень-то распространено в здешнем быту. Глядит, словно на какой-то мудреный механизм, в котором пришла в негодность важная деталь. Лицо у нее молодое, но с мягким, добрым выражением, какое бывает у пожилых женщин; морщин не видно. Глаза маленькие, кожа туго обтягивает скулы и лобную кость. У нее широкий улыбчивый рот, но взгляд мой притягивается не к нему, а к крошечным складочкам кожи под серыми глазами. Складочки эти делают ее взор всепонимающим и насмешливым.
– И что же с вами не так, мистер Орр? Ее взгляд опускается на мое запястье, но медицинский браслет спрятан под обшлагом.
– Амнезия.
– В самом деле? И давно? – Она не тратит времени на паузы.
– Уже около восьми месяцев. Меня… выловили какие-то рыбаки.
– Да? Кажется, я что-то читала об этом. Вас выудили из моря, как рыбку.
– Да, так мне сказали. А как оно было на самом деле, не помню. Я многое забыл.
– И что, до сих пор не выяснилось, кто вы?
– Нет. По крайней мере, никто из моих родственников или знакомых пока не объявился. И приметы мои ни с кем из объявленных в розыск не совпадают.
– Хм… Как это, наверное, странно. – Она касается губ пальцем. – Я представляла, что это так интересно и… – пожимает она плечами, – романтично – потерять память. Но, наверное, это жутко утомительно…
У нее довольно изящные, очень темные брови.
– Самое утомительное, но и самое интересное – это лечение. Мой врач верит в толкование снов.
– А вы?
– Пока нет.
– Поверите, если поможет, – кивает она.
– Возможно…
– Но что, – поднимает она палец, – что если вам придется поверить еще до того, как оно поможет?
– Не уверен, что это согласуется с научными принципами моего замечательного врача.
– Так ведь если поможет, то какая разница, что там с чем не согласуется?
– Но ведь если верить без причины в процесс, можно дойти до того, что поверишь без причины в результат.
Мои слова заставляют ее умолкнуть, но ненадолго.
– То есть можно поверить в то, что вас вылечили, хотя на самом деле этого не произошло. Но ведь это же элементарно проверяется: либо к вам вернулась память, либо нет.
– Ну а представим, что я возьму да придумаю все.
– Собственное прошлое придумаете? – говорит она скептически.
– Некоторые люди все время так поступают. – Кажется, я ее поддразниваю, но, произнеся эти слова, невольно задумываюсь над ними.
– Да, но только для того, чтобы обманывать других. Они же наверняка сами знают, что лгут.
– Не думаю, что все так просто. Мне кажется, легче всего обмануть самого себя. Возможно, себя обманывать – это необходимое условие для того, чтобы обманывать других.
– О нет, – категорически возражает она. – Хорошему лжецу необходима отличная память. Чтобы других водить за нос, надо быть умнее их.
– По-вашему, никто и никогда не верил в собственные выдумки?
– Ну, может, верило несколько пациентов психбольниц, но больше – никто. Знаете, по-моему, большинство якобы чокнутых, которые выдают себя за других, на самом деле просто разыгрывают больничный персонал.
Какая категоричность! Кажется, я и сам когда-то был столь же резок в суждениях, хоть и не помню, где, когда и по какому поводу.
– Вы, очевидно, думаете, что врачей очень легко дурачить, – говорю.
Она улыбается. У нее безупречные зубы. Я ловлю себя на том, что пытаюсь оценить, охарактеризовать эту женщину. Она увлекает не завлекая, поглощает не заглатывая. Но, возможно, с тем же результатом.
Эбберлайн Эррол кивает:
– Вероятно, легко дурачить тех, кто пытается лечить мозги как мускулы. Скорее всего, таким врачам просто в голову не приходит, что пациенты способны намеренно вводить их в заблуждение.
Вот с этим я бы поспорил. К примеру, доктор Джойс считает делом профессиональной чести не верить до конца всему, что рассказывают пациенты.
– А мне кажется, – говорю, – что хороший психиатр всегда разоблачит пациента-шарлатана. Большинству просто не хватает воображения, чтобы как следует вжиться в роль.
У нее изгибаются брови.
– Возможно, – произносит она, пристально-невидяще глядя мимо меня. – А знаете, мне сейчас детство вспомнилось, когда мы…
В этот момент спавший напротив нее, положив руки на стол, а голову на руки, молодой человек приподнимается, откидывается на спинку стула и зевает и обводит бар мутным взором. Эбберлайн Эррол оборачивается к нему.
– А, проснулся, – говорит она этому костлявому парню с длинным носом и близко посаженными глазами. – Собрал наконец кворум нейронов?
– Да ладно, Эбби, завязывай стебаться. – Взглядом он добавляет в мой адрес: «А ты не пошел бы на…?» – Лучше добудь водички.
– Милый братец, хоть ты и скотина, но я-то не скотница! – отбривает она.
Он тупо рассматривает стол, весь в грязных тарелках и пустых стаканах.
Эбберлайн Эррол глядит на меня:
– Вы-то, конечно, не помните, есть у вас братья или нет?
– Увы и ах.
– Хм… – Она встает и идет к стойке бара.
Парень закрывает глаза и наклоняет стул назад, заставляя его покачиваться на двух ножках. Бар пустеет. Кое-где из-под столов торчат ботинки, свидетельствуя, что алкогольные экскурсы их владельцев в давнюю эпоху четырехногого передвижения пришли к ступорному финишу. Эбберлайн Эррол возвращается с кувшином воды, останавливается возле брата и плещет водой ему на лоб.
Молодой человек падает на пол, ругается, кое-как встает. Она вручает ему кувшин. Он пьет. Она наблюдает за этим со смесью веселья и презрения на лице. Все это время она курит длинную тонкую сигару.
– Мистер Орр, а вы вчера видели пресловутые самолеты? – спрашивает мисс Эррол, глядя не на меня, а на брата.
– Да. А вы?
Она отрицательно качает головой и пускает дым.
– Нет. Мне рассказывали, но я сначала решила, что это розыгрыш.
– А мне они показались вполне настоящими.
Ее брат опустошает и театральным жестом бросает себе за спину кувшин. Он разбивается о столик где-то в сумраке. Эбберлайн Эррол укоризненно качает головой. Молодой человек зевает:
– Устал. Пошли отсюда. А где папаша?
– В клуб ушел. Причем уже давно. Может, он уже дома.
– Ну и ладно. Пошли. – Он встает и направляется к лестнице.
Мисс Эррол глядит на меня и пожимает плечами:
– Извините, мистер Орр, но мне пора.
– Ничего, все в порядке.
– Было приятно с вами поговорить.
– Уверяю вас, это взаимно.
Она оглядывается на брата. Тот стоит на лестничной площадке руки в боки, ждет.
– Ну что ж, – смотрит она на меня, – может, у нас еще будет возможность продолжить беседу.
– Искренне на это надеюсь.
Она все же не спешит уходить. Она стройна, немного взъерошена, курит сигару. Она сгибается в глубоком ироничном поклоне, растопырив руки, пятится. По ее следу клубится серый дым.
Посетители разошлись. В баре «Дисси Питтон» остался в основном персонал. Эти люди гасят лампы, вытирают столы, подметают пол, достают из-под столов бесчувственные тела. Я сижу и допиваю вино. Оно теплое, терпкое, но я ужасно не люблю оставлять недопитые стаканы.
Наконец я встаю и узким коридором из последних непогашенных ламп иду к лестнице.
– Сэр!
Я оборачиваюсь: только что махавший шваброй бармен протягивает ко мне руку. В ней – широкополая шляпа.
– Это ваше. – Он даже встряхивает шляпу, чтобы я не перепутал ее со шваброй.
Я беру ее, заразу. Нисколько не сомневаюсь, что если бы дорожил ей как зеницей ока, следил за ней денно и нощно и боялся оставить ее в этом баре, то ее бы уже давно и след простыл.
В дверях швейцар больше не дремлет. Он прислонил Томми Буча к стене и пытается установить его личность и место жительства. Похоже, инженер Буч не в состоянии издавать какие бы то ни было внятные звуки. Его лицо приобрело ярко выраженный зеленый оттенок, и швейцару совсем нелегко удерживать моего знакомого в вертикальной позе.
– Сэр, вы знаете этого джентльмена? – спрашивает швейцар.
Я отрицательно качаю головой:
– Впервые вижу. – Сую шляпу между рук швейцара. – Но это – его, он забыл в баре.
– Спасибо, сэр. – Швейцар подносит шляпу к лицу инженера, чтобы тот ее разглядел (или чтобы ее разглядели они оба). – Сэр, смотрите, ваша шляпа.
– Блгдр-рю… – удается выговорить инженеру Бучу, прежде чем содержимое его желудка откочевывает в перевернутый головной убор. Хорошо, что у шляпы широкие поля – удивительно мало брызг пролетает мимо цели.
Я ухожу, охваченный странным ликованием. Неужели Буч получил именно то, что заказывал?
– Отсутствует?
– О, мистер Орр, поверьте, я вам совершенно искренне сочувствую, но доктора действительно нет.
– Но мне…
– Да, мистер Орр, я знаю, вам назначено. У меня и запись есть, вот здесь, видите?
– А в чем дело, собственно?
– Срочное собрание Административного совета первой подкомиссии ветеринарной комиссии. Это крайне важное мероприятие, и, вообще, у доктора сейчас очень горячие дни. Так много вызовов, знаете ли! Мистер Орр, вам ни в коем случае нельзя принимать это на свой счет.
– А я и не…
– Просто так вышло. Естественно, вся эта административная рутина мало кому по вкусу, но ведь и черную работу кто-то должен делать.
– Да, я…
– Его могли вызвать в любое другое время. Вам просто не повезло.
– Я понимаю…
– Вы ни в коем случае не должны обижаться. Убедительнейше прошу поверить: это просто досадная накладка.
– Да, конечно, я….
– И никакой связи с тем, что мы вчера забыли вам сообщить о переезде клиники. Это чистой воды случайность! С кем угодно могло быть! Просто не повезло именно вам. Клянусь, здесь абсолютно ничего личного.
– Так я…
– Вам не надо принимать это близко к сердцу.
– Я и не…
– Чашечку чая, мистер Орр? Или вы предпочитаете кофе?
Выходя из приемной, вспоминаю вчерашнее богатое событиями путешествие в L-образном лифте и решаю его повторить. Ищу огромное круглое окно и дверь в расположенную напротив него шахту.
Во мне растут досада и раздражение. Я больше часа блуждаю в сумраке под высоким сводом яруса, минуя ниши со слепыми статуями (увековеченных в бледном камне древних бюрократов), проходя под тяжело нависшими флагами (как помпезные паруса из грубой ткани на мачтах огромного темного корабля). Но круглого окна так и не обнаруживаю. Не нахожу и бородатого старца, и лифта. Зато мне попадается старший клерк. Судя по шевронам, это ветеран, отслужил лет тридцать, не меньше. Он удивленно пялится на меня и отрицательно мотает головой, когда я описываю лифт и седого лифтера.
В конце концов я сдаюсь. Мой врач едва ли похвалит меня за это.
Следующие несколько часов я трачу на хождение по маленьким галереям в незнакомой секции моста, далеко от моих излюбленных мест. Здесь тоже есть экспозиции, но нет экскурсантов, кроме меня. Их и не бывает, судя по обалдевшим лицам служителей. Меня ничто не радует. От всех работ веет усталостью и вырождением, картины – блеклые, статуи – бездушные. Но еще хуже, чем общее убожество экспонатов, на меня действует откровенная извращенность их создателей, словно сговорившихся искажать всеми мыслимыми и немыслимыми способами пропорции человеческой фигуры. Скульпторы придали своим изваянием диковинное сходство с элементами моста. Бедра превратились в кессоны, торсы – в кессоны или несущие трубы, руки и ноги – в напряженные балки и фермы.
Тела сделаны из клепаной стали, покрашены той же бурой краской, что и мост. Трубчатые фермы стали конечностями, срослись в уродливый конгломерат металла и мяса, порождая исключительно кровосмесительные или же онкологические ассоциации. У картин тот же лейтмотив: на одной мост изображен как шеренга уродливых карликов, которые стоят, взявшись за руки, в кровавой клоаке; другая показывает целостное трубчатое сооружение, но с петляющими, выпирающими через охряную поверхность венами, и из-под каждой заклепки сочится кровь.
Под этой частью моста островок, один из тех, которые поддерживают каждую третью секцию.
Островки схожи только размерами и местоположением. И форма, и история у каждого свои. Некоторые – в червоточинах старых копей и пещер, на других полно разрушающихся бетонных глыб и цилиндрических колодцев, похожих на артиллерийские огневые точки. Отдельные островки хранят на себе руины зданий – не то наземных шахтных построек, не то древних заводов. У большинства есть бухточки или эспланады на мысках, и лишь единицы лишены следов человеческого обитания – это всего лишь комья земли, прячущиеся под травой, кустарником и зелеными водорослями.
Впрочем, у них есть тайна, одна на всех: как они здесь оказались и для чего служили раньше. На первый взгляд это природные образования, но все вместе, лежащие на одной прямой, они выдают себя, и эта неестественная упорядоченность интригует даже сильней, чем мост, основаниями которому они служат.
Возвращаясь домой на трамвае, бросаю из окна монетку; она блестит в полете к морю. Кидают монеты и еще двое пассажиров. В моей голове ненадолго возникает абсурдная картина: воды под мостом постепенно заполняются выброшенной мелочью, монетаристские останки растраченных желаний формируют верхний, как на дрожжах растущий слой осадочных пород, и в конце концов к полым стальным костям места подступает монолитная денежная пустыня.
У себя в квартире, прежде чем лечь в постель, я смотрю на человека на больничной койке, вглядываюсь в мутное серое изображение так напряженно и так долго, что сам себя едва не гипнотизирую этим статичным образом. Я врос в вечернюю мглу, мой взор неподвижен, и кажется, я вижу не фосфоресцирующее стекло, а блестящий металл, силюсь прочесть письмена, отчеканенные или вырезанные на шероховатой стальной плите.
Я жду, когда зазвонит телефон.
Я жду, когда вернутся самолеты.
Появляется медсестра, та самая медсестра, опять с металлическим подносом. Чары разрушены, иллюзия экрана как стальной плиты развеяна.
Медсестра готовит шприц, протирает руку больного. Я дрожу, словно это мою кожу холодит спирт. И не только по руке бегут мурашки – по всему телу.
Я спешу выключить телевизор.