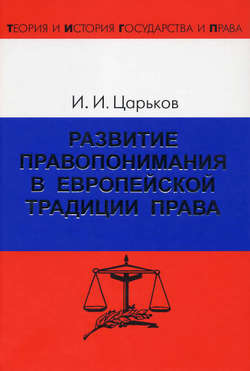Читать книгу Развитие правопонимания в европейской традиции права - Игорь Царьков - Страница 3
Глава 1
От приказа-повеления к праву
ОглавлениеСуждения о том, что средневековая политико-правовая мысль была глубоко теологичной, что правовое знание было служанкой теологии и, следовательно, не имеет никакой теоретической и практической ценности для современности, являются наследственными заблуждениями эпохи Возрождения и Нового времени. Многие современные авторы на этот счет изменили свою точку зрения и считают, что средние века были важным формообразующим периодом в развитии политического устройства европейского сообщества[1]. То, что правовое знание в средние века развивалось в рамках теологической концепции сотворения мира Богом, – неоспоримый факт, но то, что право служило только лишь теологии и отсутствовало светское пространство права, – является чрезмерно категорическим суждением. Заблуждением будут также суждения о том, что «титаны» Возрождения и просветители полностью отказываются от средневекового наследия и прерывают научную правовую традицию. Большая ошибка принимать за чистую монету высказывания тех писателей, которые заявляли о решительном разрыве с прошлым. Несмотря на то, что европейские мыслители как эпохи Возрождения, так и Нового времени часто противопоставляли себя средневековым христианским авторам, по идеологии они стояли ближе к своим оппонентам, нежели к античным философам. Дело в том, что именно в период средневекового «правового ренессанса» XII–XIII вв. были сформулированы правовые понятия, которые до сих пор используются в политико-правовом знании, а сама теология подсказала средневековым мыслителям идею универсального правопорядка.
В период «правового ренессанса» стали складываться такие элементы научности юридического знания, как формализация юридического материала (формулирование общетеоретических понятий, содержание которых независимо от изменяющейся практики), отделение теоретического знания от практического и представление о теории как самодостаточной форме знания, осознанное использование единого метода правового анализа и синтеза.
Более того, О. Марквард справедливо отмечает, что «уже средневековье было новым временем до эпохи Нового времени»[2] в том смысле, что христианская теология была определенным способом преодоления гнозиса – учения об эсхатологическом уничтожении мира богом в силу его (мира) изначальной испорченности (миф о грехопадении и миф о конце мира). В задачу христианских богословов, как в последующее время просветителей, входило оправдание (обоснование) «необходимой меры зла» в мире. Но если, как справедливо считает О. Марквард, средневековая теология оказалась неудавшейся попыткой создания различных теорий поддержания (сохранения) мира «посредством теологии творения, т. е. теории внешнего поддержания мира», то Новое время изменило тактику и оправдывало «необходимую меру зла» в мире «различными теориями самосохранения»[3], то есть посредством стратегии самоутверждения человека. Другими словами, для средневековых мыслителей оказалось невозможным теоретическое разрешение парадокса сотворения всеблагим существом (Богом) мира, в котором присутствует «мера зла».
Христианское учение о сотворении мира Богом, с одной стороны, создавало условие для понимания сущности человека как свободного существа, тем самым предоставив возможность разговора о праве, в отличие от разговора о законе, с другой – свободу индивида поставило в зависимость от внешнего трансцендентного источника (Бога). Этим создалось самое продуктивное противоречие – противоречие между свободой и необходимостью, которое, требуя своего разрешения, продуцировало новые противоречия.
Космологические воззрения (учения о возникновении мира), несмотря на их удаленность от проблем повседневной жизни, тем не менее оказывали прямое воздействие на представления человека о себе и об обществе.
В дохристианскую эпоху космологические концепции, бытовавшие в древней и античной цивилизациях, были принципиально иными, нежели христианское учение о сотворении мира Богом.
Для древних обществ акт возникновения мира связывался с актом рождения. Первочеловек рождает все существующее, как женщина рожает ребенка, а корова – теленка. Главное действующее лицо – прачеловек как мифический прародитель, являющийся источником вещей и социальных норм. Акт биологического рождения был как фактической, так и нормативной составляющей социального бытия. Социально-правовой статус индивида зависел от случайности рождения – где, когда и кем родился. Знание о социально должном сводилось к знанию о месте, времени и условиях рождения. Справедливым считалось воздаяние должного в зависимости от факта естественного рождения. Несправедливым – требование человеком сверх меры того, что ему было положено в зависимости от случайности рождения: младшему не положено то, что положено старшему. Политико-правовые отношения мыслились по аналогии с кровно-родственными отношениями, и в основании общесоциальной модели лежала модель семьи, в границах которой вопрос о свободе и равенстве не имел смысла: индивиды зависимы от своих родителей, а общество в целом от прародителя; равенства не может быть, поскольку естественно, что каждый рождается в определенное время, в определенном месте и у определенных родителей – младший не может быть равен старшему, крестьянин – воину, одна общность людей – другой. Главной познавательной проблемой в древности являлась проблема справедливой кооперации несвободных и неравных людей. Решение данной проблемы ставилось в зависимость от действий конкретного лица – «благородного человека», который, обладая соответствующими качествами, своими собственными усилиями консолидирует общество – творит добро и устраняет зло. Вся полнота ответственности возлагалась на это лицо. Оно обладало абсолютной властью и несло всю ответственность за происходящее в обществе. Причем было абсолютно несущественно, как толковалось понятие «благородного человека»: то ли благородного по рождению – рожденного властвовать, то ли благородного как обладающего нравственными качествами (Конфуций), суть от этого не менялась. Главным оставалось одно и то же – действия лица на достижение социальной справедливости, поэтому главным вопросом древних обществ был вопрос «Что делать?», а вопрос «Что необходимо знать?» сводился к первому. Социальная истина и истина вообще в контексте вопроса «Что делать?» трактовалась как нечто несокрытое, как нечто непосредственно наблюдаемое и переживаемое. Истина не открывалась при помощи дополнительных умозрительных (интеллектуальных) средств, а запоминалась. Закон же в контексте вопроса «Что делать?» означал исключительно приказ-повеление суверена[4].
Картина о социально справедливом начинает меняться, когда в античный период меняются космологические воззрения. Создатель уже не прачеловек, а демиург-ваятель, создающий формы из бесформенной первоматерии. Создатель-ваятель, откалывая лишние части от грубой глыбы, создает прекрасную фигуру – из хаоса создается космос. Знание о мире – это знание форм, в которых существует космос. Знание форм – это и знание о должном (этика) и прекрасном (эстетика). Знание форм гарантирует знание о добре и зле. Разум откалывает лишние части от бесформенной человеческой, полной вожделений (необузданных желаний) души, придавая им законченную (законную) форму, и если человек совершает зло, то это происходит в силу его собственного заблуждения – незнания истинных форм общественной жизни. Справедливость ставилась в зависимость не от действия конкретных лиц, а от знания форм общественной жизни (многообразие форм древнегреческих полисов) и профессиональной, а не родовой дифференциации общества. Познавательная ситуация о социально справедливом изменилась коренным образом. Требовалось обосновать кооперацию уже равных, но еще не свободных людей, поэтому не действия конкретных лиц создают условия для справедливости, а политические институты, главными из которых были социальный институт дифференциации общества по профессиональному признаку и институт власти. Люди, обладающие потенцией к познанию истинных форм общественной жизни, объединяются на основании Закона, и социальная справедливость достигается в справедливо обустроенном обществе.
Именно в древнегреческую эпоху начинает складываться собственно политический дискурс как разговор равных людей о равенстве. Поль Рикер напрямую связывает историю политической культуры с древнегреческой культурой, отмечая, что в это время сложилась тройственная структура политического языка: «я» – «ты» – «третий», или «любой». Двойственная структура языка «я» – «ты» недостаточна для аутентичного общения равного с равным. Над языком межличностного общения (лицом к лицу) надстраивается дуальная структура языка: «свой» – «чужой» – язык замкнутого опыта межличностного общения. Политическая философия наступает тогда, когда, как пишет П. Рикер, «она затрагивает такое состояние, при котором отношение с другим, раздваиваясь, уступает место опосредованию институтами»[5]. Опосредование общения безличностным элементом «любой» разрывает тесное переплетение судеб «я» и «другого», устанавливая условия неограниченной коммуникации агентов на протяжении всего процесса их совместной деятельности. Условием бесконечной коммуникации для греков стала полития как безличностный институт власти, в который вовлечены все, т. е. «любой». Отправление власти – удел не отдельных лиц, а всех. Форма полиса (правления) – это безличностный институт власти, и как Платон, так и Аристотель работали над темой наилучшей формы организации полиса, т. е. публичного правопорядка.
Несомненной заслугой античной социальной мысли является идея разделения частных и публичных правоотношений. Первые – это непосредственные межличностные отношения (лицом к лицу) – продавец – покупатель, вторые – внеличностные отношения, отношения, опосредованные Законом. Идея Номоса (Закона) возникла в Древней Греции с реформами Солона и означала «определенный закон, в соответствии с которым карается нарушение правового порядка»[6], т. е. преступлениями являются не произвол против личности или рода, а произвол против общности в целом. Закон в данном случае выглядит уже не как приказ-повеление конкретного лица, а как общее правило поведения – правило для всех (любого), т. е. Закон определяет общие условия (обстоятельства), при которых возможно то или иное поведение и тот или иной личностный статут. Таким образом, в античном законодательстве акцент ставился на условиях возможности действовать, а не на форме поведения. Условия есть внешние, не зависящие от воли конкретных лиц общие и безличностные факторы поведения. Именно в силу такого определения понятия Закона интерес древних греков к судопроизводству проявлялся в той части, которая относилась к вопросу о подведении единичного случая под общее правило и справедливому определению решения суда, т. е. соответствие приговора обстоятельствам и действиям, разбираемым в суде.
Когда Аристотель разделил равенство на два вида: арифметическое (уравнивающее) и геометрическое (распределяющее), отнеся первое к частным правоотношениям, а второе к публичным, он хотел отразить именно такое состояние общества, члены которого соучаствуют в общем деле на основании Закона, а не приказа-повеления. В основании Справедливости, а следовательно, и Закона, лежит идея распределения, которая отражает иную плоскость, нежели идея разделения – разделения на «своих» и «чужих». Распределение выражает два аспекта; один – это участие в социальных установлениях, другой – признание за каждым человеком права индивидуального участия в системе распределения как материальных благ, так и социальных: государственных должностей и почестей. Частноправовой оборот распределяет материальные блага, он зависит от личной воли агентов оборота, и эти агенты различаются не по статутам, а по профессиям – равный вступает в отношения с равным. Поэтому в частном праве при обмене материальных благ равное обменивается на равное, как «судья уравнивает по справедливости, причем так, как геометр уравнивает отрезки неравно поделенной линии»[7], поскольку несправедливо, если между равными будут распределяться неравные доли. Справедливость публичного права зависит от личных качеств агентов правоотношений: их чести, достоинства, профессионализма, чувства ответственности; «распределяющее право, – пишет Аристотель, – должно учитывать известное достоинство»[8], другими словами, права человеку должны предоставляться в соответствии с мерой его общественной пользы, т. е. если некое лицо занимает публичную (государственную) должность, то мера его ответственности, как и тяготы, выпадающие на его долю[9], несравнимо больше, нежели мера ответственности и тяготы простого частного лица, следовательно, он должен обладать и большими правами.
Разделение публичного и частного правопорядков отражало существенную правовую мысль. Во-первых, любой полноправный член полиса существует в двух «измерениях» – публично-правовом и частноправовом. Во-вторых, в процессе жизнедеятельности никто не имеет права смешивать эти правопорядки, т. е. менять их местами. Другими словами, выступая как должностное лицо, индивид не имеет права использовать свои полномочия в личных целях, и если лицо вступает в частноправовые отношения, то оно не имеет права требовать себе «больший отрезок» только на том основании, что оно является государственным деятелем[10].
К этим формулам, определяющим два вида равенства, Аристотель добавляет третью – формулу пропорционального равенства. И это не случайно. Двух формул недостаточно, чтобы отразить идею справедливости в безличностной форме. Содержательный личностный аспект в них сохраняется. Так, при обмене продавец может продать одну и ту же вещь одному покупателю дешевле, другому дороже, поскольку один ему понравился, другой нет. На распределение государственных должностей и определение полномочий также могут влиять межличностные связи – демос может требовать для своего представителя одних полномочий, а аристократия для своего представителя – других. Поэтому идея пропорционального равенства, которую Аристотель выразил в математической форме: «…как член "а" будет относиться к "в", так и "с" – к "d", соответственно, в другом порядке»[11], в применении к праву означала, что ни одно лицо не может пользоваться большими правами, нежели другое лицо в аналогичной ситуации.
В частном праве эту формулу можно истолковать следующим образом. Если одно лицо при соответствующем обмене получает определенную меру благ, то другое лицо не имеет права рассчитывать на большее благо при аналогичном обмене. В публичном праве она толкуется несколько иначе. Лицо, занимая публичную должность, не может произвольно требовать для себя бо́льших полномочий, нежели полномочия, которыми обладало другое лицо, занимая ту же самую должность.
Как легко заметить, к идее справедливого распределения Аристотель подошел с формальной точки зрения. Он описывает общие (абстрактные) условия, при которых индивид действует так, как это возможно, и пользуется тем, на что он сам способен. Идея равного распределения строго формальна, она отражает безличностный элемент общения, в отличие от содержательной идеи равного распределения догреческих культур: «каждый имеет право на ту долю богатства и счастья, на которую имеют право все».
Античные авторы, как правило, различали формы правления не только по общему организационному принципу: правление одного, немногих и большинства, но и по мере отношения их к справедливости в рамках одного организационного принципа – бывают правильные и неправильные государства. На принципе единоначалия (правление одного) может восторжествовать как правильное государство – монархия, так и неправильное – тирания. Последняя отличается от первой тем, что тиран использует власть в своих частных интересах, смешивает публичное с частным. Но не это самое главное. Главное в том, что тиран не способен издавать законы, из-под его пера выходят только приказы-повеления. «…Монархия же, – пишет Платон, – скрепленная благими предписаниями, которые мы называем законами (курсив мой. – И. Ц.), – это вид, наилучший из всех шести; лишенная же законов, она наиболее тягостна и трудна для жизни»[12].
Для древних греков проблема разделения частного блага и общественного была чрезвычайно актуальной. В реальной общественной жизни достаточно сложно уловить грань, за которой общественный интерес политического деятеля переходит в его личный интерес. Общественные деятели могут руководствоваться как мотивами общественной пользы, так и личной. Афинская демократия достаточно легко расставалась с достойными людьми, подвергая их процедуре остракизма[13] – изгнания из Афин. На голосование Народного собрания выдвигались кандидатуры не тех, кто нанес вред афинскому обществу, а тех, кто принес пользу. Из Афин был изгнан знаменитый полководец Фемистокл, создавший афинский флот и выигравший морское сражение у персов при о. Саламин. В этом можно уследить обостренную интуицию греческой справедливости, которая подсказывала им, что политическое лицо, стремящееся к славе и почестям перед лицом своих сограждан, выигрывая для них военные сражения, создавая флот, строя укрепления или публичные здания, может преследовать вовсе не общественную пользу. За всем этим может скрываться личный интерес – слава и почести, который приводит к тирании, «лишенной законов и наиболее тягостной и трудной для жизни».
Отличие Закона как общего правила поведения от приказа-повеления проявилось в изменившемся законотворческом стиле. Законотворческий стиль древних (доантичных) источников права был предельно унифицирован. Как законы Ману, Хаммурапи, так и Русская Правда, несмотря на их отличия по содержанию, написаны как бы одной рукой.
В качестве примера можно привести, произвольно выбрав любые статьи из этих источников. Все статьи предельно лаконичны и в основном содержат описание действия и санкцию. «Если в доме человека вспыхнет огонь и человек, пришедший тушить его, обратит свой взор на пожитки хозяина и возьмет (себе что-нибудь) из пожитков хозяина дома, (то) этого человека должно бросить в этот огонь»[14]; «Жена, сын, раб, ученик и родной брат, совершивший проступок, могут быть биты веревкой или бамбуковой палкой»[15]; «Если же кто обнажит меч, но не ударит (им), то он положит гривну»[16].
Законотворческий стиль древнего права ничем не отличался от общего стиля нормативного языка. Так, например, в древнекитайской книге «Ли-цзи» («Записки о ритуале») содержится подробное предписание молодым людям о том, как следует вести себя дома: «Придя к ним (родителям), они скромно, веселым тоном спрашивают, теплая ли у них одежда. Если родители страдают от болезни, от нездоровья или несварения желудка, сыновья почтительно протирают им больную часть тела. Когда родители выходят, сыновья и их жены сопровождают их спереди и сзади. Они несут все, что нужно, чтобы родители помыли руки, причем младший держит таз, а старший кувшин с водой…»[17] Легко заметить, что в обоих случаях (законодательном и бытовом) главным является описание необходимого действия без учета обстоятельств, при которых может быть совершено действие.
Греки и римляне о социально должном стали говорить по-иному и писать законы по-иному. Платон диалог «Государство» начинает с анализа понятия «справедливое» и путем приведения к противоположному опровергает все те определения, которые в своем основании имели конкретную форму поведения, доказывая тем самым, что справедливое не обнаруживается в поступках людей[18]. Главный вывод Платона – справедливость не содержится в действиях людей, поскольку «одно и то же действие бывает подчас справедливым, а подчас и не справедливым»[19].
Первыми, кто акцентировал внимание на этом обстоятельстве, были софисты. Как учителя искусства спора они демонстрировали, что «один и тот же поступок и хорош, и плох, в зависимости от того, к чему он относится»[20]. Отточенная софистическая техника позволяла им, манипулируя обстоятельствами, доказывать в судах различные точки зрения на действия людей[21]. Оказалось, что оспаривается не сам поступок – был он совершен или не был, а условия, при которых он был совершен.
Оценка действий, которая не учитывает условия, при которых было совершено действие, не может считаться справедливой оценкой. В силу этого изменяется и стиль законотворчества. Гай пишет, например: «Итак, уже по закону Элия Сенция рабы, отпущенные на волю в возрасте, меньшем тридцати лет, и сделавшиеся латинскими гражданами, приобретают римское гражданство после того, как они женятся или на римских гражданках, или на латинянках, поселившихся в колониях, или на женщине того же состояния, какого они сами, и засвидетельствуют брак в присутствии совершеннолетних римских граждан, в числе, не меньшем семи, и после того как сыну, которого они приживут, будет год. По упомянутому закону такой латин имеет право обратиться к претору, а в провинции – к наместнику и доказать, что он латин, женат по закону Элия Сенция и что у него от жены годовалый сын, и если претор или наместник заявят, что дело доказано, то и сам латин, и жена его, если она того же состояния, что и муж, и их сын, если и он того же состояния, признаются, согласно приказу, римскими гражданами»[22]. Данный отрывок ясно свидетельствует, что получение римского гражданства зависит не от приказа-повеления суверена, а от выполнения общих и необходимых условий, наступление которых доказывается в судебном порядке. «Восстановление в прежнем состоянии, – пишет римский юрист Юлий Павел в "Пяти книгах сентенций к сыну", – претор дозволяет по таким причинам: если доказано, что нечто сделано из страха, вследствие обмана, перемены статуса, из-за непреднамеренной ошибки, необходимого отсутствия»[23].
В соответствии с обычным построением речи защитники в римском судопроизводстве высказывались: «Обвинение предполагает наличие преступления, чтобы можно было изложить обстоятельства дела, дать им название, привести доказательства, подтвердить показания свидетелями» (narratio, causae constitutio, probatio, refutatio)[24]. Речи Цицерона в суде построены в соответствии с данной формулой, так что обвинения он опровергает не на основании того, что его подзащитный не совершал тех или иных действий, а на основании того, что его действия невозможно квалифицировать как преступные действия. Являются ли, например, тесные дружественные отношения с заговорщиком основанием для обвинения в заговоре? Подобный вопрос как раз предполагает, что само понятие заговора в законодательстве описано не как конкретная форма поведения, а как некие общие условия, наступление которых доказывается в судебном порядке, и суд в данном случае есть не что иное, как состязательный процесс сторон, каждая из которых доказывает наступление или ненаступление условий, при которых действия можно квалифицировать тем или иным образом.
Для древнего судопроизводства, пожалуй, главным была не проблема causa constitution & probatio – подведения частного случая под общее правило, а исключительно только доказательство совершения преступления конкретным лицом посредством свидетельских показаний. Действительно, можно представить, как бы происходило разбирательство дела, предположим, по ст. 7 Русской Правды: «Если же (кто) отсечет (кому-либо) какой-нибудь палец, то (платить) 3 гривны вознаграждения потерпевшему»[25]. В отсутствие юридических дефиниций судья мог бы применить статью, только используя свидетельские показания о совершении данного деяния конкретным лицом. Судья в данном случае есть непосредственный исполнитель приказа-повеления суверена, а судебный процесс в целом – есть удовлетворение пострадавшего.
Требовать справедливости, с точки зрения древнего человека, – требовать наказания обидчика. Справедливо, если истец удовлетворен. Удовлетворение или неудовлетворение истца мерой возмещения служили основанием как прощения долга, так и непризнания законным решения суда. Институт мести древнего права являлся институтом, во-первых, личного удовлетворения истца; во-вторых, институтом межличностного общения истца и ответчика. Мстят конкретному лицу или группе лиц за конкретный вред, причиненный конкретному человеку или конкретной группе лиц. Поэтому главная задача древнего законодательства – это унификация санкций: «Каждый имеет право на ту меру возмещения убытков, вне зависимости от обстоятельств, на которую имеет право любой». «Если мушкенум ударит (по) щеке мушкенума, то он должен отвесить 10 сиклей серебра»; «Если эта женщина умрет, то (он) должен отвесить 1/2 мины серебра»; «Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и причинит смерть (этому) человеку или снимет бельмо человека бронзовым ножом и повредит глаз человека, (то) ему должно отрезать пальцы»[26]. Основной акцент данных статей указывает на единообразие санкций без учета обстоятельств, при которых было совершено противоправное действие.
В свое время Ш. Л. Монтескье обращал внимание на жестокость японского законодательства XVIII в., отмечая, что «там наказывают смертью почти за все преступления»[27]. Французский просветитель делает правильный вывод из этого: «Цель наказания не в исправлении виновного, а в отмщении (удовлетворении. – И. Ц.) государя»[28]. Действительно, важно не только то, что законодательство чрезмерно жестоко, а то, что санкции предельно унифицированы, одно и то же наказание «почти за все преступления», потому что нет разницы, какой приказ нарушен. Любой приказ – это приказ суверена. Как нет, собственно, разницы, какой обычай нарушен. Любой обычай – это обычай. Древнее законодательство не знало понятия «степень общественной опасности».
Требовать справедливости в соответствии с античным правом – требовать возможности доказательства своей правоты в судебном порядке. Суд в данном случае выступает не как институт межличностного общения, а как безличностный институт правопорядка. Из структуры правовой нормы античного права постепенно исчезает санкция. Но даже там, где она используется, чаще всего санкция имеет альтернативную форму: «Более тяжким (проступком), чем самовольная отлучка, считается оставление караула. В зависимости от обстоятельств он подвергается телесному наказанию или разжалованию»[29]. Невозможно законодательно строго определить конкретную санкцию, поскольку единичные случаи всегда больше по содержанию, нежели общее правило, и иногда поэтому необходимо принимать решения голосованием. «…Законы, – пишет Аристотель, – приходится излагать в общей форме, человеческие же действия единичны»[30].
В суде оспаривается законность или незаконность единичных действий. В соответствии с нормой римского права судебный процесс мог начаться, только если ответчик оспаривал законность иска заимодавца. Кредитор мог у должника по законному самоуправству взять в залог с целью, чтобы должник выкупил залог и рассчитался. Судебный процесс начинался тогда, когда должник оспаривал законность действий кредитора, т. е. именно должник должен быть истцом. Р. Иеринг вполне обоснованно усматривает в этой норме римского права условия равных возможностей истца и ответчика[31].
Оказалось, что законотворчество и судопроизводство – это два совмещающихся сосуда. Каков законотворческий стиль, таков и стиль судопроизводства. Если Закон есть приказ-повеление, то суд – исполнитель этого повеления. Если Закон есть общее правило поведения, описывающее условия, при которых возможны те или иные действия, то суд – состязательный процесс.
Известно, что в древних цивилизациях закон и справедливость не отождествлялись. Вопрос «Как судить? По закону или по справедливости?» говорит о том, что между законом и справедливостью ставился знак неравенства. Закон не оправдывался нравственно. В древнекитайском языке один и тот же иероглиф обозначал и закон, и нож. Нож (закон) разрезает живое на части, убивает живое. Конкуренцию между законом и обычаем в древних цивилизациях можно объяснить тем обстоятельством, что закон и обычай полностью перекрывали друг друга, и тот и другой говорили об одном и том же, поэтому сложилась строгая дизъюнктивная форма отношения – «либо закон, либо обычай».
Обычай излагался в той же самой форме, как и закон, и закон излагался так же, как и обычай. По форме обычай – это тот же приказ-повеление, он требовал не просто уважения детей к родителям, а предписывал, в чем и как конкретно должно проявляться уважение: протирать больную часть тела, идти спереди и сзади, младшему держать таз, а старшему – кувшин с водой и т. п. Таким же способом излагался и закон. Поэтому вряд ли можно было ожидать примирения обычая и закона. Дискуссия конфуцианцев и китайских легистов об источниках справедливого демонстрировала, что нет общего основания для примирения. Первые настаивали на обычае, вторые – на законе. Но не следует, наверное, считать, что легисты нравственно оправдывали закон и ставили его выше обычая. Скорее всего легисты отстаивали закон как исключительную и эффективную меру в период государственных смут. История показала, что в Поднебесной верх одержала конфуцианская идеология.
Знание обычаев, предписывающих конкретные формы поведения, гарантирует людям устойчивость и прогнозируемость их жизни, поэтому Конфуций говорил: «Я разбираю тяжбы не хуже других, но надо, чтобы тяжбы не велись»[32].
Античная культура нравственно оправдывала закон, подчинение закону не только считалось целесообразным, но и являлось моральной обязанностью индивида. Закон в античные времена уже не противопоставлялся обычаю, он просто, в отличие от обычая, говорил о другом – об условиях возможных действий.
Таким образом, сделав предметом своего интереса не форму поведения, а условия, при которых совершается то или иное действие, античная юриспруденция заложила основы для систематизации юридических норм. Разделяя и объединяя группы условий, античные юристы впервые стали их классифицировать по родам и видам. Древнее же законодательство объединяло нормы в достаточно произвольной форме.
Определив новые критерии Закона и судопроизводства, античные мыслители справедливость как первого, так и второго напрямую связывали с вопросом справедливой формы правления. Аристотель отмечает, что при обсуждении государственного устройства какого-либо полиса необходимо учитывать «во-первых, соответствуют или не соответствуют их законоположения наилучшему государственному строю; во-вторых, заключается ли в этих законоположениях что-либо противоречащее духу и основному характеру самого их строя»[33], т. е. источник законодательной и судебной справедливости содержится в форме правления.
Средневековых мыслителей, при всем их уважении к Платону и Аристотелю, мало волновал вопрос о справедливой форме организации власти. Для них принципиальный вопрос заключался в другом – в обосновании ограничения власти. Именно в средние века рождается идея права как идея ограниченных полномочий. В отношении данной идеи суждение О. Макварда, что средневековье было новым временем до Нового времени абсолютно справедливо, но следует учесть, что если средневековые мыслители эту задачу решали, постулируя внешний, трансцендентный источник ограничения полномочий (Бога), то мыслители Просвещения использовали идею взаимоограничений свободных индивидов.
Идея права как ограниченных полномочий распространялась в средние века и на политическую власть, и на позитивное право (законы). Как первое, так и второе должны соответствовать более широким и внешним по отношению к ним критериям. В противном случае государство не отличить от «шайки разбойников», а законы – от произвола. Изречение бл. Августина «Государства без справедливости – что это, как не большие банды разбойников?» имело уже совсем иное значение, нежели в античной юриспруденции.
Для античного правопонимания идея политики связывалась исключительно только с правом каждого участвовать в распределении государственных должностей, т. е. с правом каждого участвовать в политическом управлении. Даже в аристотелевской модели наилучшей формы правления – политии – принцип смешения «монархического», «аристократического» и «демократического» элементов («монархический» – единоличная власть стратега, «аристократический» – коллегиальная законодательная власть немногих, но лучших, «демократический» – власть суда присяжных малоимущего большинства) имел значение распределения государственных функций между всеми основными слоями населения полиса, но ни в коем случае не означал принцип разделения властей как института, ограничивающего власть государства. Несомненно, для античных мыслителей было ясно, что государство должно соответствовать справедливости, но они ни в коей мере не связывали ее с идеей ограниченных полномочий.
Это просматривается на значениях, которые придавались латинским терминам юридического языка – jus (право) и lex (закон). Термин jus римляне не противопоставляли термину lex, а употребляли его, во-первых, для обозначения совокупности действующих норм – jus naturale (нормы естественного права), jus civili (нормы гражданского (государственного) права), jus gentium (нормы права народов); во-вторых, даже тогда, когда они придавали этому термину значение права совершать лицами те или иные действия, то и в этом случае право лиц основывалось на законе (lex), а не на общих внепозитивных принципах права. В «Институциях» Гай в отношении права рабовладельца отпускать на волю раба пишет: «Не всякий желающий может отпустить на волю раба. Отпущение раба на волю во вред кредиторам или патрону не имеет силы…» Казалось бы, что в данной части этого правила можно усмотреть правовой принцип свободной воли собственника, ограниченной свободной волей другого собственника, но… Гай дополняет: «…так как закон Элея Сенция уничтожает свободу»[34]. В дошедших до нас «Фрагментах» Домиция Ульпиана можно обнаружить ту же мысль: «Латины – это те отпущенники, которые отпущены не согласно с законом, как, например, в присутствии друзей, если этому не препятствовали никакие правовые нормы; некогда претор защищал видимость их свободы, ибо согласно праву они оставались рабами. Теперь же они свободны и по праву благодаря закону Юния (курсив мой. – И. Ц.), по которому отпущенные в присутствии друзей именуются латинами-юнианами»[35]. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что «принцип равенства, пожалуй, основной в античном правопонимании. Но равенство признается только в рамках коллектива, сообщества свободных (относительно свободных. – И. Ц.) и равных людей. И именно коллектив, а не отдельный человек, который еще не осознавался как автономная личность, является носителем права. Идея индивидуальной свободы и, соответственно, субъективного права в период античности сложиться не могла»[36].
Зависимость индивида от общества в античности была настолько очевидной, что существенно влияла на судебную практику. Больше шансов на успех в судебном разбирательстве имел тот, кто больше пользы принес обществу. Для этого необходимо было предъявить суду присяжных доказательства своих заслуг перед обществом, т. е. лучшее средство выиграть процесс заключалось не столько в том, чтобы установить свое юридическое право, сколько в том, чтобы выставить себя превосходным гражданином, охотно уплачивающим налоги, отправляющим военную службу и несущим тяжелые материальные затраты в пользу государства. Всякая защитительная речь в суде состояла из двух частей: в первой обсуждалось само дело; во второй превозносились собственные гражданские достоинства. Вот типичный пример второй части защитительной речи на судебном процессе: «Я снаряжал триеры пять раз, четыре раза участвовал в морских сражениях, налогов во время войны я платил много и вообще все повинности исполнял не хуже других граждан. Но я нес расходы в большем размере, чем требовало государство, с той целью, чтобы этим заслужить в ваших глазах славу доброго гражданина и в случае какого несчастья выступить в суде с большей надеждой на успех»[37]. И если другой стороне на это нечего было представить в качестве доказательства своих заслуг перед обществом, то можно было не сомневаться, что процесс выиграет автор монолога. В процессе о наследстве афинский политик Иссей говорит следующее: «Следует рассмотреть, что представляют собой обе стороны. Фрассип… ревностно платит налоги и отправляет государственные повинности (литургии); его сыновья покидали Аттику только затем, чтобы идти на войну… и, как всем известно, представляют собой образцовых граждан. Следовательно, у них больше оснований, нежели у Хариада, требовать имущество Никострата. Действительно, когда Хариад жил здесь, он был посажен в тюрьму за воровство; он вышел из нее только по вине некоторых должностных лиц… замешанный после того в другом деле, он уехал за границу, где оставался шестнадцать лет, и вернулся только после смерти Никострата. Он ни разу не сражался за вас, не платил никаких налогов и не исполнял литургий. И этот человек хочет завладеть имуществом других»[38]. Дело выиграл Фрассип, причем присяжные в данном случае могли в процессе судебного разбирательства откровенно выражать свои симпатии Фрассипу, возгласами перебивая выступление другой стороны.
Действительно, создавая свое законодательство на идее равенства, но без дополнения ее принципом индивидуальной свободы, римские юристы не мыслили законодательство находящимся под критикой высших, внепозитивных критериев. Античное правопонимание не могло представить человека вне общества. Свобода индивида ограничивалась не волей Бога (средние века) и не свободой другого индивида (Новое время), а социально-политической структурой общества. Поэтому как для древнегреческой юриспруденции, так и для древнеримской в большей мере подходит общая позитивистская формула: «Любое содержание может стать законом».
Средневековье изменяет правовую стратегию. Как уже было сказано, формула бл. Августина «Государство без справедливости – банда разбойников» принимает иное звучание. «Банда разбойников» насилием устанавливает правила поведения для лиц, не входящих в ее состав, и для них «любое содержание является законом». Общество, не санкционирующее меру независимости индивида, и государство, не ограниченное мерой свободы индивида, ничем не отличаются от банды разбойников.
Свобода воли индивида, определяющая меру независимости его от общества, – вот главное, что волновало умы средневековых мыслителей. «Вопрос о свободе воли был одним из тех вопросов средневековой мысли, в котором тесно переплеталась религиозная и юридическая проблематика»[39], и, начиная с бл. Августина (354–430), эта тема не сходила со страниц богословских и юридических трактатов.
Спор о свободе человеческой воли начался между бл. Августином и британским монахом и теологом Морганом Пелагием (360–420) и велся по поводу толкования понятия свободы. Первое толкование (Пелагий) опиралось на понимание двухуровневой свободы. Первый уровень – естественная свобода как право индивида сопротивляться насилию, защищать себя любыми средствами. Впоследствии эпоха Просвещения назвала такую свободу «негативной свободой» в силу того, что она ведет к анархии и самоуничтожению человечества. Второй уровень – гражданская свобода, которая «является той мерой естественной свободы, которая может быть предоставлена каждому отдельному индивиду с учетом совместного проживания множества людей»[40]. Быть свободным – значит исполнять нормы позитивного права.
С точки зрения бл. Августина, этого недостаточно для аутентичного понимания свободы, поскольку в данном случае «государство не отличить от банды разбойников». В силу этого Августин добавляет третий уровень свободы – моральный. Человек свободен, если он беспристрастно выполняет свой долг, беспристрастно реализует «всеобщий закон».
Настойчивость, с которой бл. Августин отстаивал необходимость третьего уровня свободы, непосредственно связана с христианской теологией.
Отличие христианской космологии от античной заключалось в том, что, во-первых, Создатель мыслился как Творец. Мир сотворен Богом на основании задуманного им плана и по его собственной воле. Мысль предшествует вещам, идеальное – материальному (вначале было слово). Создатель-творец в большей степени напоминал ремесленника, от воли которого зависит выбор того, что сделать, и разработка плана, как это сделать. Сотворенному предшествует воля и знание. Воля Бога – это его желание создать мир таким, каков он есть. Знание Бога – это знание последних причин происходящих в мире событий: прошлых, настоящих и будущих. Бог как творец знает все точки пространства сотворенного. Его знание не ограничено пространственно-временными рамками, тогда как сотворенное существует в пространстве и во времени и знание человека ограничено фрагментами бытия. Человек не может претендовать на знание последних причин. Не может знать не только то, что произойдет в будущем, но и то, что в действительности происходит сегодня. Не может предугадать последствия своих действий. Человек живет в «вуали неведения»[41], поэтому не знание спасает человека, а вера. Во-вторых, возникновение мира было разбито на два этапа: первый – собственно акт сотворения мира; второй – акт грехопадения Адама. Второй акт указывал на причастность человека к тому, что происходит в мире, его меру ответственности за зло. Совершая действия в «вуали неведения», человек, тем не менее, несет перед Богом ответственность за содеянное. Основание ответственности индивида лежит не в пространстве человеческих предустановлений (позитивного права), а в пространстве божественного предустановления. Ответственность не может возникнуть из закона, поскольку закон – это та же «вуаль неведения». Позитивное право не может преследовать только земные, конечные цели (ценности), оно является «вторичным» правом, служащим для реализации «первичного», Божественного права (бесконечных ценностей). Реальность Бога определяло условие ответственности индивида перед самим собой и перед другими людьми в силу того, что индивид должен принимать на себя обязательства, руководствуясь критериями, от него не зависящими. Любой же взгляд на мир, исходящий из предположения о неограниченной власти общества над человеком, снимает с него всякую ответственность – ответственны семья, община, государство, но не сам индивид. Таким образом, акт грехопадения конституировал основание индивидуальной ответственности.
Допущение третьего уровня свободы, казалось бы, должно было усложнить проблему обоснования необходимости гражданской свободы. Но для христианских мыслителей институт политического принуждения воспринимался как само собой разумеющийся, как богоугодный институт, и они не разрабатывали дополнительной аргументации в защиту политической власти. Действительно, без дополнительной аргументации гражданской свободы вполне возможен переход непосредственно от естественной свободы к моральной[42]. Данное положение можно объяснить тем, что христианские теологи аксиоматически придерживались античной традиции, для них было очевидно, что естественная свобода не создает опыта совместного проживания индивидов. Политика – это опыт совместного проживания, и она как опосредующий элемент дает возможность корреляции индивидуального, социального (политического) и всеобщего. Индивидуальный опыт, отражаясь в политическом, приобретает свой смысл при опосредовании всеобщим опытом («всеобщий закон»), как и, наоборот, «всеобщий закон» приобретает смысл при столкновении частного и публичного (политического). В «Сумме теологии» Фома Аквинский пишет: «Однако в связи с тем, что некоторые люди недобродетельны, склонны к пороку и не прислушиваются к чужим словам, оказалось необходимым отучать их от зла силой и угрозами, чтобы, хотя бы благодаря им, они сами отстали от злых дел и оставили в покое других и чтобы они в результате постоянного воздействия такого рода, осуществляемого на них, привыкли и добровольно склонились к выполнению того, что они раньше делали из страха, превратившись, таким образом, в добродетельных людей. Дисциплина, диктуемая законом, и является такого рода подготовкой, основанной на страхе подвергнуться наказанию»[43]. Вынесение наказания – это политическое решение, в котором отражается «всеобщий закон» «добровольно склониться к выполнению долга».
Христианские богословы рассматривали вопрос о свободе в двух аспектах. Первый аспект касался вопроса отношения свободной воли Бога и его предзнания. Ситуация обострялась следующим образом. Если Бог создал мир на основе задуманного им плана, то знание Бога предшествует его воли. Знание – это эквивалент необходимости, а не свободы. Ансельм Кентерберийский пишет: «Если знание и предзнание Бога сообщает необходимость всему, что он знает и предзнает, тогда Бог сам ничего – ни применительно к вечности, ни применительно к какому-то времени – не делает свободно, но все по необходимости»[44]. Важно же было сохранить и акт свободного божественного волеизъявления, т. е. то, что мир создал по свободной воле. В противном случае утрачивался аспект веры. Коллизия свободы и необходимости создавала коллизию веры и знания, а последняя, в свою очередь, ставила задачу разделения предмета ве́дения веры и предмета ве́дения разума.
Другой момент свободы определял отношение божественного предзнания и человеческой свободы. Вопрос о свободе человеческой воли ставился следующим образом: «Может ли человек, попавший в результате грехопадения Адама в подчинение греху, достичь состояния свободы (до грехопадения) только посредством божественной милости или же он способен внести и свой собственный вклад?» Первоначально вопрос строился в форме строгой дизъюнкции «либо-либо». Либо спасение человека полностью зависит от милости Бога, либо человек сам способен найти путь к спасению. В последнем случае отражалась идея двухуровневой свободы, которая, в свою очередь, лишала смысла идею Бога, уничтожала реальность божественной инстанции. При первом варианте возникала другая крайность: человек полностью зависим от милости божьей, от божественного всеведения, следовательно, ничто не совершается по воле человека. Эта мысль лишала смысла свободу выбора человека, а значит и его ответственности за зло. Тогда, как выразился впоследствии П. Абеляр, цитируя Аристотеля, «не надо было бы… ни решать, ни стараться»[45], а принимать решения необходимо не только за себя, но и за других членов общества. Ответственно принимать решения за всех возможно, если индивид осознает разделение предметов веры и разума.
Помимо этого, первый аспект свободы – оппозиция воли и знания Бога – фиксировал, что моральный («всеобщий закон») актуализируется только в акте доброй воли. Второй говорит о том, что человек имеет отношение к реализации всеобщего закона и от его доброй воли зависит, быть Закону или не быть.
Для античных мыслителей причина зла заключалась в незнании человеком добра. Кто познает благо, тот творит его. Злодеяние есть результат слабости разума, его аморфности и подавления чувственностью. Злодеяние в контексте незнания лишало смысла вопрос о вине человека за творимое зло. Кто творит зло, тот не обладает знанием, а к незнанию неприменимо моральное осуждение. С этим никак не могли согласиться христианские богословы, поскольку источник зла в мире – человек. Поэтому они перестраивают формулу ответственности человека. Не незнание является источником зла, но зло, по сути, является следствием выбора злой или доброй воли.
Оппозиция божественного предустановления и свободы воли «порождала сильный когнитивный диссонанс»[46], и для христианских богословов было важно сохранить обе посылки. Поэтому как критика различного рода детерминистических концепций типа стоической философии и арабских теорий фатализма, так и критика абсолютной независимости индивида имела отнюдь не академический или исторический характер. Оппозицию пытались смягчить. Противоречие двух пониманий свободы разрешалось путем применения не строгой дизъюнкции «либо-либо», а слабой (соединительно-разделительной) дизъюнкции «или», т. е. необходимо было исходить из восприятия взаимоотношений обоих понятий.
Следующее рассуждение Ансельма Кентерберийского служит ярким примером стремления христианских богословов отстоять свободу воли человека. «Итак, положим, – пишет Ансельм, обращаясь к своему оппоненту, – что одновременно есть и Божественное предзнание, из которого, кажется, следует необходимость будущих вещей, и свобода выбора, в силу которой, как считают, многое совершается без такой необходимости… Но ты скажешь мне: Однако ты не избавляешь меня от необходимости грешить или не грешить; ведь Бог предзнает, что я согрешу или не согрешу, а поэтому необходимо для меня грешить, если я грешу, или не грешить, если не грешу. Я же в ответ на это: Тебе не следует говорить: "Бог предзнает, что я согрешу или не согрешу"; но сказать ты должен: "Бог предзнает, что я согрешу, но не по необходимости, или не согрешу". Таким образом, получается, что согрешишь ли ты или не согрешишь, и то и другое произойдет не по необходимости, ибо Бог предзнает, что не по необходимости имеет быть то, что будет»[47]. Доказательство существования свободной воли строится, таким образом, на постулате божественного всемогущества. Если Бог не может предзнать то, что происходит по свободной воле, то значит он не всемогущее существо.
Средневековая христианская культура была глубоко дуалистичной. Противопоставлялись различные категории: вечность и время, божественное и человеческое, свобода и необходимость, вера и знание, абсолютное и относительное, душа и тело и т. п. Но главная задача заключалась именно в том, чтобы сохранить оппозиционные концепции, придать им взаимообусловливающий характер.
Существенную роль в становлении средневекового правопонимания сыграла оппозиция концепций «неизбежности божественного наказания» и «бесконечного божественного милосердия». Строгое противопоставление этих идей не несло ничего позитивного. Если принимать во внимание исключительно концепцию «Бога карающего», то это бог иудеев – карающий до седьмого колена, и нет прощения человеку, преступившему божественные заповеди, и тогда обстоятельства преступления не имеют значения. Если же учитывать только концепцию «божественного милосердия», то согласно этой концепции можно оправдать любые преступления, даже самые тяжкие.
Христианские богословы и юристы придали этой оппозиции юридический смысл – и то и другое. Наказание должно быть неизбежным, но при вынесении решения необходимо учитывать обстоятельства. Человек совершает поступки в «вуали неведения» и может не осознавать последствий своих действий.
Римская юриспруденция также принимала во внимание обстоятельства дела, но в большей степени эти обстоятельства касались объективной стороны. Христианские же юристы ввели понятия сознательного и несознательного преступления. В известном средневековом трактате «Молот ведьм» монахов Я. Шпренгера и Г. Инститориса пишется: «Преступность деяний ведьм превышает даже грехи и падение злых ангелов», колдовство – более тяжкое преступление, чем даже убийства и грабежи, поскольку ведьмы, «…вступая в состояние благодати через святое крещение, самовольно покидают это состояние и отрицают веру», «…ведьмы знают о наказаниях, постигших за чародеяния… Они знают также преступления сатаны и его наказания»[48]. Квалификация колдовства как особо тяжкого преступления основывается не на степени общественной опасности (хотя это тоже учитывалось), а в первую очередь на том, что ведовство не может не быть свободным (добровольным) и осознанным преступлением. В отличие от колдовства, ересь характеризуется ошибкой в мышлении и упорством в этой ошибке, колдун же «не совершает ошибки в мышлении»[49].
Таким образом, вводя понятия добровольного и недобровольного, осознанного и неосознанного деяния, христианские мыслители сглаживали противопоставление концепций карающего и милосердного Бога, придавая им взаимообусловливающий характер.
Совершая поступки в «вуали неведения», человек должен верить, что в предельных нравственных коллизиях Бог не оставит его. Если же Бог молчит, то на то воля Бога, не подвластная разуму человека. Тем не менее есть вещи, о которых человек не может не знать.
Первоначально считалось, что постижение Бога «глубоко мистично»[50] (бл. Августин), но впоследствии средневековые схоласты стали считать возможным доказательство как существования «свободы выбора человека, так и свободных действий Бога»[51].
Пафос трактата бл. Августина «О Граде божьем» направлен против рационалистической греческой философии и в первую очередь против философии Платона в той ее части, в которой, по мнению Августина, человеческий разум необоснованно расширяет границы своих полномочий. «Существует ли мир вечно или во времени?», «Бессмертна ли человеческая душа или она сотворена Богом, так же как и тело?», «Что ожидает человечество в будущем?» – все эти вопросы, которые может ставить человек, относятся к предметным областям, «исследовать которые мы не в состоянии при помощи человеческого разума»[52]. «Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем…»[53], – ссылаясь на текст Библии, утверждает Августин. Этим он желал подчеркнуть, что если предметы веры и разума поменяются местами, то наступит эра суеверий, необоснованного притязания разума на то, что познать он не в силах, поэтому «ум прежде всего должен быть напоен и очищен верою»[54]. Выгодней верить, что Бог создал мир и человека, нежели быть уверенным в том, что этот мир и душа существуют вечно. Невозможно знать, что есть «всеобщий закон», можно верить, что он ЕСТЬ. Тем самым вера выходит из-под юрисдикции знания. Гражданская свобода – жизнь по человеческим законам – не может регламентировать вопросы веры, поскольку она (гражданская свобода), во-первых, преследует конечные цели, во-вторых, основана на частичном знании человека.
Для бл. Августина было несравнимо важней отделить веру от разума, утвердить Истину Веры, нежели доказывать существование Бога. Для него именно вера является условием свободных действий человека. Действия же человека на основании знания – это действия необходимые, а не свободные. Все это в совокупности представляло условия для ограничения полномочий суверена – вера выходит из-под юрисдикции светской власти.
Концепция бл. Августина «двух градов» – «Града Божьего» и «Града земного» подчеркивала мысль об актуализации «двух правопорядков». Индивид существует в двух измерениях – в сфере метафизически должного и в сфере человеческих относительных предписаний. Сфера метафизически должного – это есть сфера морального долга (третьего уровня свободы), которая не может быть определена исключительно человеческими относительными предписаниями. Это означало одно – моральный долг («Всеобщий закон») не может быть навязан человеку посредством принуждения, он может реализоваться только в пространстве свободы. Воля самодостаточна, она есть причина самой себя. Наличие же причины воли требует наличия еще одной причины, и так до бесконечности.
«Золотое правило» морали бл. Августина – это последовательность в межличностных отношениях, когда субъект сверяет правильность своих поступков при помощи перемены ролей. Сфера метафизики, или, другими словами, межличностные отношения, опосредованные божественной инстанцией, есть понимание человеком позиции другого, когда индивид старается поставить себя на место другого человека. Это правило способствует добру и предотвращает зло. Оно стоит на пути «двойных стандартов», когда допускаются произвольные исключения из общего правила, т. е. когда в сходных ситуациях происходит непоследовательное применение норм морали, когда для себя требуют одно, а для других – другое. Обманщики сами никогда не желают быть обманутыми. Без этого правила государства не оправданны как необходимые социальные учреждения. Властители, не ставящие себя на место подданных (подвластных), не оправданы и не хранимы Богом. Поэтому бл. Августин настаивает на абсолютной моральной норме, запрещающей ложь. Ложь невыгодна ни при каких условиях, «…даже если никому конкретно не принесла вреда»[55].
«Золотое правило» невозможно законодательно ввести в действие – это равносильно отрицанию идеи Бога, поэтому позитивное право не исчерпывает все человеческие нормы.
В отличие от античного правопонимания, которое также определяло двойственный характер человеческого бытия и размещало индивида в публичный и частный правопорядки, средневековая политико-правовая мысль публичную и частную сферы стала именовать одним термином – «человеческое право» («Град земной»), и человеческий правопорядок не принимался как самодостаточный. Христианское учение размещает индивида «внутри» и «вовне» всякого позитивного права, и если индивид как подданный обязан подчиняться предписаниям своего суверена, то как христианин он не может быть до конца определен нормами позитивного права. Для античных мыслителей публичный и частный правопорядки исчерпывали все возможности человека; Полис был тем, где актуализировались все потенции индивида, и цивилизованный грек отличался от варвара именно тем, что в отличие от последнего он жил в Полисе и осознавал различия между публичной и частной сферами. Для христианских мыслителей «Град земной» – это еще не все, чем может жить человек. Человек не привязан к чему-то одному: семье, общине, государству, его природа не только физическая, но и сверхфизическая. Поэтому для оправдания «Града земного» необходимы более широкие основания, источником которых могла быть только метафизика – «Град божий». Таким образом, если в античности публичный и частный правопорядки раскрывали свою сущность в сфере человеческого знания, то «Град божий» в средние века требовал акта веры в существование вечных и неизменных нормативных истин.
Карпинтеро Бенитес считает, что средневековое разделение права на «божественное» и «человеческое» восходит к римской юридической традиции разделения на jus a lex. Jus – высшая справедливость, находящаяся в гармонии с устройством мироздания в целом, и lex – совокупность конкретных правовых норм[56]. В какой-то степени данное суждение справедливо, но следует учесть, что в христианской правовой традиции божественное право воспринималось одновременно и как имманентно присущее каждой норме позитивного права, и как трансцендентное право по отношению к позитивному. Любой текст о jus в римской юриспруденции – это текст разума человека, это текст только с человеческим масштабом, и его возможно опровергнуть в силу относительности человеческого знания. Тогда же, когда римляне употребляли термин «божественное (сакральное) право», они имели в виду составную часть публичного правопорядка, который включал в себя «святыни (sacra), служение жрецов, положение магистратов»[57]. Помимо этого, в римской юридической традиции отсутствовал такой авторитетный «правовой» текст, как в средние века Библия.
Текст Библии опровергнуть невозможно – это откровение Божье (текст Бога, а не человека), и его можно либо принять в акте мистической веры[58], либо «приспособить» усилиями разума к предельным возможностям человека.
Текст Библии воспринимался как внеисторический текст, не обусловленный множественностью языков, и представлял такие свидетельства, которые «не могут быть опровергнуты экспериментальным путем»[59].
Он являлся формальным источником божественного права, состоящим из двух планов. Первый план – исторический (повествовательный), рассказывающий о событиях прошлого; деятельности праотцов, пророков, судей, царей. В нем присутствовали и пророчества, из которых одни уже сбылись, а другие еще нет. Последние, собственно, и составляли предмет веры. В этом повествовательном плане время и место божественных откровений не обусловлено божественным предзнанием – необходимостью. «Почему божественная милость проявилась только теперь? Почему так поздно?» «Ибо для человеческого ума непостижимы пути Открывающего»[60]. Второй – нормативный, утверждающий, что угодно, а что не угодно Богу. Вселенная является творением управляющего провидением Бога, и она во всех отношениях отражает замысел своего Творца. По этой причине Вселенная упорядочена, и царящий в ней порядок носит нормативный характер. В отношении нормативного плана ставился вопрос о возможности познания человеком божественных истин, т. е. высказать его языком науки. И если в отношении между Волей Бога и Разумом Бога на первое место ставилась Воля, то тем самым отказывали человеку в возможности познания божественных истин. Если же на первое место ставился Разум Бога, то допускалась возможность познания.
Можно согласиться с мнением Г. Шримпфора, что латинский Запад вначале выражал вероучение образным языком и основывался на мистическом акте веры, а затем теологи стали считать, что христианское вероучение может быть выражено и языком науки, и с XI в. основополагающим импульсом теологии стало стремление к научности каждого высказывания: каждое высказывание должно быть однозначным, полным и находиться в систематической связи с другими высказываниями – «…теологию… хотели сделать наукой»[61].
Божественное право представлялось как совокупность вечных и неизменных норм. Эти нормы обладают универсальным характером. Они действительны на все времена и для всех народов. Они независимы ни от местных обычаев[62], ни от повелений суверена.
Божественное право – трансцендентное право, стоящее «выше», «над» позитивным правом. Правовая система в целом обладает иерархической структурой, состоящей из норм высшего и низшего порядков. Иерархическая формализация определяла, что если норма А является нормой высшего порядка, а норма Б – низшего, то последняя не должна противоречить первой.
Совокупность норм божественного права представляет единое целое, они написаны одним Разумом. Правильное понимание отдельных частей Библии (отдельных норм) зависит от уяснения единого смысла. В случае коллизии между отдельными частями Библии допускалось как буквальное толкование, так и аллегорическое в целях согласования противоречащих частей. То есть текст Библии не опровергался, а обрабатывался в целях уяснения слова Божьего.
Таким образом, в христианской традиции сложилось достаточно строгое представление о правопорядке. Правопорядок – это универсальная система норм, она иерархична по структуре, высшие нормы этой системы независимы от каких-либо человеческих предустановлений, следовательно, нет в человеческом мире («Граде земном») такого суверена, который мог бы их приватизировать.
Право толкования библейских текстов и, следовательно, разъяснения точного смысла «слова Божьего» узурпировала католическая церковь, но это вовсе не означало, что церковь претендовала на полное господство в «двух градах». «Град земной», где действуют человеческие законы, обладал относительной независимостью, поскольку в силу христианского учения о сотворении человека, подобного Богу, предоставлял право индивиду самостоятельно ориентироваться в проблемах добра и зла. Человек свободен в выборе между добром и злом, и любое человеческое предписание не может изначально оцениваться как неугодное Богу. Зло в мире необходимо для того, чтобы человек в акте выбора между добром и злом совершенствовался. Позитивное право обладает потенцией к совершенствованию, к приближению к вечным нормативным истинам, но потенция актуализируется только в том случае, если «Граду земному» предоставлена мера свободы. Поэтому католическая церковь ясно осознавала ограниченность своей юрисдикции в делах земных, как и ограниченность светской жизни по отношению к вечным нормативным истинам.
Уже около 500 г. папа Геласий I писал императору Анастасию: «Имеются главным образом две силы, о Август Император, коими управляется этот мир: священная власть пап и царская мощь. Из них священство значит больше, ибо оно призвано давать отчет Господу даже за царей на божьем суде… Тебе должно смиренно склонять голову пред служителями божьими… от них только получаешь ты средства для собственного спасения»[63].
С VIII в. в Западной Европе получил распространение обряд помазания королей. Суть этого обряда заключалась в том, что церковь принимала данное лицо в свое лоно, но это не означало, что церковь обрядом помазания наделяла короля правом на власть или, тем более, «наполняла нового царя магической мощью»[64], церковь брала ответственность за действия царя, отвечая за него на божьем суде. Церковь помазанием выдавала полис (polis с фр. – страхование) новому царю, страховку в оправданности его будущих действий. Таким образом, церковь не претендовала на то, что она является единственным источником власти в этом мире. Король – такое же полномочное лицо на власть, как и церковь, только из юрисдикции королевской власти должно быть изъято право на решение вопросов, связанных с определением предельных нравственных ситуаций.
Вера ограничивала юрисдикцию государственной власти, и средневековые мыслители активно разрабатывали идею ограниченной юрисдикции. Именно средневековая юриспруденция впервые сформулировала понятие ограниченной юрисдикции и связала ее с проблемой разграничения церковной и светской власти.
Впервые в истории политико-правовой мысли сложилось представление, что в границах одной территории могут существовать две независимые друг от друга юридические инстанции, каждая из которых обладает правом на издание предписаний (законов).
Поэтому ключевым вопросом того времени было примирение двух независимых политий – церковной и светской. Борьба между папой Римским и императором Римской империи за инвеституру (лат. invenstire – облачать; право наделения феодальным саном и введение в должность епископа или аббата) привела в результате к компромиссу, который по своей форме соответствовал договору. Так, по Вермсскому конкордату 1122 г. император гарантировал, что епископы и аббаты будут свободно избираться только лишь церковью, и отказался о «заботе душ человеческих». Со своей стороны, папа отказался от вмешательства в процедуру присвоения императором феодальных регалий, т. е. феодального права на собственность, правосудие и светское управление. Подобного рода соглашение возможно было только при условии одинаковых легитимационных оснований церковной и светской властей – «римская церковь основана одним только Господом» и «король есть король не через узурпацию, а святым соизволением Божьим». Таким образом, спор, то ли папа Римский решает за всех, то ли император, завершился в конце концов примирением сторон, компромиссом – не тот и не другой.
Одни историки XX в. назвали связанные с ограничением юрисдикций события «папской революцией», подчеркивая масштабность происходящих изменений, другие «григорианской реформацией», тем самым принижая их значение.
Думаю, что ошибочно недооценивать влияние происходящих изменений как на формирование правового знания средних веков, так и на политическую и юридическую практику. По мнению Питера Брауна, в данном случае необходимо говорить о «высвобождении двух сфер: сферы священного и сферы профанного», отчего произошел выброс энергии и творчества[65]. Подобный характер «революции» отмечают также такие авторы, как историк церкви Г. Телленбах, немецкий историк Ойген Розеншток-Хюсси, великий французский историк общества и экономики Марк Блок и др.[66], а Гарольд Берман даже замечает, что «папская революция была первым движением в истории Запада, которое охватило несколько поколений и носило программный характер»[67]. Действительно, партии папы потребовалось целое поколение – с 1050 по 1075 г., чтобы объявить свою программу реальностью, а затем еще 47 лет борьбы, чтобы достичь соглашения с императором по вопросу права инвеституры, и уже после этого, значительно позже, решить вопрос уголовной и гражданской юрисдикции церкви и светской власти.
Начало активного противостояния церкви светской власти принадлежит деятельности монахов Клюнийского монастыря в Бургундии. Клюнийцы первыми выступили с программой борьбы за «чистоту духовенства». До XI в. духовенство мало чем отличалось от мирян[68], разве что своим облачением, и представляло из себя достаточно жалкое зрелище. Духовные лица, как и любые другие люди, могли иметь семью, растить детей, приобретать собственность, передавать свою церковную должность по наследству, по уровню образования они ненамного превосходили простых крестьян, «знали латинский язык, на котором совершалось богослужение и на котором писались все сочинения, немного лучше, чем арабский»[69], и вообще вели образ жизни «развратный и распущенный». При таких условиях интересы церковнослужителей тесно переплетались с интересами королей и императоров, что позволяло средневековым феодалам активно вмешиваться в дела церкви. Феодалы как владельцы земли, на которой были расположены церковные епархии, пользовались не только экономической выгодой – доходами от разных экономических служб, но и назначали на должности епархиальных архиереев и на другие церковные должности угодных им лиц, часто из числа близких родственников. Так религиозная и политическая сферы переплетались по всем основным пунктам: императоры и короли созывали церковные соборы, публиковали церковные законы; в то же время епископы и другие высокопоставленные представители духовенства заседали в правительственных органах: местных, баронских, королевских или имперских; епархиальное управление часто являлось главным органом гражданской администрации, а епископы – важными членами феодальной иерархии; женитьба же священников окончательно связывала их с местными феодалами[70]. Поэтому западное христианское духовенство того времени – епископы, священники и монахи – находилось больше под властью императоров, королей и крупнейших феодалов, чем под властью пап.
Именно клюнийцы провозгласили отречение духовенства от светских интересов и светского образа жизни. Клюнийцы и другие реформаторы стремились повысить уровень религиозной жизни, нападая на практику покупки и продажи церковных должностей (симонии) и на брачное и внебрачное сожительство (николаизм). То и другое вовлекало духовенство в местную и клановую политику, вело к упадку религиозной жизни. Симония была настолько распространена и приобрела такие формы, что Петр Домиани в 1059 г. обнаружил, что в Милане не было ни одного представителя клира, который не был бы повинен в симонии, а папа Силвестр II, описывая епископа, вложил в уста последнего следующие слова: «Я дал золото и получил епископство; и я не боюсь получить свое золото обратно… Я посвящаю в сан священника и получаю золото; я назначаю диакона и получаю кучу серебра. Видишь – то золото, что я дал, я вернул в свой кошелек умноженным»[71].
Реформаторы не могли обратиться за поддержкой своих реформ к папе Римскому, поскольку последний был практически полностью зависим от римской аристократии, которая оказывала весьма слабое почтение папской особе; его могли похитить, посадить в тюрьму, отравить или открыто выступить против него. Поэтому они обратились за помощью к наследникам Карла Великого и такую поддержку получили. Наследники же Карла Великого рассчитывали с помощью клюнийцев вырвать из рук римской знати власть назначать папу. Действительно, последующим императорам Священной Римской империи удалось при помощи союза с реформаторами одержать временную победу в вопросе назначения папы Римского. Императоры Григорий III и Григорий IV с 1046 по 1073 г. единолично назначили шестерых пап и именно тех, кто был сторонником церковной реформы. Но если такой союз привел императоров к тактической победе, то в плане исторической перспективы союз был недальновидным. Раскол начался тогда, когда папа Григорий VII (1073–1085) (бывший монах Клюнийского монастыря Гильдебрант) открыто выступил против императорской привилегии назначать папу.
В 1075 г. он провел на соборе запрещение как на инвеституру, так и на вступление священников в брак. Основные свои идеи он сформулировал в знаменитых Диктатах папы, которые состояли из 27 пунктов. В этих Диктатах он провозгласил, что Римский епископ (папа Римский) «один по праву зовется вселенским»; ему предоставлено право низлагать и восстанавливать епископов; «ему одному позволено создавать новые законы в соответствии с нуждами времени»; «он может низлагать императоров»; «никакой его приговор не может быть никем отменен…»; «он может освобождать подданных несправедливых людей от присяги на верность» и даже папские легаты низшего ранга на соборе «…имеют превосходство над всеми епископами» и могут вынести приговор о их низложении[72]
1
См.: Коплстон Ф. Ч. Аквинат. Введение в философию великого средневекового мыслителя. – М.: Вестком, 1999. – С. 13; Claget M. Twelfth century Europe and the foundations of modern society. Introuction. Westport, 1981.
2
Marguard О. Neuzeit vor der Neuzeit?: Zur Entdramatiorung der Mittelalter – Neuzeit – Zasur // Philosophie im Mittelalter: Entwicklungslinien und Paradigmen. – Hamburg, 1987. – S. 369.
3
Indid. S. 372.
4
Природа социальных конфликтов древних обществ заключалась в недовольстве масс правлением суверена, когда «низы не могли жить по-старому, а верхи управлять по-старому». Конфликты разворачивались между обществом и государством (правителем), между традицией и приказами-повелениями (законами).
5
Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. – М., 1995. – С. 42.
6
Козловски П. Общество и государство. Неизбежный дуализм. – М., 1998. – С. 22.
7
Аристотель. Никомахова Этика // Соч. В 4 т. – М., 1978. Т. 4. – С. 153.
8
Там же. С. 151.
9
В Афинском государстве должностные лица не только не получали никакого вознаграждения за исполнение общественно полезных функций, но несли большую меру расходов на общее дело, нежели простые частные лица.
10
Древнее законодательство в силу слияния частного и публичного правопорядков определяло права лица в зависимости от его публичного статуса, например, устанавливало размер штрафа за причиненный ущерб на основании «достоинства» человека, т. е. на основании его социально-политического статуса.
11
Аристотель. Никомахова Этика // Соч. В 4 т. – М., 1978. Т. 4. С. 151–152.
12
Платон. Законы // Соч. В 4 т. – М., 1994. Т. 4. – С. 58–59.
13
«Суд черепков»: голосование в Народном собрании, где афинские граждане писали на черепках (остраконах) имя неугодного политика, который, если он получал 3000 голосов (при кворуме 6000), вынужден был удалиться в изгнание.
14
Сборник законов царя Хаммурапи // Источники права. Вып. 1. – Тольятти: ВУиТ, 1996. – С. 6.
15
Законы Ману // Источники права. Вып. 1. – Тольятти: ВУиТ, 1996. – С. 32.
16
См.: Хагатуров Р. Л. Русская Правда. – Тольятти: ВУиТ, 2002. – С. 110.
17
Цит. по: Рубин В. А. Личность и власть в древнем Китае. – М., 1999. – С. 18.
18
См.: Платон. Собр. соч. В 4 т. Т. 3. – С. 82–116.
19
Там же. С. 83.
20
Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. I. – СПб., 1994. – С. 58.
21
Известное изречение софиста Протагора: «Человек есть мера всех вещей в том, что они существуют, и в том, что они не существуют», – непосредственно относится к теме природы Номоса как общего правила поведения.
22
Гай. Институции. – М., 1997. – С. 27.
23
Павел Ю. Пять книг сентенций к сыну // Памятники римского права. – М., 1998. – С. 13.
24
См: Цицерон. Речи. – М., 1993. – С. 157, 363.
25
См.: Хагатуров Р. Л. Русская Правда. – Тольятти: ВУиТ, 2002. – С. 110.
26
Сборник законов царя Хаммурапи // Источники права. Вып. 1. – Тольятти: ВУиТ, 1996. – С. 14.
27
Монтескье Ш. Л. О духе законов. – М., 1999. – С. 82.
28
Там же.
29
Дигесты Юстиниана. – М., 1984. – С. 428–429.
30
Аристотель. Собр. соч. В 4 т. – М., 1983. – Т. 4. С. 427.
31
См.: Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его развития. – СПб., 1877. – С. 124–142.
32
Конфуций. Уроки мудрости. – Москва-Харьков, 1999. – С. 78.
33
Аристотель. Собр. соч. В 4 т. Т. 4. – М., 1983. – С. 428.
34
Гай. Институции. – М., 1997. – С. 31.
35
Ульпиан Д. Фрагменты // Памятники райского права. – М., 1998. – С. 159.
36
Козлихин И. Ю. Позитивизм и естественное право // Государство и право. 2000. № 3. С. 6.
37
Цит. по: Античная демократия в свидетельствах современников. – М., 1996. – С. 208.
38
Цит. по: Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. – СПб., 1995. – С. 329.
39
Вернадский Г. Г. Естественное право в истории правовых учений. – СПб., – С. 77.
40
Шапп Я. О свободе, морали и праве // Государство и право. № 5. 2002. – С. 87.
41
Термин Джона Роулза.
42
Исламская культура выбрала именно такую стратегию.
43
Summa Theologica. New York. 1947.1–2. Qu 95, art. 4.
44
Цит. по: Гайденко В. П. Предисловие к переводу трактата Ансельма Кентерберийского «О согласии божественного предзнания, предопределения и благодати со свободным выбором» // Историко-философский ежегодник. – М., 1997. – С. 121.
45
Абеляр П. Теология «Высшего блага» // Теологические трактаты. – М., 1995. – С. 162.
46
Бандуровский К. В. «Контингентное» в философии Фомы Аквинского и проблема свободы воли // Историко-философский ежегодник. – М., 1999. – С. 65.
47
Ансельм Кентерберийский. О согласии божественного предзнания, предопределения и благодати со свободным выбором // Историко-философский ежегодник. – М., 1996. – С. 125.
48
Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. – М., 1990. – С. 159–160.
49
Лозинский С. Роковая книга средневековья // Предисловие к кн. «Молот ведьм». – М., 1990. – С. 26.
50
Daly G. О. Augustine's philosophy of mind. – L., 1987. – С. 213.
51
Гайденко В. П. Предисловие к переводу трактата Ансельма Кентерберийского «О согласии божественного предзнания, предопределения и благодати со свободным выбором» //Историко-философский ежегодник. – М., 1997. – С. 121.
52
Августин. О Граде Божьем. – М., 2000. – С. 502.
53
Там же. С. 1282.
54
Там же. – С. 513.
55
Outka G. Augustinianism and common morality // Pospects for common morality. – Princeton, 1995. – P. 120.
56
См.: Carrintero В. Del derecho natural medieval al derecho natural modern Fernando Vazgyes d. Menchaca. Salamanca, 1977.
57
Дигесты Юстиниана. – M., 1984. – С. 23.
58
Бл. Августин (354–430) писал: «Мы говорим о Боге, и что удивительного в том, что мы его не понимаем?…Постичь при помощи разума божественное хотя бы в малой степени – великое блаженство, но понять его абсолютно невозможно». Цит. по: O'Daly G. Augustine's philosophy of mind. – London, 1987. – P. 213.
59
Аннерс Э. История европейского права. – М., 1994. – С. 160.
60
Августин. О Граде Божьем. – М., 2000. – С. 506.
61
Schrimpf G. Ban steine für einen historischen Begriff der schalastischen Philosophie // Philosophie im Mittelalter: Entwicklungslinien und Paradigmen. – Hamburg, 1987. – S.25.
62
Христианство первым нанесло удар по обычаям. В Болонском университете студенты-юристы, съезжающиеся со всей Западной Европы, не изучали действующее право (местные обычаи).
63
Цит. по: Dumont L. A modified view of our origins: The Christian begginings of modern individyalism // The categry of the person: Antropology, philosophy, history. – Cambridge, 1988. – P. 107.
64
Nelson J. L. Royal saints and Early Medieval Kingship // Politics and ritual in Early Medieval Europe. – London, 1986. – P. 72–73.
65
Brown P. Society and the Supernatyral: A Medieval Change. – Daedalus, Spring, 1975. – P. 134.
66
См.: Tellenbach G. Libertas: Kirche und Weltordnung im Zeitalter des Investiturstreifes. – Stuttgart, 1936; Rosenstock-Hussi O. Die europaischen Revolutionen. – Stuttgart, 1960; Блок М. Феодальное общество. – M., 1973. – С. 157–158.
67
Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. – М., 1998. – С. 112.
68
Термин «миряне» стал употребляться папами с 1075 г., чтобы подчеркнуть отличие духовенства от гражданских лиц и то, что светская власть не обладает религиозной функцией.
69
Тальберг Н. История христианской церкви. – М., 1991. – С. 337.
70
Эта система была аналогичной той, что господствовала в Восточной Римской империи и которая позже была на Западе осуждена как «кесаре-папизм».
71
Cambridge Medieval History. Vol. V. P. 10.
72
Ehler S. Z. and Morrall J. B. Church and State through the Centuties. – London, 1954. – P. 43–44.