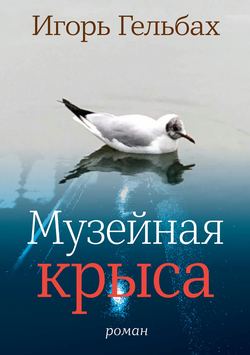Читать книгу Музейная крыса - Игорь Гельбах - Страница 8
Часть первая
Глава седьмая. Агата
Оглавление1
Моя мать всегда была рада возможности забежать к Агате на Большую Конюшенную и в свое время не допускала даже мысли о том, что я буду заниматься французским с каким-нибудь другим педагогом. Так и произошло. Позднее с Агатой начала заниматься французским и моя подросшая к тому времени сестра, названная Норой в честь героини пьесы Ибсена. Излишне говорить, что роль Норы была одной из самых интересных ролей, когда-либо сыгранных моей матерью. Во всяком случае, так она всегда говорила. При этом она ни секунды не сомневалась, что никакого отношения к тому, что мы называем «нормальной человеческой жизнью», ни пьеса, ни изображенная в ней Нора не имеют. Однажды я слышал, как мать обсуждает эту тему с Агатой.
– Ходули, – сказала Агата. – Сегодня это совсем дико, но героические примеры нужны, моя милая, хотя бы для того, чтобы, входя в квартиру, люди вытирали ноги. Вчера к нам приходил дворник с какой-то бумагой, ты и представить себе не можешь, сколько грязи было на его сапогах…
– Они их специально грязью заляпают, а потом направляются по квартирам, сами-то в полуподвалах живут, и уж поверь мне, к нам на спектакли они не приходят, все больше у рюмочных толкутся, – ответила ей мать, и обе захохотали.
Ведьмы, подумал я, а Нора, должно быть, их ученица и помощница. Кстати говоря, моя мать иногда называла Агату «шамаханскою царицей». Так было и в тот день, когда она рассказывала, как Агата на одном из заседаний худсовета театра обольщала приглашенного туда завреперткома. Речь шла об очередной французской пьесе, которую Агата собиралась перевести по просьбе Алексея Николаевича, главрежа, оставалось лишь сочинить заявку с обоснованием постановки именно этой пьесы. И сделать это следовало так, чтобы завреперткома без колебаний утвердил репертуар театра на следующий сезон.
Позднее, когда я и сам начал писать для театра, Агата рассказала мне об этом эпизоде подробней.
– Да, пьесу эту отыскала я, и готова была перевести ее, но ведь по его же, Алексея Николаевича, просьбе. И никто, никто даже не посмел заикнуться о том, что главреж хочет поставить эту пьесу для Клары, та ведь мечтала о роли Грушеньки, вот так ей хотелось: из постели – и прямо на сцену в роли Грушеньки; а наш Алексей Николаевич хоть и любит коньяк, но пропил еще не все и понимал, что мечта ее может так мечтой и остаться, и дай-то бог, чтоб так оно и было. Но ведь обещал же он ей, а она грозила ему скандалом, да еще каким! И это при его положении депутата и совершенно безумной жене. Вскоре возникла у него идея поставить пьесу о Грушеньке французской, которая крутит всей семейкой – и папой, и его сыновьями. При этом он умудрился внушить своей пассии, что ведь и сам Федор Михайлович писал примерно о том же. Ну а главное, говоря о реперткоме, утверждал, что спектакль этот поможет нам понять причины кризиса института брака там, на растленном Западе. Так, собственно, и сказано было в нашей заявке, и в реперткоме с этим были как будто готовы согласиться. И вот представь, Nicolas, собрались мы все на заседание худсовета, на стол подали чай и закуски в связи с присутствием человека из реперткома, ну, слегка выпили, и вот тут-то наш милейший завлит и пустился в в самые нелепые рассуждения о Достоевском и половом вопросе. Боже, до чего распустились люди в ту пору! Дай им глоток свободы, и они лоб себе разобьют, лишь бы доказать, какие они дураки. И наш Борис Вениаминович туда же. Да, да, – продолжала она, – и представь себе, он начал говорить, что и сам Федор Михайлович половой вопрос никак не отменял, ну а преемник его по отношениям с Сусловой вопрос этот чуть ли не в центр всего своего творчества поставил. Его и евреев, кстати, с которыми он тоже так и не смог справиться, и оттого придумал, что возлюбил. Да разве же с ним, с нашим Борисом Вениаминовичем, справишься? В него надо литр коньяка влить, прежде чем он остановится. Что же мне оставалось делать? Конечно, я попыталась обольстить этого человека из реперткома, надо было спасать Алексея Николаевича, театр, да и себя тоже…
2
У нас в доме Агата появлялась, когда «уставала от беготни» и «хотелось продышаться и пообщаться с нормальными людьми» – так, во всяком случае, она говорила. «У Агаты легкий язык и живой ум, – считала моя мать, – и с ее текстами легко работать…»
Мать любила посплетничать с Агатой, благо и тем, и поводов для сплетен было предостаточно, ибо в театре моей матери из-за внешности и голоса приходилось обычно играть роли трагических героинь. Возможно, именно поэтому многие актрисы любили общаться с ней и в качестве интересного материала для обсуждения не могли предложить ничего большего, чем собственные треволнения и чужие судьбы.
Сплетничали мать с Агатой обычно за кофе, разливая его по чашкам из большого итальянского кофейника, привезенного когда-то из Генуи контр-адмиралом Толли-Толле, покуривая удлиненные, кофейного цвета сигареты «Фемина», которые приносила Агата. Кстати говоря, моя мать не курила, но появление Агаты изменяло тональность, настроение и даже сервировку, начиная со скатерти и заканчивая салфетками в старых серебрянных кольцах. Льняная скатерть с латвийской вышивкой и салфетки заменялись на накрахмаленные и белоснежные, на столе появлялись предметы кофейного сервиза, печенье, коробка шоколадных конфет и специальные рюмки для ликеров, нарезался прозрачными дольками лимон.
Позднее Агата говорила, что в такие моменты она вспоминала жизнь в родительском доме, воскресные послеобеденные чаепития с рассматриванием репродукций французских мастеров, беседы за бутылкой вина и легкими закусками.
– Впрочем, – как-то сказала она, – возможно, комфорт и уют родительского дома существовали лишь потому, что мы, дети, не знали, о чем говорят родители за закрытыми дверьми. Скорее, это тоже был своего рода театр.
Что имела в виду Агата? Какие темы могли быть предметом обсуждений за закрытыми от детей дверями? Тут речь, вероятно, шла о «непролетарском происхождении» старого Стэна, об этом ему напоминали не единожды, и только его неоспоримые достижения в сочетании с прирожденным умением молчать позволили ему удержаться на плаву, при том что сам он никогда не претендовал на первые роли, отчего всегда был кому-то нужен и удобен. Так, во всяком случае, говорила Агата. Особенно опасным могло быть упоминание имен Троцкого и Зиновьева в связи с подписанной Старокопытиным «охранной грамотой». Замалчивались и всевозможные вопросы, связанные с прошлым бабки, которая официально именовалась Адой Аркадьевной Стэн.
Дед, правда, сказал однажды, что поскольку отца ее звали Арье, то логичнее было бы воспользоваться переводом этого имени с иврита, и тогда бабку следовало бы называть Адой Львовной, но отнюдь не Аркадьевной, что совершенно неоправданным образом привносит в действительность оттенок счастливого пастушеского существования. Впрочем, оставим это высказывание на его совести. Итак, все менялось, и со временем даже остатки польско-еврейского акцента в речи бабки почти исчезли, нивелировались, ведь у нее был прекрасный слух, она продолжала играть на фортепьяно, как во времена своей молодости, и часто ходила с дедом на концерты в филармонию. Зная ее прямой и несколько взбалмошный характер, объяснявший с точки зрения деда весь ряд событий, предшествовавших ее появлению в Петрограде, он полагал, что ей никак нельзя работать, вследствие решительно изменившейся с первых послереволюционных лет атмосферы во всех государственных и общественнных учреждениях.
– Она погибнет, но не одна, а вместе со всеми нами, пусть лучше сидит дома, – сказал он как-то раз Агате.
В конце концов бабка начала давать уроки музыки, просто для того, чтобы общаться с любящими музыку детьми, такая форма общения ее вдохновляла. Что касается Агаты, которая сильно ее напоминала, то стоит отметить, что тетка моя была гораздо гибче бабки в суждениях и менее предсказуема в поступках, не раз нарушая те или иные писаные или неписаные законы. Ей нравилось плести интриги и реализовывать планы, что для нее было практически одним и тем же. Переводы и работу в театре воспринимала она как единственную данную ей возможность побега от удручавшего ее окружения, которое нуждалось в театре как в средстве общественной терапии.
– Я не могу сидеть на этих собраниях, где они бесконечно что-то поддерживают: Кубу в ее борьбе с империализмом, танки, которые помогают строить социализм в Чехословакии, и даже общественников, которые по субботам добровольно подметают улицы или делятся своей кровью с нашими арабскими друзьями. Но после смерти этого чудовища мы все-таки повернули в сторону какой-то нормальной жизни. Достаточно посмотреть на наш репертуар. Конечно, все происходит медленно, но нам и не стоит спешить после такого безумного начала. Мы серьезно больны, милая, – говорила она матери, – вот и Саша так же считает, но если мы не можем отправлять всех подряд к психиатрам, так пусть хотя бы ходят в театр. У нас люди смеяться вообще не умеют, – сожалела она. – Впрочем, есть от чего… Им просто необходимо кого-то ненавидеть.
– И тянется это с незапамятных времен, – поддержала ее моя мать. – А Толстой об этом или почти ничего и не пишет, или объявляет это правильным и естественным, а ведь когда князь Багратион заявил, что в генштабе кругом одни немцы, так что русскому человеку и жить невозможно, Барклай ответил ему: «А ты дурак, хоть и считаешь себя русским». Ты же это помнишь, Агата? – и она, отставив чашку, посмотрела на нее.
– Ну конечно, милая, – ответила Агата и засмеялась.
Несмотря на абсурдность вопроса, прозвучал он вполне натурально, так, словно мать действительно интересовало, помнит ли Агата сей эпизод русской военной истории. Мать моя любила разыгрывать подобные сценки, происходившие от естественного для нее желания быть в центре внимания. Она никогда особенно не жаловала людей per se, и мне всегда казалось, что ее уход в театр был, в сущности, выражением именно этой стороны ее отношения к жизни.
В их отношениях с Агатой присутствовал, как мне иногда казалось, элемент влюбленности, смешанный с толикой радости, проистекавшей от ощущения стабильности и комфорта общения. А иногда, помню, я думал о том, что Агата и мои родители представляют собой некое странное сообщество, неполную, но стабильную конфигурацию близких и любящих друг друга людей. Иных подруг Агаты я не припоминаю, хотя они у нее и были, но женщины вообще ее мало интересовали. Замужем Агата никогда не была – ей нравилось быть независимой. Она пользовалась вниманием мужчин, но не пыталась женить их на себе. Она была умна и никогда не злоупотребляла своими успехами. Она была кошкой, гуляющей сама по себе. Возможно, потому, что она снисходительно относилась к мужчинам. «Они бесконечно заняты своими мужскими играми, – говорила она, – меряются, у кого длиннее…»
К институту семьи Агата относилась с почтением. «Семья – это нечто святое, – говорила она, добавляя: – но семейная жизнь – это то, к чему я, наверное, просто не предрасположена».
Агата никогда не была злой. Мне иногда казалось, что ее «легкомыслие» было не чем иным, как проявлением мудрости. Оттого, наверное, у Агаты было немного друзей, еще меньше подруг, и ее, в отличие от многих других преподавателей, любили студенты. Самые интересные студенты удостаивались приглашения к ней домой. Именно там, в квартире на Большой Конюшенной, познакомился с Андреем ее бывший студент Сергей Лец-Орлецов.