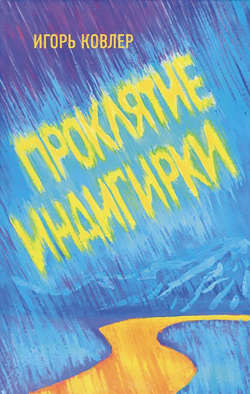Читать книгу Проклятие Индигирки - Игорь Ковлер - Страница 9
Глава седьмая
Пунктир времени
Оглавление✓ В Москве подписан протокол о развитии сотрудничества между СССР и ФРГ в области гражданской авиации до 90-го года.
✓ Разрешено образовывать кооперативы общественного питания, по производству товаров народного потребления и обслуживанию. Кооперативам предоставляются льготные кредиты и удерживается до 10 % налога.
✓ Осуществлен запуск космического корабля «Союз ТМ-2», пилотируемого экипажем в составе командира корабля дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Ю. Романенко и бортинженера А. Лавейкина. Осуществлена стыковка корабля «Союз ТМ-2» с орбитальным комплексом «Мир» – «Прогресс-27».
✓ В Москве состоялся 18-й съезд профсоюзов СССР, на съезде выступил М. Горбачев.
✓ ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ приняли постановление об итогах Всесоюзного социалистического соревнования за успешное выполнение государственного плана экономического и социального развития СССР на 1986 год.
Весной 1938 года выпускник Ленинградского Горного института Данила Вольский распределился на работу в Каракумы, но неожиданно был вызван в Москву где получил новое направление и теперь ехал во Владивосток, а дальше – в Магадан, в таинственную организацию «Дальстрой».
Данила часто выходил в тамбур – хотелось побыть одному, но люди то и дело толкались вокруг, нещадно дымя. Только к ночи затихало, и он мог спокойно стоять в одиночестве, облокотившись на вагонную дверь вытянутыми руками, глядя на свое отражение в темном стекле. Данила ехал искать золото, и его охватывало волнение – мало кому из выпускников курса так повезло.
Случайный попутчик, вертлявый мужичок средних лет по имени Сил, тоже ехал к новому месту. Сил выкладывал заводские трубы, переняв ремесло у отца с дедом.
«Ты видел человека без места жительства? – приставал он к Даниле. – Смотри, ешкин кот! – тыкал он себя в грудь. – Стали мы заводы строить – и “трубачи” нарасхват! А я, между прочим, – грозил он пальцем, – самые высокие трубы кладу, таких мастеров на всю страну два или три. Где же мне, кочевнику, по-твоему, жить, если дело мое – труба? А ты, – довольно щурился Сил, – ешкин кот, тоже кочевник – сегодня здесь, завтра – там». И не замолкая, начинал новую удивительную историю про трубу, сложенную на этот раз в Запорожье, про тонкости своего уникального дела. «Давай, открывай кладовые, – сказал он, прощаясь в Хабаровске. – Построят завод, я тебе такую трубу поставлю, облака в профиль увидишь».
На двенадцатый день Данила добрался до Владивостока и на пароходе «Совет» поплыл из Находки через Татарский пролив к Магадану, представ перед начальником геологоразведывательного управления «Дальстроя» Цесаревским.
– Знайте, – сказал Цесаревский, рассматривая Данилу строгими черными глазами из-под густых, вразлет, бровей, – у вас в запасе лет пятнадцать, потом ничего не откроете, будете в кабинете сидеть. Поэтому жалеть себя не советую. – Он еще раз оглядел высокого, крепкого, лобастого, как и сам, черноволосого парня, застывшего на краешке стула, смешно выпрямив по-военному спину. Улыбнулся. – Там, куда вы едете, нужны знания, выносливость и ясная голова.
Данила, не мигая, смотрел на Цесаревского.
– Вам также следует знать, – продолжал тот, – что сейчас требуется золото, которое можно добывать быстро и дешево. Пока это основное – быстрое и дешевое золото.
Цесаревский вышел из-за стола и крепко пожал руку вытянувшемуся Даниле.
– Желаю успеха! И торопитесь, полевой сезон на носу. Вы уже потеряли много времени.
Он еще раз оглядел Данилу темным взглядом. Там, куда Цесаревский посылал этого парня, окончившего тот же институт, что и он, не было ничего, но жизнь трудно, коряво зацепилась за берег Золотой Реки. Появились крохотные домики, три на четыре, ставились палатки, строились бараки, возникали разведрайоны. Около четырех сотен людей уже населяли глухой край. Заработал отдел геологического управления, который пополнялся новым кадром. Но ничего похожего на сострадание или жалость не шевельнулось в Цесаревском. Не жалея себя, он не позволял себе жалеть и других и, всматриваясь в лицо Данилы, пытаясь прочесть его мысли, почувствовать его решимость, сам готов был оказаться на его месте.
Даниле повезло – на автобазе отыскалась уходящая на трассу машина. Последние триста километров он ехал на тракторных санях среди ящиков с тушенкой, палаток, сварочного агрегата и еще какой-то всячины, укрытой брезентом.
– Молодец, успел. – В натопленной палатке, заставленной вьючными ящиками, долговязый, заросший щетиной парень с острыми черными глазами протянул ему руку. – Послезавтра выступаем. Нам по рации передали, что ты выехал. Накормлю тебя, и поговорим. – Парень расшуровал примус, поставил сковородку, вывалив в нее две банки консервов, принюхался к аппетитному аромату. – Зимой тут с голоду пухли. Я – Рощин Андрей, начальник твоей партии. – Он снова протянул руку. – Переночуешь здесь, а осенью соорудим тебе дом, какой понравится.
Чуть ближе к сопке от берега Золотой Реки Данила увидел наскоро сколоченные деревянные балки, ряд каркасных палаток, таких же, в какой поселил его Рощин, – все, что успели поставить здесь осенью и зимой.
«Живут же люди», – сказал он себе, и эта простая, безупречно ясная мысль примирила его с неизбежным.
Как назло, зарядили дожди. Долину Золотой Реки непрерывно продувал холодный ветер. Низкие, грязные тучи мокрыми тряпками хлестали вершины мрачных, понурых сопок, на склонах которых, как и в долине, и на льду, местами еще лежал снег. Дождь трамбовал, просверливал его, делая похожим на ноздреватый сыр.
Их партия из семи человек торопилась до ледохода. Им предстояло перебраться с лошадьми и снаряжением на другой берег, пройти перевал и выйти в междуречье Золотой Реки и Эльгана.
Когда тронулись, дождь превратился в снег. Ветер бросал в лицо тяжелые мокрые хлопья, налипал на лошадей, впитывался в одежду. Он стих только к вечеру, когда они поставили палатки, разожгли костер и принялись готовить еду. Поужинав, Данила забрался в спальник и мгновенно уснул.
Проснулся он рано. В палатке стояла духота. Данила вылез наружу и увидел яркое солнце в прозрачном небе и уплывающие на юг редкие льдинки облаков.
Наступил июнь. Снег исчезал на глазах. На склонах сопок расцвели подснежники, ручьи сбегали с гор в обмелевшие русла рек. Пройдя перевал, на седьмые сутки партия вышла в зону поиска.
Им предстояло обследовать междуречье и восточную часть Эльганского плоскогорья. Данила занимался гипсометрической и геологической съемкой. Промывальщиком с ним работал Корякин.
«Ты лоток-то ровнее держи, резко не наклоняй, – советовал он, обучая Данилу. – Да не сливай воду углом, ничего не останется».
Они шли по водоразделу, выбирая места для проб, но золота не было. Планшет покрывался новыми горизонталями, в дневниках появлялись описания кварцевых жил, даек и коренных отложений. И все хуже становилось настроение.
Весна выдалась дружной и жаркой. Такой красоты Данила еще не видел. Трудно было представить, что недавно здесь лютовали морозы. Река прорвала забитое торосами русло. Ручьи начали быстро мелеть и светлеть. Всюду появилась рыба. Проклюнулась зелень на лиственнице. Багульник украсил террасы сиреневым цветом, по увалам на прогретых проплешинах рассыпались горсти мохнатых фиолетовых колокольчиков, а распадки залил розовым морем Иван-чай. Весенние запахи кружили голову, навязчиво провоцируя понежиться в этом благолепии.
Но теперь долина речки третий день золотила, хотя ухватиться за золото не удавалось.
«Откуда-то его несет?» – рассуждали они после очередного бесполезного дня. К концу июня вышли в среднее течение Унакана. Вечером встали на ночлег у ручья. Пока Артем, Данила и рабочий устраивали лагерь, Остаповский взял лоток.
– Пойду, вспомню молодость, попробую вон на том устьице, чем черт не шутит.
Побродив по берегу, он облюбовал небольшую террасочку, набрал скребком пробу. Подставил лоток под камень, с которого ручейком стекала вода, отмыл муть, сбрасывая гальку, довел шлих до серого и плавными движениями обнажил желобок лотка с черным шлихом. То, что он увидел, заставило его сесть на поваленное паводком дерево. «Грамма три, а то и все четыре, – прикинул он наметанным взглядом. – Мать честная! С лотка!» Он опасливо оглянулся, словно кто-то мог подсматривать из кустов и спугнуть долгожданную удачу. Вокруг – ни души. Только весело шумела холодная, прозрачная вода. Чуть ниже дымил костер, мужики готовили ужин. Остаповский поковырял веточкой золотинки, достал мешочек, аккуратно смыл в него шлих и взял новую пробу прямо из русла ручья. Промыл, откинул шлих от канавки лотка. Ему показалось, золота рыжело еще больше. Не сливая шлиха, он принес лоток к стоянке…
Остыли уха и чай, молочная белизна ночи начала розоветь, за дальними сопками заалело, а они все обсуждали находку, строили планы на ближайшие дни. Надо было капитально прошлиховать всю долину, опробовать соседние ручьи. Убедиться, что напали не на случайный карман.
– Мы с Василием займемся долиной, – сказал Рощин Даниле, – а ты двигай в верховья, поищи коренные выходы.
Данила быстро шел вдоль Унакана, осматривая берег. Долина постепенно сужалась, поворачивая влево, обнажая старое русло, справа начинались пологие сопки. Он остановился, решив попить чаю. Сбросил рюкзак, прислонил к нему карабин, достал консервную банку, зачерпнул из реки воды и быстро развел маленький костер. Пока закипала вода, рассматривал карту: у следующего ручья ему надо повернуть направо и подняться вверх. До ручья оставалось километров шесть. Вдыхая запах костерка, Данила думал, что судьба бросила ему вызов, и он этот вызов принял – они нашли золото и вернутся не с пустыми руками. Выпив три кружки сладкого чая, он взвалил на спину рюкзак, повесил на грудь карабин и, положив на него руки, двинулся дальше. Он уже поднимался по ручью, когда заметил впереди выход мощного разлома, в котором обнаружил видимое золото. До позднего вечера изучал участок, излазив сопку, набивая рюкзак пробами. Довольный, Данила вернулся в лагерь, решив на следующий день все еще раз хорошенько излазить. Рощина с Остаповским не было – с промывальщиком Степановым и рабочим Чебаковым они ушли в многодневку обследовать два других ручья, впадающих в Унакан.
Вечером Корякин по пути набрал рюкзак дикого лука. Он тоже был в приподнятом настроении.
– Пробы – закачаешься! Давай праздновать, начальник, – предложил Корякин, вываливая из рюкзака лук. – Проголодался.
– Проголодался он, – кольнул его взглядом мрачный мужик с веселой фамилией Вертипорох. – На день: банка тушенки, кукуруза, горох, галеты, а больше ни хрена. Рыбу лови.
– Завтра на охоту пойду! – Корякин взял мыло и направился к ручью.
– Охотник выискался, – язвительно буркнул вслед Вертипорох. – Чего ты акромя двух зайцев наохотил-то? Лупишь в белый свет, как в копейку.
– Это я-то? – Корякин остановился. – А ну, бросай шапку! – И он кинулся за карабином.
– В дерево попади. – Вертипорох ткнул пальцем в тоненькую лиственницу, метрах в тридцати. – Вон, сухонькая стоит, сбей.
Корякин коротко прицелил, но вместо выстрела раздался щелчок бойка.
– Опять! – выругался Корякин. – Вот так олень от меня ушел.
Он передернул затвор – и вновь мертвый удар бойка.
– Небось с Гражданской патроны, – усмехнулся Вертипорох.
Лежа на боку, он выдувал из костра искры, сплетая язычки пламени.
– Слышь, Корякин, – отвернул он от огня бородатое лицо, – а у твоего оленя нос какой был?
– Нос как нос, а что?
– Да нет, ничего, я думал – пятачком, – незлобно осклабился Вертипорох. – Дай-ка! – вскинул карабин одной рукой. Грохнуло!
Лиственница вздрогнула, верхняя часть ее слегка качнулась и свалилась набок, повиснув на древесных нитях.
– Как человек, – вырвалось у Данилы.
– А ты видал, как человек, начальник? – Вертипорох поднял тяжелые глаза, отдал Корякину карабин и отвернулся к костру.
Вечер выдался тихий. Уютно потрескивали в огне дрова, рядом шипел чайник. Шарахались от жара комары. За сопку медленно садилось солнце. Оно подкрашивало розовым светом облако, заблудившееся в густеющем небе.
Завтра к стоянке должен прийти отряд Рощина. Теперь им предстоял переход через Нитканский перевал в водораздел Ниткана и От-Юряха.
– Ты где так стрелять научился? – Корякин закурил, подсел к Вертипороху, протянул ему мешочек с махоркой.
Вертипорох ухватил грубыми пальцами щепотку махры и неожиданно ловко свернул самокрутку.
– В Кызыле с отцом на охоту ходил. – Он вытащил из костра прутик с мерцающим на конце фонариком, затянулся, пряча самокрутку в ладони.
– Да, – вздохнул Корякин, – много нынче народу по стране перемещается. А спроси, зачем?
– Заработать. – Вертипорох швырнул окурок в костер. – Зачем еще?
– Как знать… – Корякин задумчиво повертел в руках кружку с чаем. – А может, затаиться, как зверь в тайге, а? Чтобы кто посильнее не сожрал?
– По-твоему, если человек выгоду ищет, так конченый он? Жизнь, она, не спросясь, приведет, куда и не снилось, а ныне и подавно. Заметались люди внутри себя да по весям. А уж кого на какую дорожку вынесет – на то и судьба. – Вертипорох ковырнул костер. В небо взметнулся сноп искр, пламя рванулось за ними, но сразу осело, облизывая необгоревшие стороны суковатых поленьев.
– Выгода выгоде рознь, – не согласился Корякин. – А про жизнь нашу – верно. – Он сел, обхватив колени. – Думал, пережду малость, но привык. Почему так?
– Я тебе в душу не лазил, – угрюмо отозвался Вертипорох. – Завтра зэков нагонят это золотишко копать, у них и спроси: привыкли иль нет.
Утром Корякин под ядовитые насмешки Вертипороха двинулся пытать счастье на охоте. Данила тоже взял карабин и пошел на левый водораздел ручья нанести горизонтали по границам района.
– Дыми! – сказал он Вертипороху.
– Не переживай, начальник! Дадим копоти.
Данила поднялся на сопку, сел на круглый валун, раскрыл планшет и огляделся. В разные стороны от него волнами разбегалась тайга. Разогретый подъемом, он сбросил брезентовую куртку, лег на нее, разглядывая глубину чистого, без единого облачка, неба. Но уже через несколько минут сказал себе: «Работай!»
Перемещаясь по склону, он заметил идущего человека. Данила присел, стараясь разглядеть незнакомца. Человек явно направлялся к костру. Вертипорох, видимо, подкладывал в огонь сырые хвойные ветки, и дым поднимался высоко, разносясь по долине.
Данила пододвинул карабин. Рации в партии не было, но перед выходом в маршрут пришло предупреждение о побеге со строительства дороги, и Данила с тревогой посматривал то на идущего, то в сторону костра. Вдруг его прошила холодом страшная мысль: а если придется стрелять в этого человека? Что, если он вооружен, а поблизости притаились дружки, отправив одного на разведку: рядом с дымом могла быть еда, оружие, даже лошади.
Данила снял шапочку со взмокшей головы, вытер лоб. Струйка пота скатилась вниз по позвоночнику. Он заставлял себя успокоиться, но мысль: «а если придется стрелять!» – смяла его. Предупредить бы Вертипороха или, еще лучше, незаметно пробраться к нему! Вместе они что-нибудь придумали бы, но Вертипорох дымил за сопкой.
Данила ждал, плохо чувствуя сталь карабина. На всякий случай (только попробовать) приладил ложе к плечу, пока в прорези прицела не мелькнула приближенная напряженным зрением фигура. Он узнал Чебакова! Обругал себя – Чебакова, Рощина и Остаповского они и ждали, задымив всю долину. Господи! Как он растерялся, в секунду потеряв способность соображать. Не замечая катившихся по склону из-под ног камней, он ринулся вниз, крича и размахивая руками, каким-то краешком сознания зацепившись за вчерашние слова Вертипороха: «А ты видел, как человек, начальник?»
Чебаков напоминал лешего. С похудевшего лица затравленно сверкали глаза.
– Третьи сутки плутаю. – Чебаков опустился на землю. – Рощин сказал идти к вам. Завьючили образцы, и я ушел, а они остались еще на день. Не вернулись?
– Лошади где? – Данила опасался новых неприятностей.
Чебаков показал рукой в сторону долины.
– Возьми Корякина, сходите вместе, – предложил Данила.
– Не надо, начальник! – Чебаков завертел головой. – Я сам! Только чаю попьем.
Он ушел, а Данила направился к Вертипороху. Если Рощин с Остаповским не объявятся до вечера, придется терять время.
Данила медленно поднимался по склону и тут заметил справа, в седловине, оленя, который настороженно внюхивался в лесные запахи. На счастье, ветер дул в его сторону. Данила поднял карабин, чувствуя, как в висках пульсирует кровь, нажал на курок и услышал сухой щелчок бойка. Олень вздрогнул, отбежал и остановился, подставив бок. Целясь, Данила увидел в прицел удивленный взгляд коричневых оленьих глаз. На этот раз выстрел прогремел хлестко. Данила понял: попал! Из кустов сломя голову вырвались две куропатки и унеслись, громко хлопая крыльями. Олень подбежал к кромке седловины, упал, поднялся, но прогремел второй выстрел, и он на трех ногах неловко запрыгал по склону к ручью.
Данила бежал следом гигантскими шагами. Упал, больно ударившись о камни, вскочил и понесся дальше. Незнакомая ярость гнала его вслед за раненым зверем, пульсируя в висках только одной ясной, бьющей наотмашь мыслью – добить! Он увидел, как олень свалился в ручей и пытался встать, держа голову над водой. Задыхаясь, подбежал, остановившись метрах в десяти, дослал патрон в патронник. Олень по-прежнему держал беззащитную голову над водой и смотрел на человека с пристальной неподвижностью. Данила увидел в его глазах, или ему показалось, удивление. Он вдруг вспомнил свой страх, поразивший его совсем недавно.
«Неужто тот страх теперь переместился в оленью голову? Шалишь!» – отбросил сомнения Данила и нажал на спуск.
Скинув штормовку, вошел в ледяной ручей, распаляя себя воинственными криками. И хотя никогда не сталкивался с тем, что ему предстояло, знал, что собирается делать. Он так хотел. Теперь его слабость побеждена, он спешил убедить себя в этом и не хотел идти за помощью. Вспомнив, чему учили его Корякин с Вертипорохом, вытащил нож. «Ну! Давай!» – кричал он, стараясь победить в себе чувство омерзения. Тяжело сопя, разрезал олений живот и, давясь тошнотой от запаха плоти, в которой еще теплилась жизнь, выгреб кишки, вырезал сердце и печень, бросил их на куртку. Отволок тушу к кустам, снял рубаху, привязал ее к сухостою для ориентира и двинулся к лагерю.
– Ай да начальник! – воскликнул Корякин.
Он взял двух лошадей и отправился за тушей. Вертипорох внимательно посмотрел на Данилу, начал мостить козлины, шкурить жерди и палки для копчения. Вскоре вернулся Чебаков.
Вертипорох сварил ведро супа. После обеда, порезанную длинными ломтями, посоленную оленину нанизали на ошкуренные ветки из тальника, на козлы положили длинные жерди, поперек на них – мясо, снизу Вертипорох поддерживал не жаркий, но дымный костер, подкладывая сухой тальник. Через несколько часов у них будет полусухое копченое мясо, пригодное для хранения. Переход обещал быть сытым.
Вечером Данила взял карабин и ушел на берег ручья. Хотелось побыть одному. Он разжег костерок. От огня веяло теплом и спокойствием. Ветер стих, в молочно-розовом небе светлым мазком повисла луна. В огне Даниле чудились то идущий по долине Чебаков, то голова оленя и его удивленный взгляд. Он знал, что этот день затаится в нем, ожидая подходящего момента, чтобы напомнить о себе.
«Ерунда!» – громко сказал Данила и выстрелил в небо. Тишина вздрогнула, прорвалась раскатами, какое-то время слышались разные звуки, которые, затихая, становились продолжением тишины. Данила загасил костер и пошел в лагерь. Он начал сближение с этой землей.
Рано утром появились Рощин с Остаповским. Их накормили бульоном, напоили чаем, и оба тут же уснули. Данила и Вертипорох пошли осмотреть дорогу на перевал.
Они спокойно двигались по распадку, когда в долину, едва не касаясь голов, тяжелой глыбой вползла низкая серая туча. Мгновенно потемнело. Передний край тучи уперся в сопку. В ней происходило какое-то бурление, серые потоки закручивались в спирали, наползали друг на друга, смешивались – то, светлея, то темнея. Туча накрыла всю долину, только в той стороне, откуда она пришла, где виднелся ее край, светила желто-зеленая полоска. Ветер нагонял новые набухшие потоки клубящейся мглы, и наконец она лопнула, просыпалась тяжелыми хлопьями мокрого снега.
– Природа, раскудрит ее! – проворчал Вертипорох, толкая Данилу под лиственницу. Они укрылись под кроной, наблюдая, как на глазах приникает к земле побелевшая трава, как опускаются под тяжестью налипшего снега ветки.
– Покурим, что ли, начальник? – Вертипорох достал папиросы.
– Давай. – Данила взял папиросу.
– Сезон кончим, куда подашься?
– Нас не спрашивают.
– Время такое. – Вертипорох хмуро затянулся дымом. – Я в толк не возьму, что ж получается, чем больше мы золотишка найдем, тем больше, выходит, народу посадить надо? Достанет ли сил отвернуть с этого курса, а? Землю обживать надо, а с зэка какой спрос?
– Наше дело искать. А дальше жизнь покажет.
– Да, по-всякому может быть, – вздохнул Вертипорох. – Может, и разберутся когда, только мало проку ни в чем не обнадеживающую дорожку тропить.
– Что ж, мы зря тут небо коптим, по-твоему?
– Нет, – зло хмыкнул Вертипорох. – Светлый путь торим на каторгу.
– Заладил, – проворчал Данила. – Какая тебе надежа нужна? Золото – и есть надежа. Без него государству каюк.
– Я до разведки на прииске три года батрачил. – Вертипорох стряхнул с рукавов снег. – Насмотрелся. Такие, как ты, инженерики, повоюют за правду месяц-другой – и в запой. Куда денешься? Все повязаны. Летом в промывку рабочий день по тринадцать-четырнадцать часов, промприбор два годовых плана дает, а месячный не выполняет. Потому как дармовое золото прет, а кубаж приисковые срезают. Лагерным – плевать: работяг выставил, и ладно. Потом отыгрываются приписками. Зона производство дурит, оно – зону. «Чернуху раскинуть» по-ихнему называется. Такая надежа выходит, начальник. Пошли, что ли? Посветлело, кажись.
Прошло не более получаса. Темно-серая мгла, обтекая сопку, стремительно уносилась. В засыпанную снегом долину хлынуло солнце. Всюду слышались глухие шлепки падающих с веток сырых снежных комьев. Мимо стрельнул очумелый заяц, оставив след на исчезающем снеге.
– Эй! – крикнул вдогонку Данила.
Заяц, метнув в сторону, наддал ходу и скрылся в распадке.
– Какого черта ты мне это рассказываешь? – с напускной суровостью спросил Данила.
– Глядишь, пригодится когда, – ухмыльнулся Верти-порох.
Данила решил поговорить с Рощиным. У него все же опыт колымских маршрутов. Простая житейская логика Вертипороха подавляла. Данила злился, чувствуя за ней правоту и силу, но не хотел признавать их. Они мешали его представлениям о будущем. А кому удается в будущее заглянуть? Вертипорох прав. Позади них течет скрытая угрюмая река иной жизни, и он только-только начинает приближаться к пониманию ее.
Молча они вышли на небольшую с высокой травой поляну, подковой вклинившуюся в лес. Данила, занятый своими мыслями, шел впереди и не заметил, как из кустов прямо под ноги выкатились два рыжевато-коричневых медвежонка размером с небольшую собаку. Забавляясь, они весело гонялись друг за другом, кружа вокруг Данилы. Он зачарованно смотрел на пушистые мячики и уже было наклонился схватить, потормошить их, как услышал сзади змеиный шепот:
– Не смей! Отгоняй полегоньку.
Данила обернулся.
– Гони! – засипел Вертипорох, опасливо снимая с плеча карабин. Его тревога передалась Даниле. Происходило что-то непонятное и, судя по поведению Вертипороха, весьма опасное. Но не было ясно, что это за опасность. Тем более для здоровых, вооруженных людей. Не могла же она таиться в веселых, беззащитных медвежатах?! Волнение мешало сообразить, как отогнать настырных игривых малышей. Не придумав ничего, он смешно, неуклюже согнул колени, растопырил длинные руки и пошел полуприсядью на медвежат, гоня их, словно кур с огорода, шипя, как Вертипорох, по-змеиному: «Кыш отсюда! Кыш!»
И сразу в нескольких метрах от него, у самой опушки, в кустах послышалось невнятное бурчание, зашевелилось что-то неуклюжее, крупное, и над кустами встала на задние лапы медведица. Громадная, готовая к атаке, она смотрела на Данилу, оценивая исходящую опасность. Страх поразил его в неловкой полусогнутой позе, с растопыренными руками. На одной болтался бесполезный карабин. Медведица стояла близко. Очень близко. Мотнув головой, она коротко рыкнула. Медвежата покатились к ней, и когда нырнули в кусты, грохнул выстрел. Медведица удивительно мягко, в спором повороте, опустилась на передние лапы и, ломая кусты, ринулась за медвежатами.
Данила по-волчьи, всем телом повернулся. Вертипорох увидел на его лице диковатую улыбку.
– Мимо? – глупо улыбаясь, шепнул Данила.
– Дак я в воздух, начальник, шуганул малёк! – засмеялся Вертипорох. – Ушла косолапая, небось всю округу горохом засыпала.
– Каким горохом? – Данила улыбался той же диковатой улыбкой.
– Очнись, начальник! – Вертипорох прикурил папиросу, сунул ее в рот Даниле. – Малые-то одни не бегают, учти наперед. Мать всегда рядом.
Способность соображать возвращалась. Данила выпрямился, опустил руки, поймав ремень сползшего карабина, и вдруг, налившись безотчетной злобой, ощерился и двинулся на Вертипороха.
– Ты что же, дышло в твою… глотку, – грязно выругался Данила, – поиграться вздумал?
Он кричал что-то еще. Выражение его лица даже слегка смутило Вертипороха.
– Остынь, – как можно спокойнее сказал он, – летом медведь сытый. Она нас пугала – детенышей защищала.
Какой ей прок на рожон лезть. А убивать жалко – погибли бы медвежата, малые еще.
– Пожалел, значит, – въелся горячим злым взглядом Данила.
Нежданно, не ко времени его больно ковырнуло удивление: вчера, убивая оленя, он не испытывал жалости. Он помнил это точно. Может быть, только вечером, у костра.
– Считай, ты их спас, начальник, – не реагируя на выпад Данилы, примирительно усмехнулся Вертипорох. – Мясо есть, зачем нам. – Помолчал, колючие глаза обмякли, на заросшем лице произошло движение, и оно расплылось в неожиданно хорошей доброй улыбке: – Хай живут! – крикнул он звонким голосом.
И добрая улыбка, и веселый крик разогнали тучи между ними.
– Сам-то как? – с озабоченной серьезностью спросил Вертипорох.
– Что как? – не понял Данила.
– Штаны сухие? – Вертипорох резко притормозил.
– Счас вот дам в лоб! – Данила резко обернулся, пытаясь схватить Вертипороха вытянутой рукой.
Но тот поотстал, показывая на сопку. По склону не спеша шла медведица, а за ней смешно карабкались два рыже-коричневых шарика.
Вечером Данила с Рощиным отправились на берег ручья. Рощин долго, в нерешительности молчал, не очень представляя, как ответить на простые, наивные и откровенные вопросы. Он уже находился во власти нерастраченного азарта первых маршрутов, борьбы честолюбий, беспощадности ко всему, что мешает выполнению задачи. Конечно, строили, добывали золото заключенные, но их присылали сюда работать вместе с ним, и они работали почти на равных.
– Да-а, – задумчиво протянул он, – странные у тебя мысли. Выкинь! Пустое. Не мы, так другие. О большем не спрашивай, не знаю. – Рощин слегка ткнул в плечо опустившего голову Данилу. – Мы к зоне отношения не имеем. Факт! Но раз мы здесь и видим все своими глазами, запоминай. Правду запоминай. Может, когда и тебя спросят.
– Больше некого, что ли? – уныло возразил Данила.
– А лишней памяти не бывает, – жестко ответил Рощин. – И мы с тобой не страусы, чтобы глаза прятать. Верно?
Данила кивнул.
– То-то! Жизнь, при всей ее скоротечности, штука долгая. Народ у нас большой и сильный. В зоне весь не сгинет. Глядишь, и наша память сгодится.
– А что, по-твоему, с нашими кварцами будет?
– Разберутся, – спокойно сказал Рощин. – Думаю, не скоро руки дойдут.
– Значит, лет через двадцать какой-нибудь Вася разведает, обидно.
– Может, и так, – зевнул Рощин.
Весной 1940 года на стол Сталину легла докладная записка. Весь день у него проходили совещания – Германия стояла у границ Советского Союза. Уже далеко за полночь Сталин достал из папки докладную записку. В ней сообщалось, что, «по соответствующим подсчетам, запасы золота и олова в россыпях и рудах на территории, осваиваемой «Дальстроем», достигают: золота – 2200 тонн, олова до 200 тысяч тонн.
«Чтобы оценить значение этих цифр, – читал Сталин, – надо учесть, что 15-й Международный геологический конгресс в 1928 г. определил перспективные запасы золота во всех капиталистических странах в 8800 – 11000 тонн.
За 1939 год “Дальстроем” на Колыме добыто химически чистого золота 66.7 тонны и олова 5100 тонн (металла в концентратах)…»
Сталин оторвался от бумаги, припоминая, как еще в конце двадцатых годов от геологов поступали сведения о возможных крупных запасах золота на Колыме. А еще нужны были нефть и уголь, прокат, сталь, лес, медь, никель, железные и шоссейные дороги, каналы и электростанции. И все требовалось сразу, поэтому в двадцать девятом году было принято решение использовать заключенных на эксплуатации природных богатств и в колонизации пустующих земель. И вот за десять лет есть почти все. Еще мало, еще не хватает, но уже есть. Правильно ли он поступил тогда? И был ли у него выбор? Прав ли он был потом, в тридцать восьмом, когда не согласился с Президиумом и настоял на мерах, позволяющих оставлять на работе освободившихся из заключения как вольнонаемных. Он говорил, что освобождение людям нужно, но с точки зрения государственного хозяйства это плохо.
Сталин встал, мягкой неслышной походкой прошелся по красно-зеленой ковровой дорожке кабинета. Разве Петр не сгонял всех без разбору строить флот и новые города. В политике цель оправдывает средства, если это великая цель. Так было и так будет. Его цель – сильная страна.
Он вернулся к записке. «…К началу текущего года “Дальстроем” построены и введены следующие мощности:
а) 42 прииска с россыпной добычей золота, из которых 13 вступают в первый год эксплуатации;
б) 3 оловообогатительные фабрики общей мощностью в 160 тонн перерабатываемой руды в сутки;
в) электростанции с суммарной установленной мощностью 22400 квт.
В 1940 году “Дальстрою” предстоит переработать около 28–30 млн. кубометров горной массы (по золоту и олову), чтобы выполнить установленный на этот год план добычи химически чистого золота 80 тонн и олова в концентратах 2000 тонн.
На стройках и предприятиях “Дальстроя” работает автопарк с количеством машин в 2900 единиц и 500 тракторов».
Цепкая память Сталина открутила назад девять лет. Осенью тридцать первого года он подписал постановление ЦК об образовании на Колыме специального треста с исключительными полномочиями. Тогда, в тридцать втором, они хотели получить всего десять, а на следующий год – двадцать пять тонн. При царях вся Россия за год едва дотягивала до сорока.
Он подчеркнул синим карандашом цифру «80» и попросил соединить с начальником «Дальстроя». Через несколько минут раздался звонок, он поднял трубку и спросил: «Можете ли вы на следующий год добыть сто тонн золота, и что для этого необходимо?»
Выслушав ответ, он сказал: «Это очень хорошо, что изучаются новые перспективные районы. Отправьте список всего необходимого для выполнения этого важного государственного дела».
«Если добывать по сто тонн в год, – прикинул Сталин, – открываются хорошие перспективы. Но такие объемы руками не перекидать».
Он позвонил Берии. «Надо подумать, – сказал Сталин, – как дальше обживать Север. Там завтра потребуется много техники и специалистов».
Он раскурил погасшую трубку, подошел к окну. В ночном мартовском небе золотой россыпью сияли мириады звезд. Сталин вновь возвращался к цифрам из докладной записки. Они оказывали магическое воздействие, странным образом совпадая с его представлением о финансовом могуществе. Он был уверен, что стране нужен золотой запас в две тысячи тонн. И они лежали в долинах сибирских рек.
Тетрадь Данилы
Цесаревский
В пятьдесят первом случилось сильнейшее наводнение. Индигирка взбесилась, затопив террасу, на которой стоял поселок. Это стало поводом посудачить: вот, Цесаревского предупреждали, что, судя по плавникам, терраса затоплялась Рекой, но он легкомысленно отмахнулся от предупреждения, мол, на наш век хватит. Правда, был «Дальстрой», и такие разговоры о начальстве могли закончиться, в лучшем случае, переездом в барак по другую сторону колючей проволоки. Но люди всегда готовы поболтать об ошибках начальства.
Не одобрял действий Цесаревского и Рощин. Все про город Глупов напоминал. Я с ним спорил. Полевой сезон в 1937 году, пусть и скукоженный, но состоялся, хотя зимой пришлось сильно поголодать. Почти сто тонн груза, что везли на оленях, застряли в ста километрах, и что-то начало поступать только ранней весной, остальное сплавили уже по большой воде в июне на кунгасах.
Я спрашивал Рощина: не окажись здесь людей летом тридцать седьмого, не потеряли бы еще целый год? Он называл меня дураком: «Тебя тут не было, а мы все, – возмущался он моей глупости, – могли передохнуть с голоду». Я не соглашался. Мне казалось, у меня, минимум, две жизни, а молодость и здоровье неизменны. Я даже жалел, что не прилетел сюда с первыми самолетами вместе с Цесаревским.
Забросить экспедицию на Реку самолетами – была его идея. Многим она казалась нелепой и невыполнимой, но у Цесаревского был приказ начальника «Дальстроя» уже поздней осенью 1936 года начать переброску грузов на Реку оленьим транспортом. А это почти четыреста километров в один конец по бездорожью, через перевалы, занесенные снегом, через наледи в мороз ниже пятидесяти.
Кем-кем, а дураком Цесаревский не был и понимал, что рассчитывать на помощь тракторов не может, слишком легкомысленно, как и организовать работу тысячи оленьих упряжек, которые плохо вписывались в жесткие рамки местных приказов. Как ни крути, их и до весны не собрать, а с такими темпами меньше чем за два года экспедицию не организуешь. Такого ему никто бы не позволил. Требовалось другое решение, и он его нашел.
Это был смелый план – перебросить экспедицию по воздуху. Такого не делал никто. Авиаторам предстояло перебросить экспедицию с берегов Алдана из Крест-Хальджая за пятьсот километров, садясь прямо на воду Золотой Реки. Но где взять самолеты? Он направил свой план прямо в Наркомат заместителю Ежова. Но там не было своей авиации. Пришлось обращаться в Наркомат обороны к самому Ворошилову. Удивительно быстро решился этот вопрос. Ведь речь шла о золоте! Тут же в Москве нашелся двухмоторный бомбардировщик, который переставили на поплавки, еще три одномоторных самолета отправил авиазавод из Ташкента.
После этого пути назад Цесаревскому не было. Легко представить, что случилось бы с ним, сорвись задуманная операция, в которой участвовали такие силы. Поэтому и не могу понять тех, кто спустя годы стал шептаться за его спиной, что все можно было сделать иначе. Конечно, можно! Да только жизнь часто не оставляет времени для иных решений. Мы живем всегда по законам своего времени, а не какого-то абстрактного.
План Цесаревского вступал в решающую фазу. В Иркутске экспедиция поделилась натри группы. Первой был авиаотряд, состоящий из военных летчиков. Часть отправлялось на Ангару, где шла сборка трех гидросамолетов, другая прибыла туда своим ходом. Вторая группа, куда входил основной состав экспедиции, добиралась до Лены, там строила кунгасы и на них сплавлялась до Усть-Кута, а дальше на буксире до Крест-Хальджая. Это заняло около месяца. В конце июля на Алдан прилетел авиаотряд, а в начале августа начались рейсы на Индигирку. Сначала улетели те, кто должен был обеспечить работу гидроаэропорта, следом началась заброска геологических партий, которая растянулась почти до конца сентября.
Больше всего досталось третьей группе. В нее входили конвой и несколько десятков заключенных, которые должны были доставить часть грузов и начать шурфовку. Пруппа шла самой дальней дорогой – до устья Лены, затем на восток по морю до Индигирки. На небольшом пароходике первый этап кое-как добрался к осени до Момы, а дальше, где пешком, где на оленях, обходя пороги, вдоль замерзающей Золотой Реки только в начале ноября обмороженным, без сил притащился на базу. Состояние людей было плачевным – затребованный объем шурфовки они выполнить не смогли.