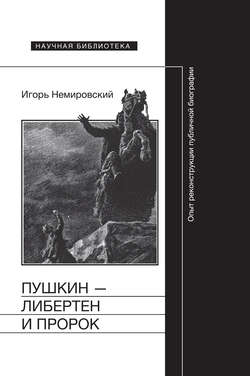Читать книгу Пушкин – либертен и пророк: Опыт реконструкции публичной биографии - Игорь Немировский - Страница 4
Как пушкин стал пророком
Оглавление(Из истории ранних пушкинских биографий)
I
Представляя свой труд «Материалы для биографии А. С. Пушкина» (1855) министру просвещения и главе цензурного ведомства А. С. Норову, П. В. Анненков заверял его, что «цель биографии также заключается и в том, чтоб указать примерное религиозное и нравственное направление Пушкина во второй половине его жизни»[1]. Анненков знал, кого и в чем он заверял: министр просвещения, Авраам Сергеевич Норов (1795 – 1869), относился к числу знакомых Пушкина и известен в биографии поэта тем, что собственноручно сжег рукопись «Гавриилиады»[2].
Разделяя жизнь поэта на две половины, из которых памяти достойна только одна, вторая, Анненков следовал мнению, распространенному среди современников. «Благородное» желание скрыть «неприличное» побуждало знакомых поэта с удовольствием вспоминать о том, как они, во благо его доброго имени, уничтожали его произведения: Норов – «Гавриилиаду», А. М. Горчаков – «Монаха»[3].
С. А. Соболевский, получив «Материалы к биографии Пушкина», писал М. Н. Лонгвинову:
Благодарю А‹нненкова› ‹…› за то, что он не восхищается эпиграммами П‹ушкина›, приписывает их слабости, сродной со всем человеческим, и признает их пятнами его литературной славы…[4] Что он ни слова не упоминает о Гаврилиаде…[5]
Представление о том, что жизнь Пушкина делится на две неравные по значению половины, было в значительной степени отражением официального взгляда на Пушкина, состоявшего в том, что после встречи с императором Николаем 8 сентября 1826 года Пушкин совершенно переменился и стал «иным»[6]. Но, конечно, концепция Анненкова о двух половинах жизни Пушкина не была простым следствием его желания соответствовать официальному курсу. Об этом свидетельствует то, что «первый пушкинист» развивал ее не только в официальной переписке с министром просвещения, но и в письмах к друзьям:
только… Пушкин…. который признан единогласно воспитателем русского общества, мощным агентом его развития и объяснителем духовных сил, присущих народу, только этот нам и нужен, а о его двойнике нам достаточно общей характеристики[7].
Хотя Анненков, по-видимому, искренне считал только вторую половину жизни Пушкина вместилищем «примерного религиозного и нравственного направления», представляющим большую ценность для осознания, чем первая, исполненная страстей, ошибок, политического, религиозного и эротического вольномыслия, биограф не следовал этому принципу в своей научной практике. Последовательно и планомерно он изучал и описывал первую половину жизни поэта по крайней мере с не меньшим тщанием, чем вторую. При этом он прилагал все возможные усилия для того, чтобы, несмотря на суровые цензурные ограничения последних лет николаевского царствования, сделать доступной читателю как можно больше информации. Он, естественно, не мог прямо упоминать о связях Пушкина с декабристами, но при этом умудрился процитировать письмо Пушкина брату Льву, где имена А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева, скрытые под криптонимами Б и Р, прочитываются совершенно ясно, поскольку указывается, что они были соиздателями альманаха «Полярная звезда»[8].
Не имея возможности рассказать о «Зеленой лампе», Анненков приводит сюжет, связанный с ее хозяином Н. В. Всеволожским[9], и цитирует стихотворное послание из письма Пушкина к Якову Толстому («Горишь ли ты, лампада наша», II, 264). Стихотворение приведено почти полностью – за вычетом следующих строк:
Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство (II, 264).
При этом в ходе работы над книгой у Анненкова складывается концепция духовного развития Пушкина, объясняющая причины резкого перехода поэта от одной половины жизни к другой. По мысли ученого, перелом в мировоззрении поэта произошел в Михайловском, существенно раньше встречи с царем, когда с помощью инъекции национального самосознания Пушкин вылечился от модных французской и английской болезней и стал – во второй половине жизни – выразителем русского духа[10].
Разделение пушкинского творчества на европоцентристский и национально ориентированный этапы – общее место в оценках Пушкина, начиная с со статьи И. В. Киреевского «Нечто о характере поэзии Пушкина»[11]. При этом большинство критиков сходилось на том, что переломным моментом в развитии поэта стал «Борис Годунов», написанный в Михайловском в 1824 году. Так что в отношении того, что Пушкин двигался сначала от французского, а потом английского влияния в сторону национального, концепция Анненкова не была оригинальной. Но он был первый, кто заговорил не просто об этапах творчества, а о двух половинах жизни и о том, что в Михайловском произошел не просто поворот в творчестве, а «нравственное перерождение» Пушкина; именно такой подзаголовок имеет важнейшая из глав его «Материалов» (девятая): «Михайловское. 1824 – 1826 г.: Прибытие в Михайловское, нравственное перерождение»[12].
При этом нигде в своей книге Анненков не упоминает о пушкинском «Пророке». Это известнейшее из пушкинских произведений было опубликовано при жизни поэта, и, следовательно, на упоминание о нем не было цензурных ограничений. Отсутствие упоминания о «Пророке» примечательно, потому что именно это стихотворение современники считали поворотным в духовном развитии Пушкина. Адам Мицкевич объявил «Пророк» «началом новой эры в жизни Пушкина» в своих известнейших и оказавших колоссальное влияние на русскую культуру лекциях по славянской литературе, прочитанных в Париже в Collège de France в 1840 – 1842 годах[13]. Характеризуя творческую историю стихотворения «Пророк», Мицкевич сказал следующее:
Это – начало новой эры в жизни Пушкина, но у него недостало сил осуществить это предчувствие, ему не хватило духа устроить свою домашнюю жизнь и свои литературные труды в соответствии с этими высокими идеями; пьеса, о которой мы говорим, среди его произведений занимает совершенно особое, поистине высокое место, и никто не знает истории ее создания. Он написал ее после раскрытия заговора 1825 года. Особое состояние, в котором он написал эту пьесу, продлилось всего несколько дней, а потом началось моральное падение поэта[14].
Известно, что, хотя Анненков посетил лишь некоторые из лекций Мицкевича[15], ему мог быть доступен их полный текст в конспектах А. И. Тургенева, который посетил их все[16]. О знакомстве Анненкова с мессианскими идеями Мицкевича свидетельствует скептическая оценка этих идей, данная им на страницах его воспоминаний «Замечательное десятилетие. 1838 – 1848»[17]. Можно поэтому определенно утверждать, что оценка «Пророка», данная Мицкевичем, была известна Анненкову, и отсутствие упоминания об этом стихотворении в его книге являлось значимым для осведомленного читателя.
Возможно, Анненков просто не разделял мнение Мицкевича о том, что «особое состояние», которого потребовало написание стихотворения, «продлилось всего несколько дней, а потом началось моральное падение». Еще более вероятно, что, не упоминая вовсе о стихотворении «Пророк», Анненков выражал несогласие с официальной биографической легендой о Пушкине, связавшей создание стихотворения с аудиенцией у Николая I[18]. О нежелании Анненкова повторять официальную версию говорит и отсутствие в его труде каких-либо подробностей возвращения Пушкина из Михайловской ссылки в Москву и встречи поэта с императором. Этому ключевому и действительно поворотному в жизни Пушкина событию Анненков посвящает всего одну фразу:
Тотчас по прибытии в Москву, Пушкин имел счастие быть представлен государю императору. Скажем здесь, что впоследствии, во всех случаях жизни своей, Пушкин вспоминал о наставлениях, преподанных ему в это время отеческою снисходительностию монарха, не иначе как с чувством благоговения и умилением[19].
Не упоминая о стихотворении «Пророк», Анненков не касается также и других деталей, составивших богатейшую тему «Пушкин как пророк», поскольку идея пророческого дара Пушкина, питаемого общением с императором, была Анненкову глубоко чужда. Выразить же свое несогласие иначе как просто не упомянув о «Пророке» и пророчестве Анненков не мог.
Такое умолчание указывает на несогласие Анненкова не только с той версией официальной биографической легенды об особых отношениях Пушкина с царем, которая сложилась сразу после смерти поэта (более всего в письме Жуковского С. Л. Пушкину)[20], но и с поздним ее развитием, выраженным Гоголем в его знаменитой статье «О лиризме наших поэтов» (1845); она впоследствии вошла в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» (1852).
Определение «лиризма», данное Гоголем, не оставляет сомнений в том, что под «лиризмом» писатель имеет в виду профетизм:
…в лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно – что-то близкое к библейскому, – то высшее состояние лиризма, которое чуждо движений страстных и есть твердый возлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости[21].
По мнению Гоголя, поэтами, воплощавшими «высшее состояние лиризма», были Ломоносов, Державин и Пушкин. Из произведений Пушкина, отражающих это «высшее состояние», Гоголь указывает на стихотворение «Пророк».
В качестве родовых черт русского профетизма Гоголь назвал, во-первых, любовь к России, к ее особому пути, и, во-вторых, любовь к царю[22]. При этом Гоголь сравнивает «лиризм наших поэтов» с «библейским», имея в виду еврейских пророков, говоривших об особой миссии сынов Израиля и бывших при этом собеседниками и советчиками царей. Именно личные взаимоотношения русских поэтов с монархами, по мнению Гоголя, и делали из поэта пророка – и поэтому особое внимание Гоголь уделяет взаимоотношениям Пушкина с императором Николаем I. Не случайно статья о «Лиризме наших поэтов» была написана в форме письма Жуковскому, главному создателю биографической легенды об особом характере отношений Пушкина с царем[23].
В отличие от Анненкова, который предпочел не упоминать суждения Мицкевича о профетизме Пушкина, Гоголь сочувственно цитирует лекции Мицкевича:
Царственные гимны наших поэтов изумляли самих чужеземцев своим величественным складом и слогом. Еще недавно Мицкевич сказал об этом на лекциях Парижу, и сказал в такое время, когда и сам он был раздражен противу нас, и всё в Париже на нас негодовало. Несмотря, однако ж, на то, он объявил торжественно, что в одах и гимнах наших поэтов ничего нет рабского или низкого, но, напротив, что-то свободно-величественное: и тут же, хотя это не понравилось никому из земляков его, отдал честь благородству характеров наших писателей. Мицкевич прав[24].
Гоголь сам на лекции Мицкевича не ходил, но мог знать о суждениях Мицкевича на тему профетизма вообще и пушкинского в частности из многих источников, в том числе от Анненкова, с которым в это время его связывала близкая дружба, а также и от самого Мицкевича[25]. Впрочем, вложенные Гоголем в уста Мицкевича слова не свидетельствуют о действительном знакомстве с лекциями Мицкевича; они лишь указывают на огромную популярность этих лекций в русской культурной среде.
Последующее духовное развитие Гоголя привело к ослаблению его дружбы с Анненковым: тот не принял и осудил «Выбранные места из переписки с друзьями». По его признанию, он был «нравственным участником» создания критического письма Белинского Гоголю, написанного из Зальцбрунна в 1847 году[26].
Важнейшим пунктом этого письма было осуждение Гоголя, в частности за то, что он считал апологетизацию монарха частью профетического служения. Белинский отвечал на это:
Не буду распространяться о вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками ‹…› Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком, овладевает религиозный дух – он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных земли. У нас же наоборот: постигнет человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем religiosa mania, он тотчас же земному богу подкурит больше, чем небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы его наградить за рабское усердие, да видит, что этим окомпрометировал бы себя в глазах общества[27].
Очень похоже, что прямо не названный Белинским «человек (даже порядочный)» – это Пушкин. Приведенное выше соображение Белинского содержит скрытую цитату из послания «Энгельгардту» (1819) с характерным для пушкинской поэзии домихайловского периода противопоставлением «небесного» и «земного царя (бога)»:
Открытым сердцем говоря
Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земного.
(Энгельгардту, 1819. – II, 84)
Это стихотворение при жизни Пушкина было опубликовано без последних четырнадцати строк, в том числе без приведенных выше пяти, завершающих стихотворение (II, 1050). Анненков напечатал концовку под заглавием «Выпущенный конец послания к Энгельгардту» (1857) без последних двух строк по имеющемуся у него списку (не думаю, что по автографу), естественно, содержавшему эти строки (см. там же). Белинскому они могли быть известны как через Анненкова, так и без его посредства, поскольку стихотворение имело хождение во многих списках (см. там же).
В подтексте приведенного выше отрывка из письма Белинского содержится еще одна цитата из пушкинского стихотворения, опубликованного в тот же год, что и послание «Энгельгардту», и имевшего в прижизненной публикации заглавие «Ответ на вызов написать стихи в честь Ее Императорского Величества Государыни Елизаветы Алексеевны» (1819):
На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил
И силе в гордости свободной
Кадилом лести не кадил.
(К Н. Я. Плюсковой. – II, 65)
Из сравнения текстов Белинского и «Ответа на вызов» Пушкина видно, что используемый Белинским мотив «подкурения… земному богу» является перифразой пушкинских строк.
Представляется, что, и приводя в качестве примера ситуацию, в которой «земной царь… и хотел бы его наградить за рабское усердие, да видит, что этим скомпрометировал бы себя в глазах общества», Белинский имеет в виду эпизод из пушкинской биографии, а именно реакцию Николая I на представленное ему стихотворение «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю / Хвалу свободную слагаю», 1828). Жандармская копия стихотворения содержит резолюцию императора «Можно распространять, но нельзя печатать» (ориг. по-французски. – III, 1154). Так и произошло. Стихотворение широко разошлось во многих списках и вызвало негативную реакцию русского общества[28].
Можно догадаться и о том, какие именно стихотворения Белинский имел в виду, утверждая в письме Гоголю, что Пушкину «стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения… чтобы вдруг лишиться народной любви»[29]. Два стихотворения из трех – это почти наверняка «Друзьям» и «Стансы» (1826), более верноподданнических стихотворений в пушкинском репертуаре нет. Трудно удержаться от предположения, что третьим стихотворением, «лишившим Пушкина народной любви», было стихотворение «Пророк», опубликованное в «Московском вестнике» почти одновременно со «Стансами». Стихотворение «Друзьям» открывается цитатой из 138 Псалма («Нет лести в языце моем») и включает самоопределение Пушкина как «Небом избранного певца».
Примечательно, что антипрофетический пассаж Белинского имеет в своем подтексте стихотворения «Энгельгардту» и «Ответ на вызов написать стихи…», относящиеся к одному тому же периоду в жизни Пушкина, между 1818 годом и весной 1820 года. Это было время активного общения поэта с членами оргиастического общества «Зеленая лампа», совмещавшего в своей деятельности эротизм с политическим и религиозным вольномыслием. Эти черты отразились во многих стихотворениях Пушкина этого периода – проявлениях пушкинского либертинажа, который доминировал в творчестве и жизнетворчестве поэта, пока на смену ему не пришел профетизм. Пиком пушкинского либертинажа стал именно 1819 год.
Письмо Белинского к Гоголю указывает на ощущаемый критиком контраст между либертинажной составляющей пушкинского творчества и его профетизмом. При этом хорошо видно, что с профетизмом Белинский ассоциировал представления о верноподданничестве Пушкина, а с либертинажем – политическое и религиозное вольномыслие поэта. Выражение этого контраста в подцензурных произведениях николаевской эпохи было немыслимо. В опубликованной (и, следовательно, прошедшей цензуру) пятой статье о Пушкине Белинский пишет о стихотворениях «Стансы» и «Друзьям» совсем иначе, чем в неподцензурном письме Гоголю. В статье о «Стансах» говорится так:
Эта пьеса драгоценна русскому сердцу в двух отношениях: в ней, словно изваянный, является колоссальный образ Петра; в связи с ним находим в ней поэтическое пророчество, так чудно и вполне сбывшееся, о блаженстве наших дней[30].
О «Пророке» в этой же публикации говорится как о произведении, представляющем «красоты восточной поэзии другого характера и высшего рода», и указывается на то, что он принадлежит «к величайшим произведениям пушкинского гения-протея»[31]. Понятно, что «восточной поэзией другого характера и высшего рода» Белинский называет библейскую поэзию.
Анненков, работая над «Материалами к биографии Пушкина» в последние годы николаевского царствования, хорошо понимал, что в подцензурной биографии Пушкина профетическая тема могла бы иметь только одно воплощение – гоголевское. Критическое отношение к пушкинскому профетизму было невозможно: оно могло навести чиновного читателя на мысль о письме Белинского, а это на момент завершения книги Анненкова оставалось опасным. Совсем немного времени прошло с тех пор, как Достоевский за публичное чтение этого письма пошел на каторгу. Анненков имел это в виду, работая над «Материалами»:
Ф. Достоевский попал на пять лет в арестантские роты за распространение письма Белинского к Гоголю, писанного при мне в Зальцбрунне в 1847 году. Как нравственный участник, не донесший правительству о нем, я мог бы тоже попасть в арестантские роты[32].
Он предпочел не касаться темы пушкинского профетизма и не упомянул о стихотворении «Пророк»[33].
II
После смерти Николая I, в новых исторических и цензурных условиях, у Анненкова появилась возможность написать биографию Пушкина без купюр и без страха навлечь на себя подозрения в неблагонадежности. В его новую книгу «Пушкин в Александровскую эпоху» (1874) вошло многое из того, о чем он не мог или не желал писать в «Материалах». Это, прежде всего, история отношений Пушкина с императором. Так, в частности, было подробно описано возвращение поэта из Михайловской ссылки. Было показано, что, вопреки официальной биографической легенде о Пушкине, ключевую роль в этом событии сыграл не император, а усилия Пушкина, его друзей и родителей. Историческая встреча поэта с Николаем, которую многие современники воспринимали как поворотный момент в биографии Пушкина, описана суховато и без живописных подробностей, восходящих к рассказам об этой встрече самого Пушкина. Н. Я. Эйдельман насчитал более пятидесяти таких историй[34]. Анненков свой рассказ строит не на них, а на единственном воспоминании, восходящем к собеседнику Пушкина, императору Николаю в пересказе М. Корфа[35]. О «личных» отношениях поэта с императором Анненков говорит с большой осторожностью и лаконизмом. Стихотворения «Стансы», «Друзьям» и «Пророк» ни разу не упоминаются на страницах книги Анненкова, и тема пушкинского профетизма прямо не затрагивается, зато цитируется ставшее после этого знаменитым письмо Пушкина из Одессы (1824 год, адресат неизвестен), где он признается в том, что «берет уроки чистого афеизма»[36].
В книге подробно рассказывается об участии Пушкина в собраниях «Зеленой лампы». Анненков определяет это дружеское общество как имеющее «оргиаческий характер» и не без сарказма противопоставляет его декабристскому движению:
когда в 1825 г. произошла поверка направлений, усвоенных различными дозволенными и недозволенными обществами, невинный, т. е. оргиаческий характер «Зеленой лампы» обнаружился тотчас же и послужил ей оправданием[37].
Двойственность поведения Пушкина, сочетавшего общение с «аристократами разгула» (так Анненков определил членов «Зеленой лампы») и глубокий интерес к деятельности «Союза Благоденствия» (1818 – 1821), составляет, на наш взгляд, сильнейшую методологическую сторону второй пушкинской биографии Анненкова[38]. Противопоставляются профанирующее социальные и религиозные нормы поведение Пушкина в рамках «Зеленой лампы» и сочувствие поэта к этической «пуританской» программе Союза Благоденствия. Разрешения, нейтрализации этой противоречивой двойственности пушкинской личности в рамках своего исследования Анненков не дает, притом что на уровне автоманифестации стремится к этому. В новой книге о Пушкине Анненков формулировал свою творческую задачу иначе, чем в «Материалах». Теперь он видел ее не в противопоставлении двух половин жизни поэта, а в преодолении противоречий в оценках его личности:
Если нам удастся одинаково устранить два противоположных воззрения на Пушкина, существующие доныне в большинстве нашего общества, из которых одно представляет его себе прототипом демонической натуры, не признававшей ничего святого на земле, кроме своих личных или авторских интересов, a другое, наоборот, целиком переносит на него самого всю нежность, свежесть и задушевность его лирических произведений, считая человека и поэта за одно и то же духовное лицо, – то цель очерка будет вполне достигнута[39].
Указывая на неправомерность отождествления Пушкина-«человека» с Пушкиным-«поэтом», Анненков мимоходом задевает «второго пушкиниста» и своего извечного конкурента, П. И. Бартенева, однако главный смысл поставленной им перед самим собой творческой задачи заключался в нейтрализации противоречивого отношения к Пушкину, сложившегося в русском обществе к началу семидесятых годов[40], – сам Анненков в значительной степени его разделял.
К этому времени споры о том, был ли профетизм Пушкина выражением его личных отношений с императором или, напротив, выражал скорбь общества по поводу поражения декабристов, сменился вопросом о том, а был ли вообще Пушкин «пророком», то есть был ли он достоин того, чтобы выражать национальный дух. В новую эпоху современники не стеснялись в высказывании самых серьезных сомнений в морали Пушкина. Крайним, но далеко не единственным выражением подобной позиции стали воспоминания лицейского однокашника поэта М. А. Корфа, сделавшего блестящую карьеру при Николае I. По мнению бывшего лицеиста, в Пушкине
не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств; он полагал даже какое-то хвастовство в высшем цинизме по этим предметам: злые насмешки, часто в самых отвратительных картинах, над всеми религиозными верованиями и обрядами, над уважением к родителям, над всеми связями общественными и семейными… ‹…›…Пушкин представлял тип самого грязного разврата[41].
Корф не был одинок. Еще более резко о Пушкине отозвался человек из совсем другого, не правительственного лагеря, декабрист И. И. Горбачевский. При этом, если Корф обвинял Пушкина в аморальности потому, что поэт не был верен императору и отвечал на его милости черной неблагодарностью, Горбачевский упрекал Пушкина в сервилизме. Оба сходились в том, что Пушкин не может быть выразителем русского национального духа:
…Он (Пушкин. – И. Н.) сам при смерти это подтвердил, сказавши Жуковскому: «Скажи ему (императору Николаю I. – И. Н.), если бы не это, я бы был весь его». Что это такое? И это сказал народный поэт, которым именем все аристократы и подлипалы так его называют. Прочти со вниманием об их воспитании в лицее; разве из такой почвы вырастают народные поэты, республиканцы и патриоты? Такая ли наша жизнь в молодости была, как их? Терпели ли они те нужды, то унижение, те лишения, тот голод и холод, что мы терпели? А посмотри их нравственную сторону. Мне рассказывали Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин про Пушкина такие на юге проделки, что уши и теперь краснеют[42].
Резкость критических оценок Пушкина, распространенных в шестидесятые годы, в конце семидесятых сменилась волной обожания. Общество готовилось к открытию памятника Пушкину в Москве. Деньги на него собирались по подписке, и общий характер торжеств имел не официальный, а народный и даже, в определенной степени, оппозиционный характер. В этой атмосфере в год открытия памятника Пушкину появляется итоговая книга Анненкова «Общественные идеалы Пушкина» (1880). Цель ее была отвести от Пушкина упреки в аморализме и беспринципности и показать, что у поэта имелась собственная система общественных воззрений.
Важный акцент книги состоял в том, что эта система не имела ничего общего с правительственной идеологией:
А. С. Пушкин точно так же имел свою домашнюю, секретную теорию разумного гражданского существования, как и учители его – Карамзин и Жуковский, но с тою разницей, что последние пользовались возможностью доводить свои теории до сведения официального мира, между тем как Пушкинские теории, которые он обдумывал долгое время, должны были остаться при нем одном…[43]
Чтобы усилить противостояние между «теорией разумного гражданского существования» Пушкина и официальной идеологией, Анненков постоянно подчеркивает, что между Пушкиным и императором стоял шеф жандармов А. Х. Бенкендорф[44].
Но, конечно, главный пафос книги Анненкова состоял в утверждении народности общественных идеалов Пушкина, на основании того, «что конечная цель всех его (Пушкина. – И. Н.) рассуждений была все-таки забота о народе и о доставлении ему той доли защиты и свободы в труде, каких он сам, по стечению обстоятельств и при известной тогдашней обстановке своей, добыть не мог»[45]. Общественные идеалы Пушкина в изображении Анненкова получали, к тому же, отчетливый почвеннический и даже антизападнический характер:
Он сделался очень чувствителен к выходкам и диффамациям западного либерализма, направленным на всю историю России и на общество. Ему казалось, что отыскать нравственные начала, на которых зиждется наше государство, значит – оградить честь русского ума и народного характера, участвовавших в его образовании. И нет сомнения, что большинство тогдашних писателей, на содействие которых Пушкин и рассчитывал, пошли бы охотно за ним[46].
О профетизме Пушкина Анненков по-прежнему не упоминал, но оценка Пушкина как «пророка» – выразителя народного духа – стала ему очень близка. Об этом свидетельствует реакция Анненкова на речь Достоевского на церемонии открытия памятника Пушкину в Москве (1880). Достоевский прямо назвал Пушкина пророком:
…Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк[47].
Речь Достоевского произвела настолько сильное впечатление на Анненкова, что он, несмотря на плохие личные взаимоотношения, существовавшие между двумя писателями в это время, подбежал и, как писал сам Достоевский жене, стал «жать мою руку и целовать меня в плечо»[48]. Анненкова не смутило, что Достоевский повторил в своей речи формулу своего давнего оппонента Гоголя –
Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русской человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет[49].
Интересно, что тогда же, в год открытия памятника Пушкину в Москве, историк М. И. Семевский отказался печатать антипушкинскую филиппику декабриста И. И. Горбачевского на страницах своего журнала «Русская старина»[50]. При этом тогда же и в том же журнале появились приписываемые Пушкину ужасные вирши, в которых он назывался «пророком России»:
Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди, и с вервием на выи
К у‹бийце›‹?› г‹нусному›‹?› явись (II, 461)[51].
Эти строки были известны Бартеневу со слов Погодина еще в шестидесятые годы, но он не торопился их публиковать, поскольку не считал их пушкинскими. Зато в 1880 году, в контексте пушкинских торжеств, они были опубликованы дважды: со слов С. А. Соболевского[52] и со слов А. В. Веневитинова[53].
1
Цит. по: Модзалевский Б. Л. Работы П. В. Анненкова о Пушкине // Пушкин и его современники. М.: Книжный клуб Книговек, 2015. С. 477.
2
«Июнь 16. Опять был у меня Норов. ‹…› Вчера он, между прочим, рассказал мне следующий анекдот об А. С. Пушкине. Норов встретился с ним за год или за полтора до его женитьбы. Пушкин очень любезно с ним поздоровался и обнял его. При этом был приятель Пушкина ‹В. И.› Туманский. Он обратился к поэту и сказал ему: “Знаешь ли, Александр Сергеевич, кого ты обнимаешь? Ведь это твой противник. В бытность свою в Одессе он при мне сжег твою рукописную поэму”. Дело в том, что Туманский дал Норову прочесть в рукописи известную непристойную поэму Пушкина. В комнате тогда топился камин, и Норов по прочтении пьесы тут же бросил ее в огонь. “Нет, – сказал Пушкин, – я этого не знал, а узнав теперь, вижу, что Авраам Сергеевич не противник мне, а друг, а вот ты, восхищавшийся такой гадостью, как моя неизданная поэма, настоящий мой враг”» (Никитенко А. В. Дневник: [В 3 т.] М.: ГИХЛ, 1955. Т. 2. С. 523).
3
Горчаков А. М. О Пушкине (Из письма А. И. Урусова к издателю «Русского архива») // Пушкин в воспоминаниях современников. 3-е изд., доп.: [В 2 т.] СПб.: Академический проект, 1998. Т. 1. С. 378. (Далее при ссылках на это издание: Пушкин в воспоминаниях современников, с указанием тома и страницы.)
4
C’est le premier biographe qui ait osé dire cela de son héros, que je sache. – Добавление Соболевского. Перевод: Это первый биограф из тех, кого я знаю, который посмел сказать подобное о своем герое (франц.).
5
Пушкин и его современники. Л., 1927. Вып. 31 – 32. С. 37 – 39.
6
См.: Вацуро В. Э. Пушкин в сознании современников // Пушкин в воспоминаниях современников. 3-е изд., доп. СПб.: Академический проект, 1998. Т. 1. С. 11, 21; Майков Л. Пушкин в изображении М. А. Корфа // Русская старина. 1899. Август. С. 310.
7
Анненков П. В. К истории работ над Пушкиным // П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835 – 1885 годов. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1892. С. 441.
8
Анненков П. В. Материалы для биографии Пушкина. М.: Современник, 1984. С. 224.
9
Там же. С. 181 – 182.
10
Там же. С. 121 – 123.
11
Киреевский И. В. Нечто о характере поэзии Пушкина // Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений: [В 4 т.] Т. 2. С. 7 – 21.
12
Анненков П. В. А. С. Пушкин: Материалы для его биографии и оценки произведений. СПб., 1873. С. 123.
13
Допарт Б. Высказывания Мицкевича о Пушкине // Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре. М.: Наука, 2007. С. 88 – 100; Ларионова Е. О. Курс лекций Адама Мицкевича в Collège de France: «Русская идея» в зеркале польского мессианизма // К истории идей на Западе: «Русская идея». СПб.: Изд-во Пушкинского Дома; ИД «Петрополис», 2010. С. 184 – 205; Березкина С. В. «Пророк» Пушкина: Современные проблемы изучения // Русская литература. 1999. № 2. С. 27 – 42.
14
Цит. русский перевод по: Березкина С. В. «Пророк» Пушкина: Современные проблемы изучения. С. 28 – 29.
15
Анненков П. В. Письма из-за границы // Анненков П. В. Парижские письма. М.: Наука, 1983. С. 617. Примеч. 23.
16
См.: Письмо А. И. Тургенева к К. С. Сербиновичу от 21 апреля 1842 года // Русская старина. 1882. Т. 34. № 4. С. 193; Ларионова Е. О. Курс лекций Адама Мицкевича в Collège de France: «Русская идея» в зеркале польского мессианизма. С. 205. О тесном общении Анненкова и А. И. Тургенева в это время в Париже см.: «Я здесь достал у А. И. Тургенева последние три тома Пушкина» (Анненков П. В. Письма из-за границы. С. 58) или «Я был у Рекамье на концерте (все это Александр Иванович Тургенев хранительно напутствует мне)» (Там же. С. 60).
17
См.: Анненков П. В. Литературные воспоминания / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. В. П. Дорофеева. М.: ГИХЛ, 1960. С. 311.
18
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1957. Т. II. С. 437.
19
Анненков П. В. А. С. Пушкин: Материалы… С. 169.
20
Письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 года // Пушкин в воспоминаниях современников.
21
Гоголь Н. В. О лиризме наших поэтов: (Письмо к В. А. Ж…му) // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: [В 14 т.] / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); [М.; Л.:] Изд-во АН СССР, 1937 – 1952. С. 248.
22
См.: Там же. С. 250 – 251.
23
Об этом: Сайтанов В. А. Прощание с царем // Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Отд. лит. и яз. Пушкин. комис. Вып. 20. Л.: Наука, 1986. С. 36 – 47.
24
Гоголь Н. В. О лиризме наших поэтов. С. 259.
25
См.: Манн Ю. В. Гоголь. Труды и дни. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 666, 667.
26
Анненков П. В. Две зимы в провинции и деревне // Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 531 – 532.
27
Письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю от 15/3 июля 1847 года // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: [В 14 т.] Т. 8. [Приложение] II. С. 504 – 505.
28
«Стихи Пушкина “К друзьям” просто дрянь» (письмо H. М. Языкова к П. М. Языкову из Дерпта от 20 сентября 1828 года // Языковский архив. Вып. I. Письма H. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822 – 1829). СПб., 1913. С. 371.
29
Письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю от 15/3 июля 1847 года. С. 506.
30
Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая // Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: [В 13 т.] Т. 7. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 347 – 348.
31
Там же. С. 352.
32
Анненков П. В. Две зимы в провинции и деревне. С. 531 – 532.
33
Позднее Анненков так описал свои отношения с цензурой в период работы над «Материалами»: «Не трудно указать теперь на многие места его биографического и библиографического труда («Материалов к биографии Пушкина». – И. Н.), где видимо отражается страх за будущность своих исследований, и где бросаются в глаза усилия предупредить и отвратить толкования и заключения подозрительности и напуганного воображения от его выводов и сообщений» (Анненков П. В. Любопытная тяжба // П. В. Анненков и его друзья. С. 397).
34
Эйдельман Н. Я. Сентябрь 1826-го // Эйдельман Н. Я. Пушкин. Из биографии и творчества. М., 1987. С. 23.
35
Майков Л. Пушкин в изображении М. А. Корфа // Русская старина. 1899. Август. С. 310.
36
Анненков П. В. Пушкин в Александровскую эпоху. Минск: Лимариус, 1998. С. 184.
37
Там же. С. 57. Примеч. 1.
38
См.: Там же. С. 60 – 62.
39
Анненков П. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. 1799 – 1826 гг. СПб., 1874. С. IV.
40
Сандомирская В. Б., Городецкий Б. П. 50 – 60-е годы // Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л.: Наука, 1966. С. 50 – 77.
41
Корф М. А. Записка о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 104.
42
Письмо И. И. Горбачевского к М. А. Бестужеву от 12 июня 1861 года. Цит. по: Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. М., 1979. С. 148. Здесь отзыв Горбачевского приведен по автографу, находящемуся в Отделе рукописей Российской Национальной библиотеки: Ф. 69 (Бестужевых). № 30. Л. 16 – 17.
43
Анненков П. В. Общественные идеалы А. С. Пушкина // Анненков П. В. Пушкин в Александровскую эпоху. Минск: Лимариус, 1998. С. 232 – 233.
44
«Генерал Бенкендорф, заведовавший ходом и направлением общественной мысли и никогда особенно не доверявший благонадежности писателей и журналистов, не нашел и теперь достаточных причин для какого-либо изменения цензурных обычаев времени… ‹…› К этому присоединилось у него закоренелое убеждение, что все, слишком возвышенные цели, поставляемые себе русскими людьми, и все крупные их замыслы, выходящие за черту общего уровня дел и понятий, служат им только удобным способом скрывать тенденциозные намерения весьма сомнительного свойства. Он и не замедлил обнаружить вскоре эту часть своих убеждений самым недвусмысленным образом» (Там же. С. 262).
45
Анненков П. В. Общественные идеалы А. С. Пушкина // Анненков П. В. Пушкин в Александровскую эпоху. Минск: Лимариус, 1998. С. 250.
46
Там же. С. 259.
47
Достоевский Ф. М. Пушкин (Очерк) // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. / [Редкол.: В. Г. Базанов (гл. ред.) и др.; АН СССР; Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом)]. Т. 26. Л.: Наука, 1984. С. 147.
48
Письмо Ф. М. Достоевского к А. Г. Достоевской от 8 июня 1880 года // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 30. Кн. 1. Л.: Наука, 1988. С. 184.
49
Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: [В 14 т.] ([М.; Л.:] Изд-во АН СССР, [1937 – 1952]). Т. 8. С. 50.
50
Об этом см. далее в главе «Либералисты и либертены: случай Пушкина».
51
Конъектура приведенного четверостишия принадлежит М. А. Цявловскому и отличается от первых двух публикаций.
52
Каратыгин П. П. Александр Сергеевич Пушкин // Русская старина. 1880. Январь. С. 133.
53
Пятковский А. П. Пушкин в Кремлевском дворце // Русская старина. 1880. Март. С. 674.