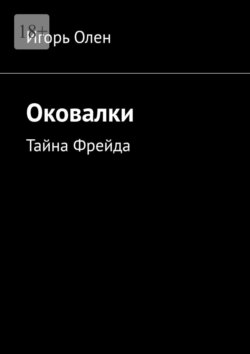Читать книгу Оковалки. Тайна Фрейда - Игорь Олен - Страница 3
2
ОглавлениеШёл апрель, безветренный, с пылью улиц, плюс с пылью странного свойства даже на небе, – пепельной взвесью, начавшей падать, точно из космоса.
Были сны, вот такие:
Девственность. Всё кругом бело-девственно, нирваническое блаженство. Белое пело: белое! я белейшее белое! После чёрное, – как огрех либо ласточка, залетевшая не туда, как туча, – выросло в белом, что стушевалось…
Сон ужасал контрастами. Кронов, с силой вцепясь в матрас, сон досматривал. Ибо, пусть сон ужасен, данность ужасней. В детстве он убегал из снов в мир ласки, созданный матерью и отцом, какие мертвы навечно… Кронову было – словно больному, кой не желает из наркотических грёз в реальность, что подступила и подавляет верезгом птиц на улице, лаем где-то собак, визгливой разборкой дворников, автошумом, криком соседа. Стены хоть тóлсты, но окна тонкие, их весной не закроешь наглухо, так что внешнее проницает их. Зимы лучше: он конопатил намертво окна и гам не слышал… В общем и целом, он не хотел проснуться, ибо, проснувшись, вновь канет в мебель шестидесятых, вспомнит родителей, коих нет, жену… И всё-таки он открыл глаза: вон Маргó; здесь, направо, два её фото. Видят друг друга… … Также реальность в том сейчас, что нет денег, а уже май грядёт, Дашин выпуск; надобны платья, или «прикид». Он трудится на двух ставках, но набирает тысячу $ в месяц. Этого мало.
Резко стал взванивать телефон, как в детстве. Он тогда сходно слушал звонки и знал: мать скажет, что вызывают срочно в больницу, надо бежать… уйдёт и вернётся с тортом. Ну, а отец, родивший его за сорок, так как на фронте был арестован и просидел лет восемь, вдруг улыбнётся и приласкает… Кронов, взяв трубку, бросил: – Здравствуйте.
«Фёдр Палыч! Вы извиныте, мы вам с утра, – вёл голос не без акцента. – Это риэлтыры „Центръкомфорт“. Вам слышно? Я пра квартиру. Вам звоню я, дирэктор. Вам позвонили мой заместитель, вы не паслушали. А мы фирма на рынке, знаете, долго, лет васемнацать. Лишь бы клиент был щаслив! Вы там богат? Курьер, да? Сколько зарплата? Дочка – невеста, ей в инстытут, ей замуж. Ей ведь сэмнадцать, да? Обыщаю вам вам за трёхкомнатку дать трёхкомнатку на район Алтуфево. Или Куркыно? Выбырайте…»
– Хватит, – встрял Кронов. – Я не продам. Не майтесь.
«Ай, ты паслушай! Дагаваримся! – сразу акцент усилился. – Мы тебе две квартыры. Будет двухкомнатка и двухкомнатка мнэ в убыток! Новый машин дам; твой сильна старый, шины плешивый. „Ладу-калыну“. В Цэнтре какой район? Нэхороший. Дашу абидят…»
Кронов прервал связь. Вот она, данность, или реальность. В доме второй этаж занял лорд спиртнапитков, водочник, он выдавливал прочих. Дом уникальный, дом двухэтажный в Е* переулке у Патриарших, дом эксклюзивный, многих прельщает. Есть жилец-силовик, но с ним легко не поспоришь, как спорят с Кроновым. Что, двухкомнатка и двухкомнатка? Сделка выгодна лишь на первый взгляд. Цены лезут вверх быстро. Кронов подумал, что, коль придёт нужда, дочь провалит экзамены, он уступит риэлторам, чтоб учить её в МГУ за деньги. Да, он продаст квартиру, пусть был в ней счастлив…
В чём оно, счастье? Есть оно как субстанция, как платоновская идея? Кстати, отец его, психиатр из первых и академик, здесь поселился после отсидки. В это квартире счастье их рода. Счастья не будет, если он счастье это продаст.
Реальность, однако, давит.
Он подошёл к окну, вспомнив фразы звонившего, и увидел, что приткнутая к ограде вдоль Патриарших «двойка» (ВАЗ, «жигули») просела. Шины пробиты? Типа, «риэлторы» его учат? Ехать работать проблематично; он опоздает; а это значит ссору с начальством либо штрафные… Стало тоскливо. Мир угнетения сказывается в психике как депрессия. У него куча хворей и, вероятно, где-нибудь пухнет рак… И воздух донельзя пыльный. Пыльная буря?
Выгуляв Боя, старого таксу, пнув две пробитые шины «двойки», Кронов вернулся в дом, вынул деньги – тысячу долларов, мзду за тридцать дней беготни его как курьера, также развоза грузов за МКАД по области. Вздумав с Дашей сходить в ТЦ, – «to do shopping» к школьному балу, – Кронов оделся, запер квартиру.
Дверь вблизи, распахнувшись, выдала мальчика лет шестнадцати и вслед крики: «Стой, олух!»
– Здравствуйте, – ляпнул мальчик.
Это был Саша, друг его дочери, одноклассник, кой был забыт ею в казусе с Волиным в январе на даче.
– Здравствуй, – Кронов кивнул.
– У вас тишина всегда… – Мальчик брёл за ним и хромал: он был колченогим. «Бóтан», звался он Дашей; то есть он «умничал не по делу».
– Ссора, замечу, может быть тихой, – выложил Кронов.
– Все, Фёдор Павлович, люди ссорятся?
– Это сложный вопрос; не здесь его обсуждать. Я – в школу, к Даше иду. Мне некогда.
– А и я туда, – бросил мальчик. – Можно мне с вами?
– Не возражаю. – И, не желающий разговаривать, Кронов, шаг спустя, начал, видя большие пыльные шлейфы, висшие с неба; этот феномен три с лишним месяца наблюдали всюду: – Все, Саша, ссорятся. Гераклит мнил, мир создан битвами всяких разностей; распря, дескать, отец всего. Это названо «диалектика» для придания вескости вечным распрям, что, мол, законны, ибо естественны. Но закон причинил нам смерть, – вёл Кронов, вспомнив жену. – Все спорят, бьются друг с другом – вот и придумали, что война – исток всего, что таков статус мира и что иному быть невозможно. Из-за чего война? – из-за власти. Кто-то желает жить за счёт прочих.
– Правда? – Мальчик, в очках и хромой, шёл сбоку.
Кронов изрёк:
– Да, правда. Это от разума. Разум делит мир на «не я» и на «я». Деление значит распри, антагонизм. Нельзя не бороться с внешним, – что, если внешнее, то и злое – либо, хоть чуточку, но не доброе; ведь себя не считают злом. Разум мнит, что он лучшая сущность, с прочим же можно и не считаться, можно насиловать это прочее. То есть разум и власть – синонимы. Разум, то есть, диктатор. Нужно ли это? Вот в чём проблема. – Кронов, помедлив, остановился, глянул на Сашу. – Мы не абстракции комментируем! За набором суждений – мучимый человек, поверь, а он хочет жить счáстливо, в синергии со всем жить хочет. Разум, напротив, жизнь осуждает и разделяет, дабы господствовать. Разруби жука на усы и крылья – жук будет мёртв. Выходит, власть есть насилие, а оно калечит. Разум помпезно, с удалью шествует – но куда? В мир смерти. В мир оковалков как в мир не связанных меж собой фрагментов. Разум всё делит с дней Демокрита, кто, вместо нимф и елен троянских, гекатонхейров, зевсов и сфинксов видел лишь атом. Что Демокрит сказал? Всё из атомов. А за ним Древний Рим с концепцией «разделяй и властвуй». Ныне вот – атомное оружие; и мы ждём, чтоб оно разнесло мир в атомы. Расщепили жизнь, препарируют жизнь, цифруют и на компьютерах сводят в байты… Жизнь, жизнь, цифруют! Как цифровать живое? Ставшее блоком цифр – безжизненно. Жизнь и Бога не оцифруешь, Бог ведь Живой… Мы были как Бог когда-то… Сколько утратить нужно и заклеймить нестоящим, «злым», побочным, чтоб цифровать мир! – выкрикнул Кронов. – Начали избывать живое, переносить жизнь в цифру. Это свидетельство антипатии к жизни разума! Мы от истинных связей отгородились, выдумав, что они подрывают размежевание на «не я» и на «я». В итоге знаем только приёмы, чтó дали пользоваться вещами, употреблять их. Вот что мы знаем. В нас из того, кем были, вышел мутант с приросшей к некогда сложной, но и прекрасной сущности маской, спрятавшей под собой всё близкое предикатам иным, чем смерть.
– Дядя Фёдор, – вымолвил Саша, – мы испокон двуногие и без шерсти на теле, а? Или были другими?
– Я, – начал Кронов, будто не слыша, – не христианин. Их Христос вроде нас во всём, кроме разве грехов. Но главный грех – первородный; так пишут в библии, в «Бытии». Познание зла/добра – вот главный грех. Если малый грех портит – грех первородный полностью портит. Разум, приняв раздел на добро и на зло, смонтировал нас под навык всё разделять и властвовать над раздельным. Мы в старину летали, были бессмертными, пели птицами, звёзды делали… О, мы были инакими, первозданными! – Кронов вновь возбудился. – Но покорились серому мозгу, расколдовались от предыдущих свойств и свели изначальный мир к протяжённости трёх параметров, мозгом данных! А ведь Декарт сказал… – Кронов смолк и затем повернулся к людям, тащащим псов. – Постойте!
Он начал спорить про удушаемых в петлях шавок… впрочем, не шавок, – просто животных.
– Это ты им скажи! – гнули мусорщики живого. – Жителям! Мы по вызову: псявки им тут мешают, малых пугают… – Мусорщики, втащив псов в клетку, отбыли.
– В этом действии тоже разум, – глухо вёл Кронов, бывший в расстройстве. – Знает, что плохо, что хорошо для псов и для нас, людей. Разум пишет законы для казни жизни – и мы бессильны. Лишние жизни…
– Освободим их? – вскинулся мальчик, тронув очки.
– Нет, некогда, – буркнул Кронов, следуя дальше и оставляя след свой на пыли, падавшей с неба и накоплявшейся на асфальте. Сделалось стыдно, точно случилось, чтó он поклялся не допустить. Ещё стыдней было врать, что занят: дескать, иначе он совершил бы, чтó крайне стыдно не совершать. Он вспомнил утренний сон о белом и сон другой, кошмарный, сразу два сна, спасение от каких усматривал в толках с мальчиком. – В общем… – вздумал он продолжать.
«Живые завидовать будут мёртвым», – вдруг раздалось.
– Что?
– Мы, – начал Саша, – были иными?
– Стой. Ты до этого чтó сказал? – Кронов нервничал.
– Ничего.
– Иными?.. – И Кронов вспомнил их разговор. – Иными… Да, несомненно были иными. Были свободны. Дух наш свободен! Люди свободу давят под нормами; нормы сделали нас культурными. А культура кромсает в нас первозданность, чтоб подогнать под нормы. Так вышли люди, коих мы видим. Мы полагаем, мы восхитительны? Но Плоти́н совестился тела, шитого разумом, как бы знающим, в чём добро и в чём зло… Да! Разум всё развалил, испортил; он к жизни слеп; он сделал, что вместо жизни стало уродство.
– Нет, Фёдор Павлович! – крикнул мальчик, кроемый пылью. – Не человек себя смоделировал. Ерунда!
– Буддизм, – вёл Кронов, – думает, что психическая энергия правит миром, строит его и рушит… Саша, всё сыплется, вот как сыплется пыль с небес. Разум ищет господства, и эта цель его проектирует стиль контактов и отношений как форму власти и подчинения. Эта форма и есть наш вид. Человек разложился, как и постиг буддизм. Есть девицы, мужчины, лётчики, негры, чукчи, политиканы, есть музыканты, няни, банкиры; есть только функции. Также хамы есть и пророки, хваты и трусы… Трусы особенно… Трусов много, – Кронов казнился, – тех, кто отринул царство свободы, слушая разум, кой озабочен только себя хранить.
– Фёдор Павлович, женщин не было?
Кронов стал на старинной улочке, но не чтоб переждать авто. Рифлёный, посеребрённый бокс близ бордюра с биркой «ремонт теплотрасс» снимали, так что остался круг на асфальте, будто от тёрки, и это чудилось где-то виденным.
– Женщин не было, – начал Кронов. – Женщина – происк разума. Первозданный, – а он был цельный, – слушаясь разума, кой был докой «добра» со «злом», отделил в себе, «дóбром», мысленно «зло»; – в итоге Адам распался. «Злая» часть стала женщиной.
Мальчик видимо покраснел, спросив: – А зачем эта «добрая» часть, сам знаете, любит «злую»?
Кронов гадал про след, что серел на асфальте после ремонта, – круг, будто вытертый абразивом, – и говорил негромко:
– Женщина и мужчина – части друг друга. Разум диктует, что половой строй вечен. Но первозданное манит памятью о единстве. Разум мешает и избывает тягу к слиянию, конъюгации, синкретизму средством морали. И мы несчастны. Счастье нам снится, только лишь.
– Мы его потеряли, счастье?
– Фрейд… – начал Кронов. И замолчал.
Смешались и накатились ужасы снов, мучительный стыд непомощи псам, проколотые колёса, беды и муки, пыль в атмосфере – висшая с марта странная пыльность.
– Фрейд, – вёл он, глядя, как уже снятый бокс три ремонтника грузят в кузов и отъезжают, но оставляют след на асфальте, будто от тёрки, – Фрейд, иже с ним, решили: людям нужней культура; мол, препарировать, править, мучить жизнь, чтоб познать её, даст нам столькое, сколько счастье нам дать не сможет; мол, боль познания лучше счастья… – Смолкнув, он вспомнил: круг на асфальте схож с прежде виденным у Оки зимой у обрыва кругом. Чтó там в кругу зимой как бы двигалось, здесь застыло. Близостью важного, колоссального по значению для него и для всех повеяло.
Саша ждал его, наступив на «зебру» через дорогу. Джип с модным номером, с запылёнными стёклами, лез на них, и бугай орал:
– Пшёл нá с дороги!
– Скот! – крикнул Кронов.
Маетность жизни сплавилась с матюком из джипа. Кронов, сорвавшись, крикнул не хаму, но свинствам разума, расчленившим жизнь, прикрепившим на клочьях бирки и разложившим их по сортам, достоинствам и порядкам, в коих не жизнь, но статус. Он крикнул нормам, выбравшим прессинг высшею ценностью и стирающим тех, кто против. Джип тормознул; бугай, приблизясь и вздевши Кронова, так что куртка напялилась на лицо, швырнул его, после поднял с асфальта пачку, – деньги, валюту, что от швырка упали, вывалясь из кармана брючины Кронова.
– Это штраф с лохóв!
Джип уехал.
Саша в смятении бормотал: – В полицию… Фёдор Павлович, номер помню… Разве так можно?!
– Можно, – Кронов вставал с асфальта. – Рядом, – сказал он, – те Патриаршие, где Булгаков явил нам дьявола. Но Булгаков не там искал. Дьявол – разум, кой разделял, чтоб властвовать… Но – что делим-то? Кто дал право делить естественность на добро и на зло? Всё делят, точно в мясницкой… Выпятили «добро» своё, а «зло» прокляли, этим выплеснув вместе с грязной водой ребёнка. И вот «добро» прёт опухолью, шанкром, – Кронов отряхивался. – Пыль везде…
Мальчик глянул на солнце, скрытое пылью, и указал на пыльные окна. – Здесь эффект парника; глобальное потепление, а от этого пыль… Вы мыслите, как философ.
– Нет. Мой отец – философ. Я просто так… Мне в школу. – И Кронов выпрямился.
– Ушиб у вас. – Саша слабо мотнул рукой.
Кронов тронул лоб.
Зашагали по Вспольному. Пусть без денег, грязному, битому, глупо к Даше и незачем, Кронов шёл всё равно. Он маялся; его психика сыпалась. Он почуял фальшь мира; сущность убита, жизнь погибает. Мороком чудились сомкнутые в ряд здания и углы с поворотами в девяносто, – и не иначе! – некаких градусов; также люди, шедшие прямо и загибающие за угол точно по правилам. Чтоб попасть из А в Б – проклятие! – надо двигаться правильно, не как хочется, но в лад разуму и его конструкциям. На любом и на всём – знак нормы, знак математики. Всё разумно до смерти.
Всё существующее – разумно, понял он по-иному, а не как раньше он обнаруживал в этой формуле позитив. Он понял: коль всё «разумно» – значит как есть: с реальностью разума от «добра» и от «зла», с насилием, с горем и с прозябанием вместо жизни. Также он понял факультативность, гипотетичность, вариативность сущего: кроме разума, можно мир создать и иным путём: грёзой, памятью и любовью. Коротко, счастьем.
Разум и счастье…
Но, по Тургеневу, мозг счастливого еле действует… Кронов вздумал постичь суть счастья, – в библиотеке выискать Фрейда, не в интернетах для верхоглядов – в библиотеке. Что о нём знают? Только клубничку: Фрейд, мол, «торчал» на сексе и исходил из «комплексов», взять, Эдипова. То есть как бы дай волю – Даша в постель к нему, а он к дочери… Кронов, кончивший МГУ, знал Фрейда не как маньяка, рушащего запреты и выводящего преступления и недуги и бытие само от подавленной похоти. Кронов знал аксиому о сексуальном как непристойном, связанным с пылом юности и обязанном занимать в дне личности час, не более, в пользу прочих нужд, обращаемых, в основном, к культурному: к книгам, видео, спорту и им подобному. Мол, культурное создал труд, не секс; инстинкты, мол, – из каких «любовный» наисильнейший и разрушительный, – нужно сдерживать, чтоб они не свели мир к хаосу чувственных праздных тварей.
Фрейд постиг, что живут для радостей; жизнь не стала бы тщиться и развиваться ради страданий, мук, войн и тягот. Секс есть отрада, благо, восторги, свет в мраке жизни и ожидаемое, и чаемое; вообще – цель. Фрейд фактор секса как воли к жизни, венчанной счастьем, ставит условием бытия, какое НЕ ВОПЛОТИЛОСЬ. Не воплотился, коротко, рай… Срок счастья краток – до первородных, так сказать, вин (до vitium originis), Библия, главка три. Давным-давно «в первобытной орде», подумал Фрейд, некий праотец взял всех женщин, приватизировал, и отторгнутые от секса «вкалывали» без продыху; труд содеял «культуру». Сдержанность сотворила мир, в коем мы и теперь, мир, принятый высшей ценностью – много большей, чем счастье рая.
О, Фрейд любил культуру, что утвердилась явным насилием против счастья!
Кронов понять не мог важнейшего: утверждая, что счастье, дескать, не ценность нашей культуры, он, Фрейд, злорадствовал? или маялся? Или то и другое в разный период? В юности, полной силы, он, Фрейд, успешный и перспективный врач и учёный, думал, наверное, что когда Рафаэля (Баха, Толстого) не ограничивали бы нормы, то он талант бы растратил в сексе, не написал бы массу шедевров. Ранний Фрейд «счастье», как и «свободу», мыслил в кавычках, веря, что счастье, как и свобода, вовсе не счастье и не свобода, если по сути не окультурены. То есть правильно, что давным-давно некий праотец подавил инстинкт, мощь которого потекла в «культуру». Жуть, мнилось Фрейду, если бы люди только сношались и отдыхали после сношений, а в перерывах жадно питались. Секс усмирили ради «культуры»… Фрейд был, короче, за продуктивность высшего свойства; секс был обязан множить духовность: то есть либидо будущий Моцарт пусть изливает в сладких мелодиях.
Это ранний Фрейд.
Поздний Фрейд в мудром опусе о вине культуры (Das Unbehagen in der Kultur, 1930) мыслил о чёрствости, об обманах мира культуры, где два не стали бы душегубами, если б тысячи в разной степени не желали содействовать. Что, Фрейд судит культуру?.. Впрочем, об этом думать не время. Кронов припомнил лишь, что позднейший Фрейд утверждал: не дёшево обошлась культура роду людскому: стоят ли выгоды от культуры мук людских, что она принесла? Позднейший Фрейд понял нечто, чтó отрицало наш «сей мир» напрочь, чтó было Благом в высшем значении vs пайкóвых благ от «культуры»… Следственно, счастье в мире культуры недостижимо и заменяется псевдо-счастьем?.. Ранних ошибок доктора Фрейда – высокомерного культуртрегерства – Кронов, пыльный и битый, шёл и не мог простить. Юный Фрейд лгал о жизни, универсальной жизни in total, им низводимой только к культурности. Что она дала Кронову, но и всем? Сказать бы, чтó… Да ничто. Взять, Кронов, возраст – за сорок; жизнь прошла. Вместо счастья – «культура», что заместила счастье фальшивкой… То есть культура пагубна в корне. Надо спасаться. Люди бессменно в поисках счастья, но продолжают дело культуры и монтировку лучшей морали… Вот только счастье мёртво в культуре, да и в морали – в сердце культуры. Люди везде-всегда будут лгать себе про «духовные радости» плюс «семейные ценности» их культуры вкупе с моралью, тем подтверждая, что существующее разумно, что порционный секс обязателен, что есть «частные сбои», а в основном – «всё правильно» и иного не может быть. Между тем Ницше вник, что нравственность есть уже декаданс, распад, и что жизнь – в инстинктах…
Не с кем поговорить, знал Кронов, не с кем.
Для миллиардов счастье в корысти. Дом, жор и деньги (сто домов, сто хот-догов, сто тысяч денег) – вот и всё счастье… Массы о чём твердят? Где бы что поиметь побольше, как стать богаче. Только и можно с Сашей поговорить… А толку? Саша подросток…
Кронов взял сотовый, но не стал звонить. Он вдруг вспомнил, что позабыл про круг спиридоновский и про окский. Также он вспомнил, что видел боксы, как спиридоновский, повсеместно. Если, под видом евроремонтов канализаций, власть круги прятала – это факт в пользу множества оных. Бокс наблюдался близ Красной площади; есть бокс в Химках; есть бокс в Отрадном. Кронов их видел. А что опасны эти круги не в шутку, он убедился в случае с Волиным… Впрочем, может, и нет кругов. У Оки, может, был только смерч; Волин въехал не в круг, возможно, но в некий камень. На Спиридоновке, может, тоже – просто наладка водопроводов. Нынче ведь мода всё делать тайно, чтоб не мозолить, так сказать, глаз, – культурно.
– «Крокки» у Даши был, – брякнул Саша, сбоку хромавший.
– Что?
– У неё был «крокки».
Кронов вдруг понял, что речь о сотовых, и продолжил: – Я взял две трубки: «крокки» для Даши, но молодёжный, и для себя обычный. Двести пять долларов. Это было давно уже.
Мальчик фыркнул. – «Оксиа», в тонну баксов.
– Первый раз слышу. Что там за «Оксиа»? – Кронов спрашивал и додумывал про круги, уставившись в тротуар, пошагово ползший в ноги пыльным асфальтом.
– «Оксиа» у неё, смартфон теперь… Фёдор Павлович, – начал мальчик, – ваша фамилия от монеты «крона»? В смысле Рублёв там, Стерлингов, Грошев?
– Вряд ли. От «хроно», то есть от «времени». Связь и с вечностью, и со временем. Либо, может, от Кроноса, это бог такой древнегреческий, что царил до порядков, принятых Зевсом. Кронос царил в век Хаоса; Зевс наладил мир Космоса. Космос с греческого – «порядок».
– Знаю, не маленький… – Саша снял и протёр очки от загадочной, висшей в воздухе пыли. – Зевс правил с Герой. Были Венера, Марс, Аполлон, Диана. Светлые боги кончили с прежними, ну, с хтоническими страшилами, основали прекрасный мир для людей. Так в мифах.
– Нет, – начал Кронов. – Мир не прекрасный, а однобокий. Стали судить мир, как он был создан, и обнаружили в мире «зло», которое оттеснили, а на оставшемся, – дескать, «добром», – строят порядок, «добрый», разумный и позитивный. Что ж ты, Саша, в этом прекрасной «доброй» конструкции вечно споришь с отцом, скажи, а вчера бил парня?
– Парень? Он первый… – Мальчик нахмурился. – Да он гопник! Мы незнакомы. Вышел из дома, он мне навстречу, деньги дай… Ну, я отдал бы, он был старше, да и обкуренный. Но у дома – обидно, я его стукнул; тут как раз вы… он смылся. – Саша хромал с натугой, светловолосый, в джинсах и в свитере, что болтался на тощем маленьком теле, в модных кроссовках с лейблами, в очень сильных очках. – Вы, значит, враг разума? Вы агностик? социопат?
– Я – против первенства человеческого «добра». Оно – плод разума. Вред от разума – в им вменённых табу, в запретах, что, взросши в этике, проросли в науки, в их постулаты. Хватит об этом… Ты на занятия?
Саша с ходу пнул камешек на асфальте. – Не на занятия. Просто дело есть… Вы звонить собирались? – бросил он, видя, что собеседник долго шагает с сотовым в кулаке.
– Не буду. Школа ведь близко, – вымолвил Кронов.
– Вы вот философ… – Мальчик помедлил. – Это зачётно. Были бы президент, улучшили бы нам жизнь? А если бы были Кроносом, оживили бы орфов, гекатонхейров, гарпий, горгон, циклопов и беспорядок?
– Знай: беспорядок – это реальность, зиждимая не логикой. То есть это порядок, но первозданный. Он основал бы мир без деления на добро и на зло, мир целого, не растасканного в куски, мир жизни, а не понятий и не суда над жизнью.
– Но мы и так живём, вроде. Не умираем же?
– Неизвестно… – выложил Кронов и повторил возникшую полчаса назад звукофразу, кою ни он тогда не сказал, ни Саша, но коя вывалилась сама:
– Живые завидовать будут мёртвым.