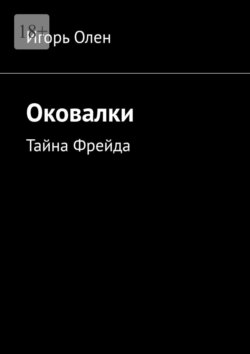Читать книгу Оковалки. Тайна Фрейда - Игорь Олен - Страница 4
3
ОглавлениеЧто цель близка, указывал ряд машин впритирку вдоль тротуаров. Кронов был сломлен и угнетён случившимся с ним в дороге и возбуждён беседой, – правильней, сказанным. Мальчик вряд ли участвовал в споре сердцем. Юность незряча: критика мира, где ей всё ново (значит, желанно), кажется ей брюзжанием. Саша, пусть он «ботаник», то есть «advanced», верит, что «фиг» ему, вот как Кронову, исковеркают «двойку», ибо у Саши «двойки» не будет, он купит «порш» и «майбах»; и что его не швырнут о стенку, точно игрушку; что он не станет жалким курьером с жалкой зарплатой; что у него, у взрослого, будет смокинг, бонусы, орден, чин академика, нимб, пентхаусы; что болеть он не будет и не состарится; что жена его, модница, никогда не умрёт (исчезнет ли, как исчезла Марго когда-то). Юность надеется – но проигрывает как правило. Повезёт – Саша «выбьется в люди» и позабудет, что не ему, везунчику, а другому шины проколют, и что другого кинут об стенку, и что другие будут хромые и притеснённые. Ведь мышление от «добра/зла» слажено, чтоб успешный считал всех «злыми», малопригодными, а себя – «предобрым», прегениальным… втуне, конечно, этак считал бы, то есть этически.
Кронов шёл против солнца, вспомнив: в прошлом году он в мае так же шёл улицей; день был ясный, сверкающий и он щурился. Нынче мглистое небо; всё запылённое. Будто с космоса, виснут пыльные пологи. Пыль садится на стены, стёкла, деревья, волосы, плечи, и не стряхнуть её… Он сорвал на ходу лист клёна: лист был в пыли. Всё затхлое, будто мир, потеряв задор, сник, понурился, разуверившись в самоё себе. Чуть дышится, так что хочется вдруг вдохнуть… Дурацкая аномалия, о которой талдычат СМИ и ООНы: дескать, «космический пыльный дождь» лютует и не кончается, обсыпая все страны и континенты; но – «дождь» безвредный: ни радиации, ни космических вирусов, ни ещё чего…
Подле школы Кронов и Саша молча прошли сквозь толпу водителей, гувернанток, нянь, респектабельных пап и мам. А как же: школа престижная, знаменитая, школа номер пятнадцать! Кабы не близость к ней по прописке, Даша в неё, увы, не попала бы, ибо школа обслуживала чад средней буржуазии. Дочь политично с этим справлялась, пусть после школы ей не распахивали дверь «мерса», как одноклассникам. О, она была умной, сообразительной! Плюс гнобить её и над ней издеваться не позволяла милая внешность. Кронов дивился ей, рассудительной, стильной и позитивной. Даша этична необычайно, рациональна, дипломатична; а это значит, Даша посредственна; ведь этический устремлён не к ценностям высшей пробы, к ценностям духа, но лишь к «добру», предписанному эпохой. Разум пристоен и респектабелен, благовиден и нравственен, – но отсюда, конечно, он ограничен как промышляющий лишь «добром»: богатством, здоровьем, славой.
Даша разумна – а значит Кронову не под стать мышлением. Ибо он нестандартен был и стремился к основам мироустройства. Кроновых мало, Кроновы – не для нравственной общей данности; это выродки, монстры, социопаты… И слава Богу; пусть дочь не ведает мук оторванности от мира, чужести миру. Пусть будет счастлива общим счастьем, что тень безмерного трансцендентного счастья. Ибо, в конце концов, все умрут – он, она и они, все люди.
Дочь шла с подругой, маленькой Диной, толстой евреечкой, дед какой был банкир, и с прочими. Ясно слышались смех и возгласы. Кронов слабо махнул рукой. Дочь пошла к нему вместе с Диной от увязавшегося юнца. На ней, как на всех, род формы: юбка на девочках, под которыми гетры, курточка, а под нею рубашка белого цвета, маленький галстучек; а на мальчиках – брюки с галстуком бóльшим; вот всё различие. Школа кончена, собирались к экзаменам, опьянённые скорой, думали, волей. Даша и Дина тщились избавиться от юнца. Дочь выбралась из толп к Кронову.
– Папа!
– Здравствуйте, – изрекла подошедшая Дина важно.
Неугомонный юнец вмешался, к ним подскочив. – Круть, Даша! Это твой parent1? Хай! Приветствую! – обратился он к Кронову. – Даше быть королевой бала, если пройдёт отбор. Нужен топлесс участниц. Вдруг накладные груди и щёки? Или нет сердца? Даша-красотка Лёву не любит?
– Ты отвалил бы, – Дина сказала, глянув поверх очков.
– Я въехал! – нёс юнец, гогоча. – Вы лесбы? Лесба не может стать королевой!
– Слушай, тебе-то что?
– Я король выпускного бала; с лесбой мне стрёмно.
Саша позвал юнца и отвёл его.
– Ты, пап, грязный… – Даша шагнула, но громкий вызов (Кронов такого прежде не слышал) тренькнул певуче в Дашиной сумке. Дочь стала боком. Кронов же, вспомнив Сашину реплику про смартфон, вдруг понял: дочь не желает, чтоб он заметил новую трубку.
– Вы?.. Всё в порядке?.. Да, – повела она в общих фразах. – Да… Повторите для уточнений… Верно, где дачи… Перезвоните… Вечером?.. – Она спрятала трубку и повернулась. – Папа, ты вымазан, и синяк на лбу…
Дочь стеснялась маленькой Дины, хоть та и знала их положение, но сейчас Даша радостна, чуть не светится, так что кажется, её радует даже то, что он выглядит, точно бомж.
– Даш, я виноват! – встрял Саша. – Шли, я подрался. Ну, Фёдор Павлович заступился… Я там подрался, он заступился…
– Папа, уходим, – дочь прервала его.
– Дядя Фёдор, позвольте вас на секундочку… – Дина, взяв его пóд руку, повела за кусты вдоль сквера. – Я, дядя Фёдор, знаю вас годы, лет восемь точно.
Он глянул в карие, – под очками в модной оправе, может, из платины, – и в большие глаза невзрачной, толстой, аморфной, но не по возрасту мудрой девочки, не скрывавшей изъянов собственной плоти.
– Well, королевой школьного бала выбрана Даша. Бал очень скоро. Он ей запомнится навсегда.
– Наверно, – вымолвил Кронов.
– Я, – вела Дина вкрадчивым тоном, – я помогу вам… нет, не сама, конечно; да и не вам конкретно. Дед мой даст деньги Даше на платье. Для выпускного. Не оскорбитесь? Вы ведь философ. А философия наблюдает реальность многосторонне и глубоко. Вы, знаю, без предрассудков. Я поцелую вас, дядя Фёдор, в знак соглашения?
– Философия всё условное ценит больше, чем непосредственность, – начал Кронов. – Я не философ и откажусь от… – Он не закончил. Дина поникла. Девочка – без отца и матери; не от этого ли мудра не-детски?.. Или еврейская родовая мудрость так проявляется?.. Деду низенькой, толстой и кареглазой девочки Дины траты на платье – тысячу платьев хоть от Кавалли – сущий пустяк, знал Кронов. Плюс бедной Даше жить после школы будет непросто, ведь миловидность очень капризный дар. Школьный бал Даше важен. Бал для неё – факт счастья. Кронов же счастьем был одержим. – Что ж… – бросил он.
Но приблизилась завуч, не упускавшая говорить о Даше, и Кронов понял: нравится завучу – он, не дочь его.
– Фёдор Павлович? – Завуч, хоть и здоровалась, но смотрела на Дашу. – Чудная девочка! Осмотрительна и оглядчива. Ей нужна рядом женщина в её годы проб и ошибок. Вам, – заявила она, – вам нужно… – Завуч не кончила, посмотрев, наконец, на Кронова и увидев, что он замызган. – О, извините, мне по делам пора… – и поспешно завуч исчезла.
– Клеится… – подытожила Дина и продолжала: – Думаю, Фёдор Павлович, как ей платье сбыть, то есть Даше. Девочка гордая. Я пыталась – но тщетно. Даша неглупая: оставляет шанс к будущей важной просьбе? Что ж, дед работу ей даст; хоть завтра даст. Красота прельщает… – Дина вздохнула, дёрнув за галстучек чёрной формы. – Воздух ужасный, как в пылесосе… Мы с ней навек друзья, – исповедалась вдруг она. – Люблю её, дядя Фёдор, но безответно… Я вам дам платье, весь гардероб; вы скажете, что скопили.
– Договорились. – Кронов, кивнув, добавил: – И, Дина, помни: жизнь изменяется. Как бы жизнь ни давили – жизнь заберёт своё. Нужно жить эротически, а не как мы живём логически, но в злосчастьях. Может, придёт пора, образ жизни как «добрый», но репрессивный сменится вольным и эротическим… – говоря, Кронов чувствовал пыль во рту.
– Фёдор Павлович.
– Что?
– Дочь любите?
После паузы он изрёк: – Люблю.
– Прекрасно. Но не разлюбите, если я сообщу вам…
– Дина, ни слова! – Кронов скривился. Он опасался слов, что усилили бы тревогу с примесью страха, коя возникла около круга подле Оки зимой.
– Я так, по ходу… – Дина шагнула прочь отрешённо. Но Кронов понял: хочет предостеречь.
В чём дело? Что он не знал о Даше? Тот страшный круг и Волин? Круг – далеко, во-первых, и, может, круг действительно только смерч, случившийся из-за разницы в атмосферных средах в пойме и на яру зимой. Волин, может, не думал их напугать, но вмазался в камень и кувыркнулся вниз… А ремонтные боксы из серебра по виду, нужные, чтоб скрывать круги, – вот как тот, спиридоновский, – может, лишь заграждение вместо прежних заборчиков либо лент… Всё сводится вновь к кругам, понял Кронов, сводится к Волину.
«Боже, Дина! – чуть не вскричал он. – Что ты скрываешь?! Ну, расскажи мне!»
Да, лучше знать, он понял, пусть это страшно.
– Даша! – стал звать он, двинувшись к дочери.
Звякнул сотовый, и она отвернулась; сделала это, он был уверен, чтоб не заметил новую трубку.
– Есть?.. – Даша смолкла вдруг, а потом сказала: – Ладно, копайте и… и звоните мне… – Спрятав трубку, тронув живот свой, дочь к нему бросилась, обняла его и прижалась к нему. – О, папа! Я будто в небе, будто летаю!
– Даша, – изрёк он, чувствуя, что она ликует. (Больше счастливой Кронов её не видел).
И он запомнил душный, белёсый, пыльный тот день с цветением рядом сквера, с шумом Садового, заслонённого домом сталинской эры, с толпами школьников в униформе, громко смеющихся ни о чём, со строем бренд-лимузинов, с Сашей и Диной, с дочерью рядом, полной восторга.
Всё он запомнил в этот последний год бытия Человека в статусе «Homo Sapiens».
Дальше жуть нарастала, но постепенно. То, что спросил вдруг Кронов, было причиной названной жути, но в то же время этой причиной как бы и не было. Жуть составилась в сонмах действий, вызванных логикой нашей мысли и восприятия, при каких все и каждый бились со всеми, каждый был недруг всех и другого.
– Новая трубка? – выдавил Кронов.
Дочь прижималась, но он почувствовал, что объятья слабнут. Дина и Саша чуть отошли.
– Потом, пап, ладно? – бросила Даша.
– Что за секреты? Все тайну знают, только не я, – твердил он, точно баран. – В чём дело? Что ты скрываешь? Что там за трубка? Новый смартфон? Дай глянуть.
– Это сюрприз…
– Сюрприз?
Дочь вынула свой смартфон, – как Саша проговорился, впрямь дорогой.
– Откуда? – Кронов схватил его.
– Папа, незачем! – дочь просила. – Ты всё испортишь.
– Всё-таки. – Он упрямился; он имел уже мнение, возбуждённое Диной. – Деньги не с неба нам достаются.
– О, ты испортил всё! – Даша тронула свой живот, напрягшись. Жест был знакомый чем-то давнишним, чувствовал Кронов.
Дочь улыбнулась. – Пап, откровенно?
– Я с тобой честен.
– Честен всегда?
– Как факт.
Дочь спрятала руки зá спину. – Ну, я выиграла смартфон. Игра есть: шлёшь эс эм эс, везёт – выигрываешь. Веришь?
– Я не хотел тайн, – выложил Кронов. – Я тебе никогда не лгал. Я люблю тебя и хочу быть в курсе.
– Тоже люблю тебя… – Дочь, убрав с щеки волосы, улыбнулась. – Я ведь расту. Мы разные организмы, хоть и родные. Тайны в семнадцать лет неминуемы.
– Тайны есть органические, природные, – начал Кронов, сжавши смартфон, – есть тайны умышленные, опасные.
Даша выхватила ожившую писком трубку. Что-то ответили, отчего она сникла; вскоре спросила: – Вы не ошиблись?.. – Ей говорили что-то минуту. Выключив трубку, Даша сказала, резко и глухо: – Папа, где мама? Там её нет, в могиле. Где она?
Кронов выдавил: – Как?.. Зачем?.. Объясню… Но…
– Ты, пап, всегда был честен?
От потрясения он вспотел.
– Где мама?
– Даша…
– Лгать можно?! – дочь прервала его. – Я тебе буду лгать с сих пор! Вот, смотри: я люблю тебя, Саша, хоть ты ботаник и хромоногий! – Дочь, пройдя, вдруг впечатала губы в Сашины. Тот краснел, колченого мялся на месте.
– Мы с Сашей в загс идём! – возгласила дочь и ушла, вихляясь. Дина потерянно побрела из сквера.
Пропасть, разъятая у Оки зимой, увеличилась, и в неё Кронов падал вместе со всей своей философией и мучительной памятью…
Дело в том, что жена его (и мать Даши) не умерла. Но где она – Кронов думать отчаялся и ему было тошно думать об этом в это мгновение, как вот только что чуть не вырвало его дочь от ярости, духоты и пыли либо секреций женской природы. Сдёрнув с кустарника пыльный листик, он зашагал прочь, силясь не чувствовать и не думать; дома, взяв таксу, начал гулять с ней так же бездумно и малочувственно. Пёс по имени Бой, – как Кант в Кёнигсберге пару веков назад, – совершал свой маршрут вдоль стен и оград, вселенную игнорируя. Кронов в свой черёд игнорировал пса, которого озорным щенком принесла в дом жена когда-то. Он игнорировал пса всяко, чтобы не думать. И когда позже, по возвращении, он схватил трезвонивший телефон, решив, это дочь звонит (но звонил «Центръкомфорт» с вопросом, как там «праколотые калёса» и не желает ли «съэхать в Выхино»), он не мог о ней думать. Он напрягался вовсе не думать, приготовляя суп; а неюный Бой, морда к лапам, тихо лежал в углу, не сводя с него глаз. Не думал он о жене прилежно, и когда потный не от волнений, а от усилий, влёк в автосервис шины от «двойки».
Думать стал, лишь когда на машине полз в плотных пробках, часто терзая тормоз с сцеплением и из внешнего отмечая разве что бампер дымной передней коцаной «киа». Этой работой, – в смысле курьерской, – он был обязан именно пробкам. Бизнес курьеров множился, инспирирован пробками, ведь пешком груз доставить проще, да и дешевле. Кронов в метро и возил заказы. То, что сейчас он в пробке, значило, что сейчас особый день: предстояло везти груз в Дмитров личной машиной. И он опаздывал из-за тех же пробитых ночью колёс, – чинить пришлось. А ещё из-за Даши… Кронов корил себя, что тогда возле школы вдруг растерялся и не спросил её: как, за двести вёрст от могилы, дочь убеждается, что в могиле не мать, а нечто? Следует вывод: в дальней могиле роются и звонят ей? Но, чёрт, что роются? Как? Зачем? Кто им право дал?.. Надо выяснить, что возможно лишь с дочерью, а она не расскажет, если он с нею не объяснится. Ибо в могиле как бы жены его (её матери) – не жена его (её мать).
Давным-давно, когда Кронов решал, как быть, на кладбище видел холмики без надгробий и без оградок. Мёртвые сгинули вместе с теми, кто хоронил их. Так и пришла мысль. Он всё устроил: над безымянным старым бугром, заросшим, непосещаемым, он воткнул именную плиту: мол, «Вревская»… А дочь выяснила: под холмиком был мужчина либо ребёнок либо ещё что, с женщиной, каковой была мать, несхожее… Но и будь там хоть женщина, – молодая колхозница, – стиль одежд и серёжек явно отнёс бы кости к тридцатым – шестидесятым, не к девяностым, если уж холмик напрочь заброшен. Чтó там должно лежать плутней Кронова, не истлело бы в той значительной мере, чтоб усомниться при опознании… В общем, там не жена его.
Шрам на Дашиной шее – след тех дней. В девяностых, – прямо на пике пиршества «разума» и глобальных «всеобщих ценностей» на руинах Союза, – Дашу украли. С таксой, пока мать беседовала с подругой, девочка забрела за дом – а вернулся лишь Бой. Конечно, Дашу искали. Но не нашли.
Сложилось шесть версий главных:
выкрали ради выкупа, – стало быть, позвонят;
вторая: выкрали на продажу либо, возможно, чтоб попрошайничать; год пройдёт – Даша будет цыганка, внешне сначала, позже и нравом;
третья: выкрали под заказ бездетным. И увезут, хоть в Чад;
четвёртая: выкрал злобный маньяк из Тулы (Тьмутаракани, Глазова, Смрадова), изнасиловал, задушил и скрылся – либо насильник стационарный, кто будет мучить Дашу в подвале;
версия пятая: Дашу выкрали психи и сатанисты и, скажем, в кухне неподалёку Дашу едят;
шестая: Дашу разрежут и продадут на органы заграницу.
Все эти версии были в лад нормам разума. А он есть, если есть, релятивно чего ткать мысли:
коротко, если есть «я»/«не-я»; если есть «свой»/«чужой»; если есть «зло»/«добро»; если есть «дух»/«плоть» etc. разделения. Скажем, Фихте мнил: без «не-я» «я» не может сознать себя; претворить себя «я» способно лишь от «не-я», которое также «зло». Гнобить «не-я» – конструктивно, нравственно, ибо «я», «добро», в вечной битве с «не-я» как «злом». Это значит: быть «добрым» и возрастающим за счёт «зла» – разумно.
То есть в итоге Дашу украли.
То есть в итоге стался «культурный», «нравственный», «добрый» мир, всеместно превозносимый.
То есть в итоге и получилось, чтó получилось…
Едучи, он почти не дышал от пыли, что висла с неба, и от бесчисленных автовыхлопов. Пробка – троп бытия, он понял; род людской сотворил континуум, чтó, утратив связь с Богом, околевает и разлагается. То «добро», что в феноменах фильмов, книг, баров, фабрик, пушек, законов, моды и пр., было вырвано из природы, понятой «злом», «недолжным», сделалось мёртвым… Кронов побрызгал на лобовик – смыть пыль, струившуюся из воздуха, затемнявшую виды. Глаз – лоцман разума – назначает дистанцию, выявляет различие, а вот слух… Кронов понял вдруг, что обходит проблему, дабы забыться. Вспомнить же нужно.
Не было Даши год – год страшный. Но в ноябре, под вечер, Кронову позвонила жена сказать, что, мол, Даша «на Киевском», ждёт «у касс». На этом связь прервалась.
В течениях меж «комков» («коммерческие ларьки») вокзальный люд влёк к платформам груз потных тел. Найдя у касс Дашу с кровью на шее, Кронов ушёл с ней, думая, что жена – с полицией и ворами, для объяснений и протокола: дочь же оставила возле касс; наверное, было некогда: оперá торопились с ней разобраться ради дел прибыльных.
Он помыл Дашу в ванне, сняв с неё рвань; одел её в платье новое; обработал ей рану. Даша дичилась. Спать он лёг поздно, долго прислушиваясь к шумам и веря: час-другой – и жена будет с ним.
Марго не пришла.
Назавтра он был в полиции; требовали открыть, кто мстит ему, если выкрали дочь сперва, а теперь – супругу. Подозревали его, не верили, что безвинен, ибо в те годы каждый был пройда и нарушитель буквы закона.
Дочь на расспросы не отвечала, выяснить, где держали её, не вышло. Так что от жизни где-то и с кем-то, канувшей в Лету, разве что шрам – тонюсенький шрам от лезвия. По Марго тосковал он меньше, так как сгорел на Даше. Да и внушали, что, мол, «сама ушла»; дескать, «бабы изменчивы». Раз привиделся сон: жена спит с другим беременной в грязном месте, схожем с халупой… Странно, так как в селе она не могла быть, не прижилась бы там, москвичка, гид из музея Глинки и утончённая чрезвычайно. Сон вызвал ревность. Сон походил на правду, точно он, Кронов, был и насильником, и тем самым, кто наблюдал во сне акт в подробностях. Сон внушал, что Марго не сбежала, но поневоле сделалась жертвой.
Дашина драма выхолила в ней вдумчивость, сухость, сдержанность, здравомыслие и привычку к анализу, к разделению на пригодное и негодное лично ей, что значило, что она раздвоилась. Цельной дочь не была: ей вечно чего-то недоставало, сходно в себе находила пятна. Спрашивала про мать часто… Как быть с пропавшей? Выдумать небыль? Вспомнив про окские одичалые кладбища, Кронов, выбрав запущенный жалкий холмик, справил надгробие; показал, где «мама». И Даша плакала. Кронов понял: всё сделал верно. Он по себе знал, как тяжела тоска неизвестности.
Нынче тайна раскрыта, и он расскажет всё.
Резко выжав сцепление, – в миллионный раз? – Кронов вновь надавил на тормоз. Воздуха мало, душно и пыльно, глаз футерует как бы стеклистость… Воет навстречу реанимация… пробка еле ползёт…
У церкви, крошечной и по сельским меркам, он повернул к воротам, сунул охране пропуск.
– Палыч, подбрось! – взмолились, и он впустил в салон ветхой ржавленной «двойки» инока в рясе, длинного, аскетичного.
– К влáстем, – строго велел тот.
Ехали по огромному внутреннему двору за стенами, окружавшими древние, очень тёмного кирпича, строения. Постсоветский завод был собственник территории, но ужался в домок в углу, а другие объёмы сдал арендаторам: складам, фирмочкам, ООО и сервисам, и на каждом реклама в ярких кричащих пошлых тонах.
– К начальству, – супился инок. – Ибо в грехах увязли, Бога забыли; страсти да похоти.
– Люд таков, каков Бог, – встрял Кронов.
– Еллинска борзость и философия! – оборвал монах. – Будет день, вопиять зачнём и восхочем во Бога, но не в сократов. Близок конец живым!
Что чернец знал Сократа (470 – 399), нравилось Кронову, как и что предвещался крах человечества. Этой страшной идеей Кронов зациклен был, но иначе. Инок грехом считал гедонизм, стремление к удовольствию, дескать, «матери всех пороков». Кронов, напротив, был убеждён, что дьявольски мало счастья как удовольствий, неги, экстазов – вот в чём опасность и деградация. Истязателем жизни Кронов мнил разум, всё поделивший на: «я»/«не-я», «чужое»/«своё» et cétera. Пря с монахом преобразилась бы в жаркий спор, знал Кронов, и он молчал недолгий маршрут до места, меченный видом движущихся авто, погрузчиков и людей.
– Спаси Бог, – вылез чернец. – Куда?
– За мной, прошу.
Прошагали к домку под тополем и скрипучею лестницей подняли́сь. Работавший здесь полгода, Кронов учуял стойкий лекарственный аромат, ведь офис – бывший медпункт. В приёмной томилась блёклая, сорока лет дама, никшая за компóм, за «трёшкой» из 90-х.
– Кронов, Мокей Ильич… – повела она.
Двери, скрипнув, выдали лысину; корпулентный тип в мятом старом костюме, зыркнув, позвал:
– На старт, Нин!
Та быстро встала.
Двери закрылись. Вскоре раздался скрежет и стуки, возгласы «э!» и стоны.
Тренькал «Маяк» с рекламой от гербалайфа; инок стоял сурово и непреклонно. Дама «давала» лысому шефу, что знали все, хоть чувственной не была, «тупила», квёлая и инертная. Конкуренция загнала бы её в уборщицы или даже на пенсию, а сексаж гарантировал ей «ресепшн», плюс стаж с зарплатой. Типу, каков был подвижный, лысый Мокей Ильич, эта дама служила в двух амплуа.
Здесь явственный происк разума: ведь разумно ради «культурных» важных процессов секвестровать досуг, то есть «трахаться» походя, ибо секс отвлекает от фабрикации куч «добра», сбивает рабочих с толку. То есть разумно секс утолять меж делом.
Дама, поправив клочья причёски, вышла, дабы, присев за стол с покрасневшим лицом, печатать на затрапезной клавиатуре. Прыткий Мокей Ильич, выйдя следом, выпалил Кронову:
– Все уехали, а ты здесь?! Вали давай на работу!
Этот Мокей Ильич, отставной майор, был невежда, хамло, выжига. Брат его здесь директорил в 90-м, акционировал предприятие и контрольный пакет прибрал. Мокей Ильич, прилетев в Москву, стал при брате завхозом. Брат отошёл от дел, ибо был очень стар. Мокей Ильич суетнулся, снёс конкурента – главного инженера, после и брата, а обанкротившийся завод фрагментами сдал в аренду – прибыльную, доходную из-за близости к центру. Мздою, откатом он защищался как от бандитов, так и от рейдеров. Он купался в наличке, он жировал, однако был лишь калиф на час, потому что не начал бизнес серьёзный, разве наладил службу курьеров, ибо майором он возглавлял её в барнаульской некой в/ч.
Неважно, как наживаться. Важно – с деньгóй быть. Это разумно, значит морально.
– Поп? – зачастил он. – Попик, что нужно?
– Звать меня Гóрдий. – Инок уставил взор в глазки лысого и приземистого директора. – Любодействуешь? Церковь в мерзости держишь?!
– Вон! – отскочил директор. – Нина, охрану! Гнать попа!
– Подстилаешься, племя блядское?! – бичевал монах секретаршу.
Кронов на «двойке» инока вывез, чтоб у ворот завода, в трёх шагах от шоссе на запад, в шуме и в копоти, видеть церковку с ржавым куполом, с запылёнными стенами, очень низкую, как для карликов. Он вошёл в неё вслед за иноком.
– Век шестнадцатый, – произнёс чернец изнутри, где копоть скрывала фрески, лампочка висла под низким сводом; был и престол с Евангельем. Инок кончил торжественно чуть не басом: – Аз первозданность восстановляю!
Кронов хотел того же, но философски. Разум – мышление о предметном. Он хотел невещественного мышления вместо разума. Вещи суть разделение. Но Христос сказал: всякий дом, разделившись, рухнет; царство, разъятое на уделы и сеньории, не устоит. Делить на «да» и на «нет», вник Кронов, – словно расторгнуть царство. То есть «добра» и «зла» не должно быть. Быть должно третье.
Молча он вышел под блёклость неба с сыпавшей сверху и накоплявшейся на асфальте, травах, деревьях, окнах и крышах пылью, – пылью, скрывающей симуляцию, названную «культура», коя есть лживая и искусственная реальность лживых, искусственных же существ, какие зовутся «люди»; вот как Москва звалась «Третий Рим», не будучи им нимало.
Пыльно и душно жить в этой лжи. Кошмар отнюдь, он решил, не в войнах и не в примерах страшных пороков и преступлений, но в повседневной лживой рутине, что лишь условно Жизнь. Ищут вовсе не радость, негу и счастье, как полагается человечеству, но идёт каждодневное кропотливейшее верчение круга пошлых корыстных дел… Мотаясь в «двойке» по пробкам, он вдруг припомнил, что собирался в библиотеку, чтоб найти отклики на известное «Недовольство культурой» Фрейда… Странно: учёный, чтивший культуру, звавший к смещению сексуальных сил на культуру, вдруг недоволен этой культурой. Мало культуры? Надо, чтоб сексом не занимались? либо, как пакостный их директор, только лишь походя? Чтоб в итоге развился ужас? Чтоб человечество убедить в никчёмности быть счастливым? «Счастье – не ценность нашей культуры»… Кронов припомнил, что не успел понять, возглашал ли свой постулат Фрейд гордо или же сетовал. Трактовав секс вредным делу прогресса, Фрейд призвал трансформировать его в труд? Ужасно! Эрос, «культурно» слитый до секса, чувствовал Кронов, этим был предан, скомкан, затравлен, признан нечистым, как дефекация, подлежащим оценке как оправление физ. потребностей. Сексанул – и твори культуру?.. Главное прячут. Эрос скрывают. Только зачем? Затем ли, что, коль не прятать, их мир исчезнет – нужный господству и угнетению жуткий мир? О. Гóрдий ругал директора и его секретаршу за любодейство? Цели понятны: инок «заботился» о «культуре», пусть клерикальной, но ведь «культуре»! Сходно Мокей Ильич свёл секс к мигу, дабы унять зуд и продолжать опять «to do busyness», то есть творить «культуру». Значит, «культура»: фильмы и «бентли», пиццы и ружья, Моцарт, ванильки, драки, смартфоны, вещи, – нужней? Зачем тогда эти вечные и похожие на заклятия «мы желаем счастья»? Лучше – желать всем денег, сплетен, теорий, жвачки, колготок да мегаполисов. Не желают, однако. Всё, мол, и так придёт, было б счастье. Стало быть, счастье всё превосходит?.. Кстати, загадка: инок, живущий некаким Богом вкупе с моралью, счастлив? Также Мокей Ильич, грубый хам с кучей хлама, коим владеет, счастлив?
Что же есть счастье, искра какого в чаемом и упорно сбегающим из моральных застенков сексе – пасынке Эроса?
Сложно, сложно со счастьем…
Нужно, короче в библиотеку, кончил мысль Кронов, сдавшись рулению на дорогах, сгрузке товаров в Дмитрове и распискам, что, мол, он «сдал», тот «принял».
Солнечным вечером, пол-восьмого, он возвращался и далеко от Москвы влез в пробку. В будний день этой пробки здесь не могло быть, и Кронов нервничал… Может, час прошёл. Транспорт полз в пять колонн, две крайние – по обочине, генерируя пыль, какой без того нападало с блёкло-мутных небес избыточно. Пробка шла, как в дыму… В итоге достигли места, где, за кюветом и брюхом вверх, был джип. Лихачил, Кронов подумал. Но рядом с джипом был вертолёт, под ним виснул бокс – такой же, что находился на Спиридоновке и во многих других районах. Бокс опускали люди в спец. форме чёрного цвета (в схожую форму были одеты те как раз, кто снимал спиридоновский бокс, припомнилось). МВД торопило всех проезжающих; он, однако, заметил в миг приземления бокса круг, вращавшийся, как и окский зимний. Это родство кругов ужасало, и он вдавил «газ» в пол – вдогон машин, уже минувших пробку, пусть и хотелось, бросив руль, с воплем выскочить и бежать, зажмурясь. В общем и целом жуть вызывал в нём вовсе не этот круг, отшвырнувший джип, вот как некогда окский круг сшиб Волина, – нет, жуть вспомнилась как предчувствие краха мира… Кронов стал грезить: в душной тьме грохот, так что земля дрожит, и он пятится, а куда – не знает; тьма отовсюду прёт с этим грохотом; после – женщина, видная лишь спиной под волосом… и угадывается Марго, от коей крадут младенцев, – а это дети её, он понял, – но ей плевать, что когти не прекращая их волокут куда-то… Он опустил стекло – ради свежего воздуха.
Вдруг пришёл страх за дочь. Он вжал в ухо сотовый, и в ответ слышал долгие, безучастные, как Марго в жутком сне, гудки… Опять же, он ей звонил на «крокки»: номера нового, «выигранного», смартфона Кронов не знал: дочь номера не дала тогда возле школы. А отзовись она, он единственно бы кричал в истерике, чтоб она убегала, пряталась и ждала его, не затем, что, прибыв, он спасёт её, но чтоб вместе сидеть, закрыв глаза, и дрожать…
Спустя два часа, на поле около трассы, в отсвете солнца, падавшего за лес, сквозь танцы воздушной бойкой стеклистости, обнаружил он новый бокс, серебристый в лучах, – скорей, из дюраля, либо из чистого серебра (палладия, осмия), впало Кронову, и внутри него спец с приборами изучает… эти круги, он понял! Боксы, он понял, возле кругов стоят, закрывают их! И он думать стал о кругах. Раз боксы и люди в чёрной спец. форме возле кругов стоят, то круги, стало быть, опасны. Это он знает не понаслышке: Волина у Оки сшиб круг, он вспомнил, – как вот шоссейный круг, кой он видел, сшиб чёрный джип, который по весу несколько тонн. Джип сшиблен, как гуттаперчевый… Впрочем, что много думать? Физику круга он не поймёт. Одно лишь ясно: с неких пор все круги – под боксами. Окский круг, может, тоже блокирован и над ним серебристый, как бы дюралевый (из палладия, платины), бокс… Опасно с кругами, он убедился в двух уже случаях; плюс они ужасают, будто Ананке-Необходимость, спёршая чувства сводом законов. Необходимость, типа, не слушает убеждений или молитв.
«Живые завидовать будут мёртвым», – выбилась фраза: в пятый? в который раз?
– Нет!! – вскричал он.
Рядом был пост ГАИ-ГИБДД. Он с визгами тормознул. Отдав честь, рыжий инспектор начал:
– Вы нарушаете…
Он не слышал. Он бессознательно вёл машину и не разбился разве что чудом. Выяснив, что он трезв, единственно не в себе на вид, гибдэдэшник взял штраф за скорость и обязал посидеть в машине.
– Может, беда у вас?
Кронов молча кивнул. Беда, он сказал бы, но промолчал, у всех. Приблизилось жуткое, и оно упразднит жизнь, счастье и истреблявшую их культуру. А виноваты эти круги. Пусть тайна их скрыта странной их мощью, в том числе боксами, факт есть факт. Кронов будет выискивать эти боксы. Есть ли системность в их топографии?.. Ха, причём системность?! Классификацией и системностью, устроением и дедукцией, регуляцией и анализом разум только и жив; он не стал бы внедрять круги близ шоссе и на улицах, нарушая порядок – базисность разума…
Человечьего разума! – впало Кронову. Разум мог быть другим! Будь чувственность, фантазийность, память о прошлом в их высшей мере – нынешний разум сразу исчез бы; образовался бы разум новый, не разбирающий мир по брёвнышкам, не субъектно-объектный, а разум цельный, со-единяющий, эмпатический разум не первородного криминала, но разум райский. Нынешний разум стал упорядочен до мертвящих логических жёстких норм, знал Кронов, что губят жизнь.
На Пятницкой бокс был в лавке. Кронов зашёл за хлебом, и за высокими ширмами обнаружился бокс (из платины, серебра, палладия либо просто дюраля).
– Что там? – спросил он.
– Канализацию ремонтируют.
Когда ночью в проулке у Патриарших «двойка» застыла, Кронов по окнам, тёмным и тихим, понял: дочери нет… Он сник. В конце концов, он не мальчик и он устал безмерно… Он вынул «Кэмел»… Мальчиком «Кэмел» он подобрал на улице и стал верен данному бренду, пусть это вряд ли рационально: есть бренды лучше… Рационально? Он много делал вдруг, безрассудно. И видел сны, цветистые, коим въяве аналог не находился: их достоверность крыла мистичность, потусторонность. Часто он чувствовал, чего не было, но что позже обычно происходило. Мать с ним пошла к психологу, был диагноз: мальчик «особо интуитивен». Кронов прочёл потом, став студентом, что интуиция, эрос, память и грёзы правили разумом на заре прогресса. После формальный, рациональный, строго логичный и понятийный логосный разум грубо избавился от загадок в области мысли ради «всеобщности», дабы всё понималось всеми едино и одинаково. Отрешаясь от качеств, видящих жизнь в единстве, разум кроил жизнь, чтоб, разделяя, властвовать…
Кронов сильно потёр глаза, ибо снова стеклистость стала в них взмелькивать. Сидя в старой машине, он посмотрел вокруг. Ночь. Второй этаж дома, где он жил с Дашей, сплошь залит светом; значит, у водочника гости… Вот они вышли, в белых костюмах, с шумными дамами, погалдели, разъехались; страж закрыл дверь за боссом. Кронов помедлил и отвернулся. Строй стилизованных фонарей из бронзы лил лучи на известный до рвоты, хрестоматийный, так сказать, пруд, где плавали парой лебеди. Пахло маем… В доме направо плакал рояль, часть григовского концерта. Верно, Старик играл, тот Старик, какового он помнит с раннего детства как старика. Старик был всегда старик и играл для себя. Известнейший физик возрастом лет под сто, когда-то он схоронил детей и играл с тех пор. Он держался отшельником; а ещё был высок, в одежде от лучших брэндов. Он вызывал почтение. На прогулках с ним рядом шли бодигарды от ФСБ. В трудах его крылся математический строй вселенной. Свой миллион, твердили, он получил ещё до войны. Старик был символ. Если умрёт, твердили, – мир прекратится.
Кронов, при Брежневе, как-то был в оперетте с матерью; опереточный светлый дух, сулящий любовь и счастье, околдовал его, недолетка.
«Карамболина, Карамболета,
ты королева-а красоты-ы-ы»…
«Всё-ё это был лишь со-он, мне-е до-орог он»…
«Севастопольский ва-альс, золотые деньки-и»…
«Зачем мечтать напрасно, на свете счастья нет»…
Да, счастье. В жизни, в искусстве все его ищут. А его – нет. Реформы, прожекты и революции, философии, этика ищут счастье. Люди живут для счастья, не для труда и войн.
А его таки нет.
– Играет, Старик-то…
К кроновской «двойке» брёл с сигаретою едва видный в тени от лип, заслонявших фонарь, сосед, приземистый, крепкий, стриженый, лет за сорок, Сашин отец, полковник из МВД, начальник ОБЭПа округа. Он свернул к своему «Cherokee» полюбоваться, втуне сравнить его «двойкой» Кронова; а потом засмеялся и произнёс: – Кому он оставит эти хоромы-то, наш питейный барон? Отжал этаж, а своим габаритом только для гроба… Что, отдыхаешь? Дашка не дома? Сашка пропал с утра.
– Я свою утром видел, – Кронов ответил. – В школе. Там был и Саша. Оба пошли куда-то… Дети есть дети.
– Дети-то дети, а понесёт в подоле, ты не ходи ко мне. Как ведь: сучка не всхочет – фалик не вскочит, – вёл сосед пошлое, да и малоприятное. Он, не местный, жил здесь, в старинном статусном центре, так как «взлетел в верха» в силу свойств своих, адекватных напору и агрессивности.
– Ярлыки раздал? Даша с Сашей друзья, не больше, – хмурился Кронов.
– Я не с того, – прервал сосед, – что твоя дочь хуже. Просто итог иной. Сашка – кто? Он хромец больной. Сашке нужно учиться, образование. Он и так лентяй, хоть в отличниках. А ещё… Без обид прими… – И сосед замялся. – Тут наблюдательность ментовскáя: Даша, я видел, вышла из «бэхи». Есть у тебя кто с «бэхой»? Тут вообще блуд в центре. Шваль и ворьё – все в центр бегом… – указал он на типов, что отирались возле пруда. – Спроси их – с Кавказа либо с Бердичева. Им зачем сюда? А затем, что отсель до баров, всяких танцулек, клубов, притонов пару шагов шагнуть. Грабануть также можно не продавщицу, а бизнес-леди с тысячей баксов в сумке от Prada; много богатых.
– Да. Меня тоже, – Кронов изрёк, – ограбили. В сотне метров отсюда, на Спиридоновке.
– Ты запомнил что?
– Номер джипа.
– Джип-то крутой, наверно? – хмыкнул сосед. – Забудь тогда, здоровее останешься… – Он кивнул на дом. – Вот меня взять – я думал в центре жить, сам я с Монино; человек помог в девяностом; но позвонил на днях: брат, съежжай давай, предлагают риэлторы кучу баксов, ты и съезжай давай, говорит; центр рвёт в куски олигархщина; сверху требуют, говорит, чтоб этому… – бормотнул он фамилию и опять кивнул на их дом, – дать площадь… Гада, – он сплюнул, – к стенке бы. Но нельзя с его баксами… Гэть!! – прикрикнул он на пьянчугу, гадящего в кустах. – Я съеду – сразу тебя попрут оглоёбы. Что им курьеры? – И, отшвырнув окурок, чин почесал в затылке. – Съеду, короче… Да и погано тут. Экология на нуле, пыль хренова, толкотня, тусовки. Ты Дашу тоже… Девка – красотка. Что соблазняться? Клюнет на роскошь, будет таскаться – я без обид – по «бэхам». Ты тут нормального не отыщешь, эти все съехали добровольно; тут сплошь уроды из богатеев и бандюганов… Шины чинил? Сигнальчик. То ещё будет… Я вот уеду – вытурят. Лучше нам на окраинах… Вообще бардак! Люди молятся на кругах, – на этих, что появились… Храм для Кибелы2 неподалёку обосновался. Полный песец!
– И что там?
– Оргии! – сплюнул чин. – Там жрица; всем, мол, даёт, по слухам, ради любви, мол. Я б этих сучек… Эй! – отошёл он, так как от Бронной брёл, освещён фонарями, Саша. – Парень! Постой-ка! Где был?
– Нигде.
– Что? Как отцу отвечаешь?!
Кронов спросил из «двойки»: – Даша? Ты с ней был?
– Я не подследственный!! – крикнул мальчик. – Я… Я не знаю где… Ничего я не знаю!
– В дом, – приказал чин, взяв его за плечо.
– А фиг! – огрызался мальчик.
Мать голосила в окнах их дома: – Са-аша! Домой иди!
Тот её передразнивал: – Никакой я не Са-аша!!
Кронов полез из «двойки» и обнаружил, что группа типов, коих сосед его пять минут назад приводил в пример как мигрантов, бдит его от пруда. Риэлторы? Будут вновь давить? Бить по психике? Вероятно, по физике. Пресс психический – пусть, он выдержит, тренированный мерзостью бытия. Но Даша… Нет, дочь нельзя подвергать опасности! Он решил в себе, если только риэлторский, а по сути бандитский нажим усилится, уступить, – не тóтчас; после событий школьного бала. Времечко есть пока… Да, пока здесь живёт сосед-эмвэдэшник, водочный шейх (король, бог, барон и прочая), норовящий прибрать дом, будет держаться хоть минимальных рамок закона… У богатея ведь тоже дочь за окошками из бронированного стекла и стали – только его дочь как бы «добро». Дочь Кронова и он сам, не знавшие года три назад богатея, – это всё «зло», «негодное».
Он ворвался в квартиру, слыша трезвонивший телефон; во тьме взял трубку. В трубке молчали. Также молчали, когда, застегнув псу шлейку, он побежал на новый звонок, ведь это могла быть дочь, обиженная, но любящая, мнил он… Либо риэлтор… Может, и водочник наверху, резвящийся после пьянки. Сцапав дом, он настроит мансард, наставит у лестниц статуй, после оцепит дом чугуниной, переплетённой хмелем, милином, кáмписом, розой, и посчитает, что прожил славно. Глупость, наивность. Не проживёт никто. Кронов чуял вселенские напряжение и беду, которые мир взорвут.
Найдя молоток, он с таксой на шлейке вышел. Типы у сквера, что заключал пруд, двинулись следом. Кронов шёл к кругу неторопливо и молоток не пряча: типам в острастку. Кстати, и Кронов был долговяз и жилист; плюс дряхлый такса мог отпугнуть врага. Минул дом космонавтов, перед которым – стройка. Бой задирал там лапу подле забора, что он и выполнил по обычаю. Кронов стал – стали типы. Бой помочился. Кронов продолжил путь к Спиридоновке, на которой машин и встречных в этот час не было. Типы – сзади… Вот перекрёсток, так что направо, метрах в полстах, – Садовое. У гранитных бордюров он, сев на корточки, долбанул молотком в асфальт, где прежде был круг под боксом. Вязко дробилось свежеположенное пятно; он сбагривал сколки прочь… Концы молотка скользнули, словно по льду… Решившись, он приложил ладонь к оголённой им гладкости и тотчас, испустив крик боли, будто вбивали в темя зубило, начал метаться, стукаясь то в забор близ стройки, то в припаркованные авто, то в дом, то в типов, следом ходивших; после свалился, как показалось, и потерял сознание.
Отыскал он себя лежащим и ничего не могшим, кроме терпеть кошмарную, распиравшую нутрь боль, мучительно отступавшую…
Он привстал. Боль стихла, но чужеродное, распирающее, осталось. Мнилось, ударив в череп, выбросить, что теснилось там. «Боже…» – вскрикивал Кронов, приподымаясь. Бой тряс хвостом поодаль.
Как, Поварская, не Спиридоновка? Городская усадьба кн. Долгоруковых? Заблудился, быв без сознания?! Он побрёл назад, спотыкаясь, с громкими сипами.
Нервы? Приступ? Болезнь?.. Нет, круг причиною! Он притронулся к кругу – и завертелось.
Он, доволокшись до Патриарших, сел на скамейку под фонарями, глянул на дом. Квартирные окна тёмные; значит, дочери нет… Он всхлипнул вдруг оттого, что сел, обнаружил, там, где сидели в прошлом с Марго. Их место… Здесь до Марго он сходно сидел с родителями; один потом, мальчик, юноша… здесь сидел он с Марго-невестой, после – с женой Марго… Где Марго? Почему её нет? И дочь – где?!
Бой наблюдал подпалинами бровей. Дряхлеет… Помнит ли пёс Марго? Да, помнит ли, как она принесла его в дом кутёнком? помнит ли, как бродил за ней, забирался к ней на колени и горевал, когда она вдруг пропала; пёс будто понял, что не дождётся её до смерти.
Слышалось, как Старик играл. Он тоже терял: жизнь, силы, смыслы, надежды, радости, близких. Только он долго жил и с родными, и с жизнью и с многим прочим. Кронов, вразрез ему, потерял Марго, не насытясь. Он ей хотел дать счастье.
1
Родитель (англ.).
2
Кибела – фригийская богиня, культ которой предполагал состояние исступления.