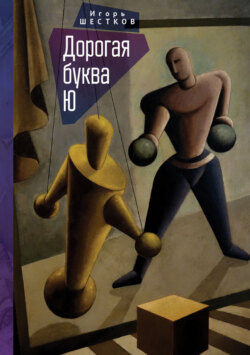Читать книгу Дорогая буква Ю - Игорь Шестков - Страница 10
Автобиографические заметки
Горящая бумага
ОглавлениеЯ люблю запах горящей бумаги.
Бабушка Аля работала в конструкторском бюро при обсерватории. Приносила домой бракованные линзы, давала мне, и я прожигал ими бумагу. Зимой московское солнце слабое – белая писчая бумага не загоралась, зато покрытая черным шрифтом газета быстро выпускала струйку серого дыма и на месте маленького солнышка образовывалась дырочка, траурные края которой пламенели и расширялись. А летом удавалось зажечь и красивую финскую бумагу, лежавшую на письменном столе. Эту бумагу доставал дед, а использовали ее мои ученые родители для чистовых экземпляров научных работ.
Сгорела как бумага жизнь моей семьи. Сгорела в огне времени, и даже пепла от нее не осталось. Забыты никому не нужные научные статьи. Исчез письменный стол. После смерти отца, мама вышла замуж за отчима. Дед помог нам купить маленькую кооперативную квартиру. Мы переехали. А большую квартиру в Доме преподавателей, в которой я научился прожигать бумагу, разменяли, в ней уже сорок лет живут чужие люди.
Бабушка Аля умерла через два года после моего отъезда за границу, дедушка Миша пережил ее на два года. Бабушка умерла от старости, не дожив месяца до восьмидесятилетия, мучившая ее тридцать лет астма в конце жизни отступила, и смерть взяла ее без боя, во сне. Позже мать говорила мне, что бабушка ушла из жизни добровольно, от тоски по мне.
Ее тело нашла утром домработница, бабушка лежала в спальне, в которой провела четверть века, на своей кровати. На тумбочке лежала пустая упаковка сильного снотворного.
Недавно приснился мне про бабушку сон.
Будто еду я в автобусе по Ломоносовскому проспекту. Проезжаю мимо Дома преподавателей. Во сне дом – в несколько раз больше, чем в действительности – нечто громадное, кристаллическое, темное. Вижу освещенное золотистым светом окно на восьмом этаже. Знаю, в доме никто не живет, люди давно покинули его. Время идет медленно в этом сне. Все мрачно и темно. Вдоль улицы стоят тусклые желтые фонари. Вокруг – силуэты громадных черных зданий, смутно напоминающих Красные дома за кинотеатром Прогресс. В автобусе стоит почему-то телефонная будка. В ней старомодный телефонный аппарат. Набираю номер бабушкиной квартиры. Бабушка отвечает: «А, это ты, сынок. Я так устала, у меня приступ, ты слышишь, как хрипят мои бронхи? Это злая колдунья Дардуна – она сидит в моем горле и душит меня. Знаешь, все было бы иначе, если бы Гера вернулся тогда. Все было бы так хорошо. Где дедушка? Он обещал сегодня прийти пораньше. Но его все нет. Я лежу одна целую вечность».
Я говорю: «Я зайду к тебе».
Кричу водителю: «Остановите автобус, выпустите меня!»
Но невидимый водитель не слышит меня, автобус едет дальше. В окнах ничего не видно, ни домов, ни фонарей, ни асфальта. Только темное марево.
…
Дедушка Миша умер в дурдоме. Туда его поместила моя тетка Раиса. Якобы после того, как дед ударил ее палкой по лицу. Может быть, Раисе просто неохота было тащить на себе одряхлевшего отца. За границей ее ждала хорошо оплачиваемая работа. Вот она и сдала деда в дурдом. А до этого избила его пожилую любовницу, с которой он собирался в Израиль ехать, в гости к брату. Деду она сказала, что отправляет его в «летний санаторий», чтобы он подписал соответствующие бумаги. Мне тетка написала, что дед умер от кровоизлияния в мозг. Еще она написала, что дед не верил в то, что бабушки нет, и звал меня.
Сколько вечеров мы провели вместе! Сколько раз предоставлялась возможность поговорить – но ни разу дед не использовал ее. Приходил с работы усталый и раздраженный. Взрывался и визжал, если я начинал говорить о политике. Деда не особенно трогали мои мнения. Его раздражала неизбежность моего и бабушкиного присутствия в его квартире. Моего – временного и бабушкиного – пожизненного. Что он хотел? Чтобы капризная больная старуха исчезла из его жизни и ее место заняла здоровая молодая баба с огромной грудью? И да и нет. На поверхностном уровне сознания – да. После девятичасового стресса дед хотел встретить дома уютную, вульгарную бабу, с которой можно после секса и выпивки вместе посмотреть футбол и новости по телевизору без иронических замечаний. С которой можно расслабиться. На более глубоком уровне сознания – нет. Там, в глубине души, все еще жил воспитанник «Анненшуле» из бедной, незадолго до революции перебравшейся в Петроград провинциальной еврейской семьи. Неопрятный, невоспитанный, с грязными ногтями и плохо пахнущими носками, политически активный мальчик, влюбленный по горло в хрупкую музыкальную девочку из богатой еврейской семьи.
На семьдесят четвертом году жизни у деда начались сильные боли в животе. Вначале он никому об этом не говорил, терпел, злился и рычал на всех, надеялся, что пройдет само. Через полгода боль стала невыносимой. Дед пошел к врачу в Академическую больницу. Ему сделали неприятный анализ – слазили шлангом в зад, осмотрели кишку.
– Вот он! – закричала врачиха.
– Кто? – спросил дед.
– Полип, – ответила врач, прекрасно зная, что это рак. Деда положили в больницу. Он томился в зловещей больничной атмосфере – ему давали обезболивающее и разрешали свободно выходить. Дед бродил часами в парке близлежащего Дворца пионеров, готовился. Один раз я посетил его. В палате мне сказали, что дед гуляет. Я вышел из здания, огляделся, деда не было видно. На газоне перед входом в больницу три вороны клевали голубя. Один глаз ему уже выклевали, из открытого черепа сочилась кровь. Вороны клевали не торопясь, старались попасть в дырку на голове. Голубь пятился от них – ни летать, ни ходить он уже не мог. Вороны давали ему отползти, но потом опять настигали и клевали, клевали, клевали. Я подумал, что судьба могла бы, по крайней мере, избавить человека от таких картинок. Отогнал ворон. Но прикончить голубя у меня не хватило мужества. Пошел искать деда. Издалека видел, как вороны, сделав несколько величественных кругов в высоте, приземлились на газоне рядом с голубем и опять начали клевать. Деда прооперировали. Операция длилась пять часов – и была успешной. Дед прожил еще одиннадцать лет. Рак больше его не беспокоил.
В ту самую ноябрьскую ночь, когда дед умер, мне приснился сон. Мне снилось, что я стою на «кругу», большой цветочной клумбе между Домом преподавателей и мертвым, без машин и людей Ломоносовским проспектом. На кругу нет цветов, все заросло бурьяном. Ветер воет. А в середине круга – топчется мой дедушка, потерянный и растрепанный как король Лир. В левой руке у деда – белая бумажка. Дед улыбается. Подхожу к нему, беру его за руку. Говорю ему что-то, но дед явно не слышит меня. Смеется, как смеются безумные, показывает беззубый рот. Вырываю из руки деда бумажку – по виду это чек из магазина. На ней напечатано: «Предъявитель сего – слеп».
Смотрю деду в глаза – дедушка действительно слепой, из-под его век сочится бесцветная жидкость.
Тогда, лежа на старой чужой кровати, я заплакал от тоски по нему, по бабушке, по навсегда исчезнувшей Москве моего детства. Но еще через несколько дней меня посетил совсем другой сон и тоже с дедушкой, от которого я долго не мог опомниться. В этом сне дед ласкал меня как женщину и рассказывал непристойные истории. Проснулся я в страшном возбуждении. Сперма брызнула мне на живот. Я вытер ее белой майкой, присланной мамой из Америки. Было темно в узкой, похожей на гроб, не отапливаемой комнате огромной квартиры, которую я после отъезда дочек и жены занимал один. Я встал и подошел к окну. Было шесть часов утра. Еще не рассвело, но во дворе уже началось движение – работники расположенных там мастерских парковали свои машины. Вокруг меня простирался безрадостный индустриальный ландшафт. Полумертвый город К. показывал мне свой гнусный оскал.