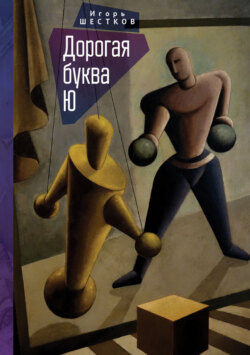Читать книгу Дорогая буква Ю - Игорь Шестков - Страница 22
Из записных книжек
Сова
ОглавлениеИ сова кричала, и самовар гудел.
Вы захотели меня в «друзья» для коллекции, а я то думал, что Вы прочитали мои книги и решили подружиться с автором. Как бы это было прекрасно!
Прочитали бы хотя бы одну мою книгу.
Или хотя бы один рассказ в одной из книг.
Или абзац.
Предложение.
Одно хотя бы слово!
Или запятую!
Точку!
Хотя бы пробел увидели и восхитились!
Ох уж, эти пробелы… Сколько в них тайных смыслов!
Погода в Берлине сегодня – первый раз за этот проклятый год – хорошая. Тепло, светло.
Долгих лет обещать не могу.
Жизнь у нас дурацкая.
Двадцать два несчастья.
Литература – разговор автора с читателем?
Ну да. Разговор.
Ни в коем случае – не с самим собой.
Зачем забираться с ногами в собственное горло? Можно задохнуться.
Но скорее – охота.
Надо уловить читателя, чтобы пропасть в нем без следа. И если уж побеждать или проигрывать, ломать дрова и показывать кузькину мать, пускаться в разглагольствования или бессовестно блудить, то только в нем, в ней, не в себе.
Без читателя текст – пустышка, а автор – мертвяк.
Буковки оживают только в его живинках.
Фронтальная атака? Вздор. Отскочит, как от стенки горох.
Отсюда и сюжеты и диалоги и рассказы и метафоры и катарсисы – это сорокалетнее вождение за нос по пустыне, дуликарамельки и другие хитрости ловитвы.
Подсласти – читатель клюнет, проглотит горькую пилюлю, и твой фантом надолго поселится в его башке и будет оттуда зырить на белый свет.
Зачем тебе эта вторая жизнь, если ты и с первой-то справиться не смог?
Батюшки, целое кольцо противоречий. Вот на этом кольце и висит художественное творчество, как ключик.
Ключик этот открывает дверь, за которой вроде бы ничего и нет. Невежи называют это параллельной реальностью. Потусторонним миром. Зазеркальем. Королевством золотого слоника.
Помилуйте, всякому безобразию есть свое приличие!
Вот, пробежал лисенок.
Упорхнула бабочка.
Ветер поднял пыль.
Дождик закапал.
Мясник скабрезно улыбнулся.
Пожалуйте к столу!
Скатерть пахнет мылом.
Ни смерти, ни бессмертия, ни параллельной реальности.
Нежная ты стала, Дуняша!
Из письма переводчику Кафки.
Прочитал по-немецки главу из Замка.
Замок по-немецки – дас Шлосс – это ОНО.
ОНО, оно, оно, расползшееся на вершине горы чудовище, спрут…
А по-русски это грамматический вечно ОН – зловещий карбункул, солевой кристалл. Как переводить?
Да и вообще – непонятно, зачем этот очевидный кошмар, этот мазохистский бред несчастного туберкулезного еврея тянуть-тянуть как резину?
Единственный твой шанс победить гладковатую, смазанною маслицем для комфортного прожора Р-Ковалеву – это передать терпкость, неприятность немецкого языка автора. Это будет приближением к настоящему Кафке – но читатели возопят.
У тебя там «Крепостная гора» в первом абзаце отсылает сразу в фальшивое пространство. Нет у Кафки никакой крепости. У Ковалевой – «Замковая гора», это тоже плохо.
Я бы написал так: «Вершина холма, на котором расположился Замок, была окутана туманом и тьмой…»
…
Помните, как на вузовских экзаменах по идеологическим предметам нас заставляли «суть» излагать? Как будто у всей этой коммунистической отрыжки была какая-то суть. А мы с мордами, изо всех сил демонстрирующими энтузиазм и страстное желание изложить эту самую сокровенную марксистско-ленинскую суть, продолжали лить бессмысленную словесную воду. На школьном выпускном экзамене по литературе в далеком 1973 году меня попросили изложить суть конфликта между главными героями в пьесе Тренева «Любовь Яровая». Это был удар ниже пояса. Потому что пьесу эту я не читал. Как кстати не прочитал ни в школьные времена, ни потом, ни «Как закалялась сталь», ни «Молодую гвардию», ни одной работы Маркса и Ленина. Потому что интуитивно чувствовал, что эта ядовитая гадость отравит мне внутренности. На мою беду, я не только не читал пьесу Тренева, но даже не знал, что «Любовь Яровая» – это имя женщины. Не обращая внимания на то, что «Я» – это заглавная буква, я сам для себя решил, что «Любовь Яровая» это некая любовь на яру. Что такое «яр» я тоже толком не знал, хотя «Бабий яр» в урезанном виде и читал. Родители дали книжечку, заклиная никому не показывать и не рассказывать… Я тогда, на экзамене, подумал и вообразил, что «Любовь яровая» – это пасторальное описание любви колхозников к Ленину и партии после сбора урожая. В овраге. Соцреализм в зените. Потом поправил себя – не в овраге, а на берегу реки. Какой реки? Натурально, Волги. Собрали мол советские труженики урожай и начали праздновать на яру, на берегу великой реки Волги, водить хороводы, заплетать венки, жечь костры, танцевать (зипуны, плисовые шаровары, усы, сдобные бабы, ансамбль Моисеева), славить Ленина и партию, и петь хором патриотические песни. Но, почему, черт побери, они от меня требуют рассказывать о каком-то конфликте между главными героями? Ага, догадался я, в пшенично-серебряную компанию с серпами и балалайками, втерся сорняк-вредитель. В то время, пока все мирно празднуют и любят, он, злодей и сын кулака, никого не любит, он жжет собранное в непосильной битве за урожай зерно и одновременно отравляет колхозные колодцы. Одной рукой жжет, другой отравляет. И мерзко посмеивается. Но один из колхозников – сын полка и сознательный пионер Павлик Морозов давно разоблачил кулацкую гадину и пытается в одиночку, не испросив разрешения и совета у старшего товарища, седовласого парторга Сидорчука, пресечь преступные действия негодяя. Вот вам, товарищи, и конфликт. Борьба хорошего с еще лучшим. Сознательный пионер рвется вперед, седовласый парторг пытается направить его энтузиазм в единственно верное русло… Фантазия моя побежала дальше легко-легко, как фея по тропинкам Зазеркалья, и я начал, не называя имен, вдохновенно пересказывать экзаменационной комиссии мой собственный сюжет «Любви Яровой». Я так увлекся, что даже не заметил, как вытягивались лица экзаменаторов, вытягивались, вытягивались, а потом еще и покраснели. А затем и побурели от справедливого гнева. А потом…
Да-с, потом…
Потом было еще смешнее. Поскольку моя возмутительная галиматья не противоречила фундаментальным советским идеологическим установкам, меня не стали топить, а начали задавать мне наводящие вопросы. Я отвечал – впопад и не очень – стихотворными цитатами.
Меня спросили, в каком здании помещался ревком.
– Ревком? Аааа… Режу в среднюю. Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновенья, где льется дней моих невидимый поток на лоне счастья и забвенья. Я твой, я поменял порочный двор Цирцей, роскошные пиры, забавы…
На меня недоуменно посмотрели и спросили, что рассказал матрос Швандя машинистке Пановой. Тут я, неожиданно для самого себя запел.
– Я расскажу тебе много хорошего / В ясную лунную ночь у костра. / В зеркале озера звездное крошево…
– Крошево?
– Ну да, крошево, от крошить. Как у Горация. Дева, узнать не стремись, когда перестанет Юпитер, скалы у брега крошить волнами Тирренского моря. Будь разумна, вино очищай…
Ну и дальше в том же духе. Экзаменаторы не знали, что делать, дуровозку вызывать или пятерку ставить. Стихов и песен я знал тогда чертову кучу – через полчаса меня отпустили с миром.
…
Об «Архиерее» Чехова.
Единственное наслаждение – это припасть устами к метафизическому источнику бытия. К устью существования. Ощутить радость от соприкосновения с исконной неопределенностью, безначальностью, трансцендентностью всему профанному. И элегантно маскируя реальностью – непознаваемое – написать рассказ об этом, ни разу не упомянув главное…
Таков и Архиерей.
Так и будет, бедный, кружиться над нами, мотылек.
А мы будем о нем плакать…
…
Письмо пианисту.
Репетиции слушать интереснее, чем полный концерт, может быть потому, что все устали от этих больших законченных классических форм – прослушали их уже сто раз в очень хороших исполнениях. А тут – контраст между словами, паузами, шумами – и вдруг возникающей и, главное, пропадающей прекрасной музыкой.
Большая форма – что музыкальная, что живописная, что литературная – это диктат, тебе диктуют сорок минут, а ты должен восторгаться и воспарять, и падать, и разбиваться…
Осточертели, мамочка, эти американские горы уже в юности (романы-жан-кристофы, историческая живопись аля утро стрелецкой казни, оперы-лоэнгрины, первые концерты, седьмые симфонии).
А репетиция – подготовка – это то, что люди уже почти и забыли после сотен парадных-королевских-торжественных и торжественнейших концертов – это живая музыка, игра, игра на рояле и других инструментах, чудесный теннис, где не только дирижер неистовствует и его музыканты наяривают, но и сами Чайники-Рахманы-БетховЕны по площадке бегают в коротких штанах, и мы, слушатели, вместе с ними. Убежден, что крохотными лучезарными кусочками, твоя репетиция была лучше премьеры…
Белого дуплетом в угол!
Мне люба только литература-репетиция.
С английским языком я тебе помочь не могу – когда-то болтал свободно, а потом немецкий его из моей головы выдавил.
Если ты не забудешь золотые правила мемуариста, то и без меня справишься:
Поменьше размышлений (это мыло)!
Рассказывай истории – малые и большие – как будто они произошли с тобой, сухо, кратко. Пиши прямо то, что хотел написать, не финти.
Старайся избегать оценок. Пусть читатель делает выводы сам.
Описывай подробности со смаком.
Относись иронично к самому себе. Не жалуйся. Щади других.
Но если бьешь, то насмерть.
Был на свете такой-сякой… Симеонов-Пищик.
…
Восьмое марта близко, близко…
Эти, пахнущие папиросами Беломор, совейские сантименты – отвратительны и у Р.
У него, человека, постоянно живущего в России – как и у многих других – есть специфические девиации сознания. Несмотря на то, а может быть и потому что – он их каталогизирует, собирает и даже ими литературно вдохновляется.
Домашняя библиотека, табуретка, прокуренная кухня, непрекращающееся соревнование альфа-острословов, примитивная архитектура, регулярное самопознание перед сном, удушающая атмосфера третьего Рима… – это бытие определяет сознание россиян.
Перенасыщенная интеллектуальными миазмами проза.
Тараканье ристалище.
Соцарт на крови.
Епиходов биллиардный кий сломал!
У вас руки белые-белые.
Бессмертие было бы адом.
То, что мы называем жизнью, возможно только при условии постоянной сменяемости – клеток, организмов, правительств, народов, государств, цивилизаций. И цель и смысл жизни – не ты сам, не твое творчество, здоровье и счастье, и даже не здоровье и счастье других, лучших чем ты, не звено цепочки и не сама цепочка, а только вечное обновление…
Поэтому так смешны попытки стареющих художников и писателей построить для себя нечто вроде защитного кокона или саркофага, мумифицировать самих себя в картинах и гравюрах, закодировать себя на страницах своих текстов, до потолка набить погребальную камеру своими подобиями.
Единственное, что требуется от отживающего свой век человека – это умение вовремя заткнуться, убраться… и не мешать росткам новой жизни прорастать сквозь колючую проволоку никому не нужной старческой мудрости. А уж какие это будут ростки – не нам судить.
Все наши музыкальные, живописные, бронзовые или словесные памятники самим себе – с точки зрения новой жизни – не более, чем отстриженные ногти мертвеца.
Не надо вылезать из гроба и сосать кровь у младенцев!
Не надо обижаться на осиновый кол – единственную награду, которой награждают нас молодые!
Вот так, лай, не лай, а хвостом виляй!
…
Дорогой С, получил Вашу маленькую книжицу, перевязанную такой родной веревочкой.
Мешочек иголок.
Нет, мелконарезанной смысловой лапши.
Или – пастерначьей икры.
Копошатся бесенята. Лупятся, вылупляются…
Металлические слова-головастики – смарцы-самарцы-кузнецы.
Ты кузнечика за кривой усик – хвать!
А он уже улизнул.
На его место – уже другой смыслик лезет, крылышками железными шуршит, фацетными глазками поводит, стрекочет…
Автор – сучий пес – отдышаться не дает читателю-мне. Не успеваешь проявить негатив – а он уже крохотной сабелькой – по сусалам. Беги дальше по строке, дядя!
У ваших стихов пульс за 180, а давление невысокое.
Ваши строчки ранят мне нёбо.
Ранят небо.
Позвольте пригласить на вальсишку?
Барин покойный всех сургучом пользовал.
Помолился за С, положил в церковный ящик евро и попросил Бога за ее душу.
Когда музыкант заиграл хорал – ужасно плохо заиграл, как деревяшка – у меня по щекам полились слезы.
Понял простейшую вещь – не надо играть как-то особенно хорошо. Все от лукавого. Достаточно честно, бегло и сухо отыграть произведение. Бах и Шопен свое дело все равно сделают…
Продавайте и меня вместе с садом.
…
Как приятно играть на мандолине!
Пошли мы всей компанией гулять в секвойный лес.
Гуляли-гуляли.
Потом вдруг поняли – мы тут не одни.
ОН смотрит на нас.
Не человек.
Хорошо, если медведь.
Поспешили к машине, да в соседний городок – в супермаркет.
Там сразу успокоились.
Гуляли вдоль полок с овсяным печеньем, орехами и конфетами.
Так-то лучше…
…
Океан.
Глядя на эту тяжелую воду до горизонта, понимаешь, что время и пространство и материя и пустота – только различные побеги одного и того же дерева.
Корень его растет из неопределенностей, в них же исчезают его плоды.
И вообще все.
Так что… надо радоваться тому, что удалось хоть немного на это посмотреть, подышать, попищать…
От шара направо в угол!
Не мельтеши в предбаннике вечности.