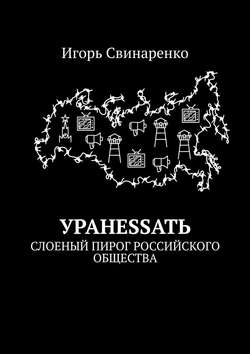Читать книгу УРАНЕSSАТЬ. Слоеный пирог российского общества - Игорь Свинаренко - Страница 3
ГЛАВА 1. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
ДЕТКИ В КЛЕТКЕ. КОЛОНИЯ ДЛЯ ДЕВИЦ
ОглавлениеДети за решеткой. Это про какой—нибудь Освенцим или Саласпилс? Нет, незачем так далеко ехать. Вот под Рязанью есть так называемая воспитательная колония. Там детей окружают колючей проволокой, одевают в колхозные телогрейки, кормят баландой, заставляют работать, а если они заболеют, лечить их чаще всего нечем.
Отсидев, дети возвращаются на волю, к нам. Иные неохотно: там, на зоне, было хоть и невесело, зато в целом сытно и тепло, и к ним были приставлены специально обученные люди, которым до этих детей было дело.
А мы? У нас на воле что? Нужны вам чужие дети с плохими привычками, нехорошими болезнями, без желания учиться и работать на благо общества, без наивности, без трогательности, зато со скорей всего темным будущим?
Тут очень важно вот еще что. Никак нельзя сказать, что сегодняшние российские тюремщики – сплошь черствые и бездушные. Они, напротив, часто совестливые работящие люди, – даром что помещены внутрь государственной машины, которая не дает денег на прокорм детей, но при этом не забывает взыскивать с детских зон налоги – к примеру, на содержание милиции.
И тем не менее… Зоны, в которых держат несовершеннолетних девочек – самое страшное, что я видел в этой стране. Формулировка именно такая: «в этой стране». Потому что когда мучат детей, как—то не очень ловко употреблять слова типа «Родина», «Россия» или там «моя страна».
ЗВЕРСТВА
Для начала надо бы вам рассказать про какие—нибудь нибудь страшные преступления, иначе ж вы себя будете чувствовать обворованными. «Все—таки не за красивые же глазки людей сажают, верно?» – думаете вы. Ну ладно, давайте сперва насчет злодеяний…
– 20 лет читаю приговоры, но про такие ужасы, которые дети творили друг над другом, я во взрослых колониях и не слышал. Такие они совершают зверские убийства, что последние волосы на моей лысине дыбом встают! – признавался мне многоопытный человек – полковник Олег Ананьев, начальник Рязанской воспитательной колонии, о которой и пойдет речь. Преувеличение тут явное разве в том, что до последних волос полковнику еще служить и служить…
– Какие именно ужасы имеются в виду?
– Вот, к примеру, девочка в 15 лет убила соседскую бабушку. Между прочим, при помощи родной внучки этой вот несчастной старушки. Зачем?.. А чтоб купить наркотики для мучимого ломкой любимого брата; сама—то она не ширялась, нет. Она так понимала ситуацию, что ближнему надо помогать любой ценой. Так девочке этой дали 9 лет. Три она просидела на Рязанской зоне, а после уехала во взрослую колонию, досиживать. На прощание девочка нарисовала картину, там женский профиль и на густом синем фоне ворона, которая полощет ленту в красноватой луже – про то, что она кровавая, вы сами подумали, я не подсказывал. Картина висит теперь в кабинете у зоновских психологов, ее показывают посетителям, имеющим интерес к изящным искусствам.
А вот сидит юная симпатичная зечка из Екатеринбурга. Вместе с товарищами по дворовой банде она поймала маленькую девочку, затащила в подвал, забрала ключ от квартиры, из которой после вынесли все, что могли. А девочку—свидетельницу убили.
Или вот еще две подружки сидят, у них похожая история. Затащили с улицы шестилетнюю девчонку и зачем—то принялись душить ее удавкой, и уж наполовину придушили. И убили б, если б мать пленницы не подняла тревогу. Она и квартиру вычислила, колотила в дверь, орала, чтоб пустили. А те две негодяйки отвечали сладкими голосами, что у них никого нет. У матери хватило ума и решимости выбить дверь, так что все кончилось хорошо. Теперь вот эти девицы сидят. Ну, легко их жалеть? Этих – точно ведь нет? А выпусти их – так, небось, опять убивать пойдут?
Я там с отчаянными девчонками заводил беседы про убийства. Они охотно рассуждали:
– Убивать вообще легко! Нож как в масло входит. Легко – особенно от злости если! Вот свинью когда режут, это страшно, ей же горло перерезают, – показывает одна девочка на своей шее, – так горло перерезано, кровь хлещет, а она все бегает. А человек – что? Его не страшно убить…
– Все вы врете, небось, сидите за мелкую кражу, а рассуждаете, – лез спорить я. Одни молчали в ответ и смотрели на меня спокойно, другие оправдывались:
– Ну, мы сами лично никого не резали, но уж знаем: это легко и просто. Точно!
РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ
Вообще заключенные довольно легко идут на откровенные беседы. Вопреки довольно расхожему мнению, что зека трудно разговорить, что непросто из него вытянуть рассказ про то, как он дошел до жизни такой. Спроси – все тебе расскажут, ну, слегка только приукрасив.
Вот мой взгляд выхватил из толпы «воспитанниц» блондинку с открытым крестьянским лицом, с голубыми глазами, с печальной улыбкой. Девчонка сидела на лавке под самодельным стендом про Есенина, который сочинял как будто по заказу ГУЛАГа, у него ж старушка—мать, кабаки, спирт, проститутки, вообще беспутная жизнь, – кого ж и почитать на зоне, как не его. Знакомлюсь с девушкой: Света, из Свердловской области.
– Мне 16, а как села, было 15. Чё—то большое у меня наказание – три года. А кому 9 лет дали или 10 по 105—ой (убийство), так те говорят, что у меня – маленькое… Я сижу за рассаду: помидоры и капуста. Своровали мы у бабушки одной. Ущерб всего 420 рублей. Мы хотели продать с подельницей, – ей тоже 16, она тоже здеся. Не то чтоб голодали, нет, так – на сладкое хотели потратить. Следствие долго продолжалось, четыре месяца. Бабку только допрашивали и нас, а свидетелей не вызывали. Потому что их не было. Та бабушка за рассаду обиделась и на суде требовала нас строго наказать. Прокурор вообще ничего не требовал, а адвокат просил дать нам по 3 года лишения свободы. Все и сделали как он просил… Освобожусь – поеду домой, работать буду. Попаду ли еще сюда? Не зарекаюсь, не знаю я…
Любе из Нижнего Новгорода 17. Ей тоже дали три года, по 228—й (торговля наркотиками):
– Из—за цыган сижу! Когда мне было 13 лет, меня мать продала цыганам, и все. А где она сейчас, я не знаю. Так цыгане меня заставляли опиум продавать.
Вид у Любы настолько виноватый, такой несчастный, такой удрученный, что я даже не стал ее расспрашивать – что еще цыгане заставляли ее делать…
А после вдруг подошли ко мне две подружки, попросили их сфотографировать на память. Одна молчит, другая начинает бойко и с какой—то странной и вроде как неуместной тут веселостью рассказывать, не ожидая приглашения:
– Меня зовут Лена, мне 17. Про нашу колонию расскажу. Я сюда попала за преступление – совершила тяжкие телесные повреждения. Раскаиваюсь за это. Попала в колонию в апреле, сначала себя вела плохо здеся. Потом все стало налаживаться. Сотрудники здесь относятся к нам хорошо. Начальник нас как детей жалеет, нам все прощает. Если наказание заслужили, то надо отвечать за него. Кормят тоже нормально. Но я хочу домой. Мама ждет меня дома в Свердловской области.
– А какие ж были телесные повреждения?
– Ну, мы были выпивши, и у нас получилось так, что я подколола, ну, сделала три ножевые ранения – соседу. Он мне был как отец, даже как дедушка, а тут он полез на мою подругу, у меня не было ничего под рукой, попался ножик, ну и… Долго потом отходила от этого, что сделала такое преступление. Мне тогда было 14, подружке 17, а соседу лет 50. Здоровый был мужик!
– А его судили? Попытка же изнасилования…
– Нет, не судили его. Так что я виноватая осталась. Мне на суде сказали, что я могла бы открыть дверь, могла как—то уйти и на помощь позвать. А у меня получилось так, что… А с Катькой, ну, с подружкой, все в порядке. Жива—здорова, пишет письма. Меня посадили, она родила. Я не жалею, что так вышло. Я даже рада, что здесь побыла. Потому что я тут много поняла. Что когда выйду на волю, то хулиганить больше не буду. Пойду по нормальному пути, хочу, чтоб дома у меня все было хорошо.
Вот вам все понятно в этой истории? У вас есть впечатление, что девочка понимает, за что сидит? И второй вопрос: полезет ли она еще когда—нибудь заступаться за слабого?
Ну вот. Одна подружка рассказала, а за ней другая.
– Давайте я тоже расскажу! Меня зовут Наташа, мне 17. Я из столицы Башкирии, прекрасного города. Попала я сюда за золотую сережку. Сделала я преступление в наркологическом состоянии: я на воле кололася. Ну, ханкой. Потому что мне не хватало денег. А надо ж было колоться. Я сняла с подружки со своей золотую сережку и проколола (видимо, по аналогии с «пропила» – прим. авт.) ее. Заложила я ее за 60 рублей. Семья у меня хорошая, мама не пьет, отец не пьет (видите, как легко быть хорошим человеком: брось только пить – прим. авт.). Они работают. Мама в магазине продавцом, а папа ездит в командировку на КаМАЗе. Получают нормально, хватает. А про наркотики они не знали. Ну вот, я сказала, что сережку верну, но сама в этот день не смогла денег достать. Подружка сказала своей маме, мама заявила в милицию, и теперь я отбываю наказание. Когда выйду, буду дома помогать маме, устроюсь на работу. И будет все у меня хорошо. И впредь не повторять таких ошибок, что у меня сейчас. Выйду – думаю, что не буду колоться. Здеся помогают и воспитатели, и Олег Геннадьевич (он как раз в этот момент подошел к нам – прим. авт.), наш любимый начальник. Здесь нам живется очень хорошо. Здесь не очень плохо, но дома—то лучше с мамой.
– Сажи, а вот ты зачем сейчас ко мне подошла?
– Ну, довериться, рассказать. Чтобы девочки узнали о нас и не попадали сюда.
Следующая…
Ира, 15 лет:
– Я живу в Свердловской области (а тут она как бы не живет, а просто сидит – прим. авт.). Скоро я, надеюсь, уйду по амнистии. У меня как? Статья тяжелая, а преступление мелкое. 162—я, разбой с грабежом, но я там почти ни при чем была, только сережки с девочки сняла, 300 рублей они стоили. Это была девочка незнакомая. Главные там парни были большие, а мне тогда 14 было. Три года – вроде много, но по этой статье могли и семь дать… Три – это справедливо.
Оля, 15 лет:
– С Владимирской области. За мягкие игрушки сижу. По 45 рублей за каждую, а за две вышло 90 рублей. Игрушки такие: мишка и собачка. И еще у моей подельницы зайчик. Два года дали. Эх! Да это все потому, что у нас уже была одна судимость, а то мы бы разве сели за такую ерунду? А первая судимость была такая: мы пришли с подельницей к ее тетке, нашли 900 рублей, из них 400 взяли и ушли. Тетка написала заявление, а потом, когда узнала, что это мы, хотела забрать, – а оно уже все, в суд уехало. Ну, и нам по году условно дали.
Зачем игрушки украли? Мы хотели поиграть, они больно красивые. Я говорю – Марина (это подельница моя), давай их на место положим, ведь нас посадят, мы ж судимые. А она говорит: «Ты дура, что ли? За деньги не посадили, а за игрушки тем более не посадят». Справедливо нас посадили? Не знаю. Но могли хотя бы год дать лишения свободы. А никак не два…
Послушав со стороны эту историю про зайчика с мишкой, стоявшая рядом девушка в сердцах воскликнула:
– Да мы тут все за колоски сидим! Просто ни за что!
– А ну—ка, иди сюда, конкретно расскажи про свои колоски, – говорю ей.
– Ну, у меня лично не совсем колоски… Мы в Ирбите Свердловской области ограбили пельменную. Прям днем. Буфетчица отошла, мы в кассу и залезли и взяли 1500 руб. Дали 3 года, это недавно было, я только что села. Если взять в расчет, что я судима третий раз – так срок нормальный. А раньше у меня было условно. За квартирные кражи. Отца нет, мама уехала в другой город, а мы с братом остались одни. Надо ж было как—то жить, вот и воровала.
А несправедливо тут то, что меня одну осудили. А подельница пошла свидетелем. На суде говорили, что это я ее приучила к наркотикам. Хотя я всего ничего кололась, а она аж два года, да к тому ж ей 20, а я—то несовершеннолетняя. Я только начинала ханку колоть. Как уколешься, такое чувство сразу убойное! Расслабляешься, состояние сонное, засыпаешь… Хотя водка, конечно, лучше.
Мой парень мне письма шлет, я семь месяцев с ним на воле жила. Пишет, что любит—скучает, – а что еще можно написать! Еще пишет – дура я, что пошла на дело, он бы дал денег, если б я попросила.
– А что, кстати, со школой у тебя? Ты, я так понимаю, не училась?
– Я восемь классов кончила и ушла.
– Не жалеешь, что бросила?
– Так я зато работала. На рынке торговала: фрукты—овощи.
Вика, 17:
– Я из Москвы. У меня 162—я, разбой, четыре года. Было мне 16 лет. И мы генерального директора ограбили, на проспекте Мира, у него там своя фирма.
– С пистолетом грабили?
Она хихикает:
– С клофелином. А подельнику дали 8 лет. Нам денег надо было сразу много – не скажу на что. А у гендиректора того денег все равно много. Взяли мы 22 миллиона рублей, до дефолта еще. Если честно, это мало. А с тем директором у нас были дружеские отношения.
– Просто дружеские, и все?
– Ну, да. Мой знакомый, мы с его подружкой квартиру вместе снимали, подкинул мысль. Я сначала пошла одна, влила ему в стакан ампулу клофелина, а после подельник пришел. Когда нас приняли (то есть задержала милиция, если кто не понял – прим. авт.), я полностью правду рассказала, не выкручивалась. А он, наоборот, хотел меня скинуть, затопить. Врал и все валил на меня. Говорил, что его там, в квартире, не было вообще, просто я его попросила вещи подвезти. Я первая давала показания, и не знала, что он так по—скотски поступит. Ему даже конвоир в сигаретке отказал, не дал, сказал: «Мне даже стремно, что ты малолетку топишь».
– Мужики что ж теперь, по—твоему, сволочи все?
– Не все, не все! А я ему еще 150—ю отбила – вовлечение малолетних. Сказала, что он не знал, сколько мне лет – хотя он, конечно, знал. Он сам путался в своем вранье, и судья злился: «Ты нас за дураков принимаешь!» А потерпевший так просил, чтоб мне условно дали. Если б подельник меня не топил, условно б и дали, тем более что я мамочка.
– Ты – мамочка?! – у этого ребенка, оказывается, есть ребенок! – Где ж он?
– Он с мамой, – слово «мама» она говорит с любовным придыханием. – Отец мальчика на воле. Пишет… Справедливый срок? Да я б за год все поняла, мне б хватило – во! А сейчас идет просто деградация. Ничего нового понять к тому, что уже поняла, я не могу.
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ
Ирина – из Ижевска, ей 17. Вроде обычная воспитанница, как все. Но все ж не как все. Потому что она взрослая и красавица, она статная, с ней невозможно сразу разговаривать на «ты», как с зоновскими пигалицами. Понимаете, в чем смысл? Там почти все – малые и несмышленые, пусть даже порочные и развращенные, но все еще дети, с детскими же лицами, знаете, такие когда шалят, их бы в угол ставить. И когда тут видишь взрослую высокую девушку с серьезным лицом, так останавливаешься и смотришь, и удивляешься… Причем в этом случае – не только взрослости. Ирина – местная королева красоты: выиграла конкурс! Здесь же, в зоне. Правда, титул у нее не «Мисс Зона», а другой: «Умница—рукодельница». Начальник колонии мудро рассудил, что так будет правильней, – чтоб девочки не зацикливались на внешности и все—таки думали головой. Но на самом деле, хоть было много вопросов про умное и костюмы надо было шить (Ирина была царицей Нефертити), народ правильно понял, кто на зоне всех красивей и всех милее.
На конкурсе еще спрашивали про хобби. На воле у Ирины много чего было – лыжи, легкая атлетика, в смысле бег.
– А здесь что? Наверное, шитье? Хотя шитье – это тут, на зоне, работа…
Ирина – хулиганка. Не в вольном, не в игривом смысле слова, но в уголовном, пенитенциарном. Статья 213, 4 года. Что так?
– Пришли мы с подругой на дискотеку, трезвые. А там была еще одна девчонка, она выпила, ее поведение вульгарное нам не понравилось, и отношение к нам тоже не понравилось. Можно сказать, что мы поссорились. И мы ее побили.
– Вы что, ее покалечили?
– Нет.
– Ну, так тогда 15 суток должны были вам дать? А тут – четыре года…
– Мне и самой кажется, что многовато.
– Адвокат был у тебя?
– Был. Дежурный адвокат. Что говорил? Да ничего хорошего. Что он мог сказать, бесплатный адвокат?
Ирину ждут дома.
– Мама уже на пенсии, она в горячем цеху работала, вредный стаж. Посылки шлет каждый месяц. Есть сестра младшая. Пишет про то, как живет, о подругах, что скучает, любит, ждет. Жалеет ли меня? Она знает, что я не люблю, когда меня жалеют, потому ни слова про это. Друг пишет. Что у нас с ним было? Думаю, это была настоящая любовь. Но дождется ли? Не уверена: четыре года – это много…
Чем после освобождения займусь – еще рано думать, сидеть еще немало. Но я точно решила, что не вернусь к прошлой жизни. Я жила как вся молодежь – пьянки—гулянки, вот дискотеки.
Тут, на зоне, Ирина взялась за ум и сделала карьеру: ее поставили бригадиром – как ответственного человека. 50 человек в подчинении.
– А что у вас тут самое—самое? Самое важное, самое главное?
– Самое веселое тут – праздники. А самое памятное – конечно, этот конкурс. Самое тяжелое – это разлука. С родными, близкими, любимыми. Остальное можно пережить, а это… Если б я вечером могла к ним выходить. Или хоть остаться в своем городе, чтоб они хоть иногда приходили – было б намного легче.
БЫТ
Вот они идут в столовую, на обед, строем. В серых линялых тертых телогрейках, в бледных платочках, а ботинки, ну, у каждой сбитые, стоптанные; в Москве такие выставляют к мусоропроводу.
Какие с виду воспитанницы? Они почти сплошь, как уже сказано, девки малорослые, низенькие, мелки юные зечки – как семечки. Ноги почти у всех короткие, как у Мерилин Монро. Одни – просто как карликовые женщины, их через одну можно брать в цирк лилипутов. Другие – если б не знать, что моложе 14 тут никого нет и быть не может, так с виду просто первоклашки…
Лица. У кого порок на лице, у кого глупость, или даже тупость, или чистота с наивностью. Есть взрослые лица, и взрослые женские взгляды, которые они навешивают на тебя. На иных лицах написано такое, что и спрашивать не тянет про статью. Немало, кстати, таких лиц, скажу я вам. Еще про лица: у многих кожа серая, несвежая, в прыщах – а чего ждать от жизни в нищей казарме…
Ну, вот топают они…
– Здрасьте, – как бы к ним обратиться, думал я. «Красавицы»? Но это слово мало кому подходило. Как же их назвать?
… – дети! – завершил я фразу.
– Здра!!! – почти хором ответили они с той интонацией, с какой солдатики орут «здра—жла—тва—сршна».
– Что на обед сегодня?
– Да капуста…
– Откуда знаете?
– Так всегда капуста. А хочется каши какой—нибудь…
Точно, капусту им в тот день давали. А как—то, помню, на обед был суп из крапивы, «крапивка» его тут называют; и перловка со следами тушенки, чай, и еще приличный, если так можно выразиться, ломоть чернухи.
Официально детей кормят из расчета 3 рубля 88 коп. На самом деле деньги, конечно, задерживают, и к тому ж не накормишь ребенка на эти копейки. Дети сами себя кормят, они живут своим трудом. В колонии натуральное хозяйство, там коровы, свиньи, куры, там огород, там пекарня и даже макаронный цех.
– Не надеемся мы на государство, – объясняют офицеры.
Главная детская работа – это швейный цех. По меркам Рязанской области зарабатывают там сносно: рублей по 200 в месяц. Один—два раза в квартал бывает ларек, то есть можно купить каких—нибудь пряников. Чаще не получается – зона ж вся в долгах, а расчет за пряники идет по безналу. Оно, может, и лучше так: к освобождению на счету может скопиться несколько тысяч.
На что еще там можно тратить? Комната свиданий стоит 54 рубля в сутки. Правда, если денег нет ни у визитеров, ни у воспитанницы, платит общественный фонд. Это что такое? А скидываются все, и после голосуют, как тратить. Вот сейчас будут рассматривать заявление. «Прошу выдать на ремонт зубов 1911 руб.», – просит одна девочка. Ей скоро выходить, а куда ж на воле без зубов… Так ей, может, и дадут – в фонде накопилось уже 16 000 рублей.
Жизнь зоны чужому совершенно непонятна. Это как заграница, как Китай какой—нибудь. Не сразу сообразишь, не сразу отличишь хорошее от плохого, и необходимое не с первого взгляда заметишь. Вот при мне приезжали посторонние, ходили, смотрели, а после с мокрыми глазами и пафосом в голосах обличали офицеров:
– Да что ж вы детей мучите?! Зачем зверствуете? Как же можно сестер держать в разных отрядах? А беззаконие зачем? Это ж несовершеннолетние! Ладно, они шесть часов в день в швейном работают, но вы не имеете права их после этого еще на два часа на полевые работы отправлять! А жетон давать при выходе в туалет, это еще зачем такое издевательство? Жетонов мало, и вот сидит девочка ждет, когда ее очередь подойдет… А колготки почему у всех черные, похоронные какие—то, это ж девочки!!! А брюки, брюки вы почему им не разрешаете носить? Лишь бы поиздеваться, унизить!
Вот ужас, а? Работа в зоне – это не для слабонервных. Добрых людей в России вон полно, чуть не каждый первый; но из них не каждый делает хоть одно доброе дело в месяц. Хотя – если считать добрым делом ор про справедливость…
От полковника Ананьева я не слышал разговоров про то, что он добрый, а мир устроен неправильно. Он человек строгий, жесткий, но спокойный, и на обличения, хоть они ему неприятны, отвечает без нервов. Но обстоятельно и по пунктам.
– Так. Что там первое? Разлученные сестры? Одна из них сама попросила ее перевести в другой отряд. Мы, говорит, дома каждый день дрались, хватит.
Второе про КзОТ, так? Да, полевые работы – сверхурочно. Но это разве труд? Это ж на себя. Раз мы все в таком государстве живем, что дети вынуждены себе на тюрьму зарабатывать… Я их обязан кормить, и я их кормлю.
Далее. Жетон в туалет. Вы зря думаете, что у нас тут обычные нормальные дети… Они все—таки совершили преступления. Нужен контроль. Среди них немало убийц. И самоубийц – если б вы полистали личные дела, то немало б там нашли про склонность к суициду, и попытки у многих были. А у нас швейное производство, там ножницы, это ж оружие. Так жетон выдают в обмен на ножницы. Вернулись из туалета – сдайте жетон, получите обратно оружие, то есть орудие, производства.
А за нарушение формы одежды наказывали и будем наказывать. Спортивные штаны – только на спортивных мероприятиях и на хозработах. Потому что у нас есть девчонки с… ну, с направленностью мальчишечьей. Это у вас там, в Москве, к лесбиянкам привыкли, а представьте себе, как к ним отнесутся в глухом поселке, в деревне? Жизнь у них и так непростая, не надо ее усложнять без необходимости. Впрочем, фактов лесбиянства у нас не зафиксировано. Так, симпатия платоническая имеет место… Что там еще?
– А черные колготки – это мода такая в зоне, – радостно отвечает заместитель Ананьева – подполковник Лена. Приятно, конечно, когда на зоне могут себе позволить такое – следить за модой. И в состоянии даже выбирать цвет колготок.
– Ну, ладно, ладно. А наказываете вы как? За то же нарушение формы?
– Ну… Выговор объявляем. Психолог беседу проводит. Лишить просмотра кинофильма можем. Обсуждение на собрании устроить.
– Да? А вот у вас бывают – девчонки жаловались – случаи, когда одна провинилась, а наказывают весь отряд. И весь отряд на плацу занимается маршировкой. Это неприятно! И к тому ж групповое наказание обозляет людей.
– Я сам противник этого, – отвечает полковник. – Это мы разберемся. Говорите, за производство наказали, что план не выполнили? Это исключено. Но я буду разбираться.
Разбираться им там непросто. На одного воспитателя приходится 30 маленьких зечек. Там мечтают, чтоб было хоть 15.
– Да… Хотя – точно, неплохо тут у вас. Девочки все—таки держатся свободно, мордочки у них веселые, – остывают проверяющие дамы.
– Это у нас как бы даже и не колония, а интернат закрытого типа, – дает полковник свое видение вверенного ему мира. – А после они куда выходят? Здесь они сыты, обуты, одеты, под присмотром, не пьют, не курят, про наркотики и речи нет. А там, у вас, на воле, что вы им приготовили? Кто у вас там будет о них заботиться?
Это может показаться странным, но для кого—то из детей попасть на зону – это просто счастливый билет.
– Первые месяцы наесться не могут! Многие тем, что сели, спасли свое здоровье и свою жизнь. Просто повезло девочкам… – рассуждают тюремщики. – Детдомовские у замполита на особом учете. Мы их сами подпитываем. Зубную пасту надо? Конвертик надо дать? Мыла надо? Да не только хозяйственного, а иногда и душистого хочется! А сирот тут сколько? 165 из почти 500 воспитанниц.
Вообще полковник – просто железный человек, который не боится ничего и ставит перед собой задачи совершенно наполеоновские.
Вот, например, такую ставит он задачу:
– Мы их тут так стараемся воспитывать, чтоб они могли положительно влиять на взрослых, которых встретят после освобождения.
Ну, как вам? Впору перед полковником Ананьевым снять шляпу.
Странно: попав на зону, люди набрасываются на книги. Тут 300 активных читательниц, это из 500—то человек! Ничего удивительного. Так мы копим детективы и после их читаем в экзотической обстановке, валяясь на пляже. Вот и они так на зоне, библиотекарша рассказывала, тоже всякую фигню читают: те же самые детективы, да еще, само собой, дамские романы и либретто мыльных опер, – им нравится красивая жизнь и романтические отношения. Хотя и про этику с психологией тоже любят, и кулинарные книжки хорошо идут: тут модно рецепты списывать в тетрадки. Или вовсе вырезать – так что листы при возврате пересчитывают. Кроме рецептов, Герцена берут, Достоевского, «Преступление и наказание» какое—нибудь. Не из тяги к классике, не в поисках надуманных ответов – а просто это ж в школьной программе, и экзамены будут в зоновской школе.
Книг тут 12 000 томов. На любую статью хватит! В смысле – статью УК. Даже за максимальный срок столько тяжело осилить. Он и пролетит быстрей, когда легенькими текстами забьешь голову и отвлечешься от постылой реальности. А с настоящими нужными книгами – беда. Про что это я? Да про учебник, каким бы он ни был, литературы для 11 класса. Один он тут на всех. Выпускницы приходят перед экзаменами и переписывают от руки.
Библиотекарша оправдывается:
– И учительница у нас малообеспеченная, у нее только один учебник – для себя…
Еще о литературе. Тут не только читают, но и пишут. С некоторых пор зечки стали писать извинительные письма потерпевшим. Пишут жертве, а если жертву они же сами и убили, то тогда родственникам покойников.
– Странно как—то, а? – сомневаюсь я.
– Зачастую это искренне, – уверяет меня полковник. – Поскольку, когда сам читаешь, то просто подступает.
Так хороши ли такие письма, правильны ли? Небось администрация сама и придумала их писать, и заставила детей? Может, и так. Но вполне может оказаться, да иногда буквально так и выходит, что с ребенком именно на зоне в первый раз поговорили по—людски и объяснили, что в жизни хорошо и что плохо. И теперь этот запоздалый упрощенный урок закрепили письменно для лучшего усвоения…
РАДОСТИ
А они тут вообще бывают, на зоне—то? Да, конечно. Взять хоть день рождения. Имениннице вообще разрешают такую вольность, такую роскошь, как макияж. Такой подарок судьбы: можно накраситься! В столовой весь отряд стоя поздравляет подругу и говорит ей приятные слова. А в клубе день именинника – каждое воскресенье. Там уж и вовсе самодеятельность выступает в честь виновников торжества. А однажды даже курсанты из десантного приезжали. И дискотека была! Или так: если у зечки кто—то умер в семье, то ей дают отпуск. Не в том смысле, что она поедет на родину на похороны, нет. Просто на три дня от человека все отстанут, и никто его не будет ни в швейный цех слать, ни на уборку овощей, ни на построение.
– Есть же еще газеты! – спохватываются воспитанницы. – Наши дают туда объявления, ну, что желают познакомиться. Нескольких девчонок встречали, когда они выходили на волю, и сразу замуж. Чаще, правда, попереписываются, и все – ну, это как в жизни.
Ну, не обязательно ж сразу замуж. Полно других радостей. Вот одна девочка учится в техникуме, так ее выпустили на сессию! Сдала – вернулась обратно…
А вот недавно приезжала в гости Катя, бывшая первая красавица зоны. Соскучилась! Зашла в отряд, подошла к своему бывшему месту и ностальгически, рассказывают, гладила свою бывшую кровать. Она сейчас продавцом в Москве. Вышла в люди! Ей, рассказывала, нелегко – понятно, красавица же.
Вообще тянет сюда бывших воспитанниц. Вот одна девочка отсидела – и не захотела уезжать. Осталась, работает завклубом зоны. Приличная карьера – попробуй она такую на воле сделать со своей биографией. Другая девочка, Настя, напротив, уехала и пишет: вернулась в Нижний Новгород, поступила в христианский колледж. Тоже завидная карьера!
– Наши выпускницы даже в МГУ учатся! Ну, правда, одна всего… – хвастались воспитатели.
И это, уверяли меня в зоне, не редкость, когда человек встает на путь исправления, а это – правило! Рецидив после отсидки тут – всего 15 процентов. При том, что в среднем по России – аж 45—60 процентов. Есть же разница? Видны результаты усилий?
В день легкой промышленности – тут же все швеи – торт дают лучшим. Каждой по торту? Нет, два торта на бригаду, а в ней ни много ни мало 50 человек.
На новый год подарки: мягкие игрушки, шоколад.
– Немцы приезжали с гуманитарной помощью, – вспоминают дети. – А еще Филипыч – это баптист – подарки привозил…
При мне привезли пару ящиков хозяйственного мыла. Так воспитанницы были просто счастливы.
– Это для стирки? – спрашиваю.
– Какой там стирки! Моются им, – честно отвечает дама—офицер.
А вот выгружают – и переписывают, так положено – ношеную одежду. Это французское посольство прислало, «на освобождение» – не в тюремных же телогрейках выпускать людей на волю. А вот тут же надзирательница в штатском, так у нее пальтишко победней, чем эти присланные старые куртки. И это как—то не очень естественно, это как бы не вполне справедливо – все—таки у полковницы должно быть получше платье, чем у зечки…
ЗДОРОВЬЕ
Что за публика тут собралась, то есть собрана? Ну, понятно, что там трудное детство и все такое прочее, это знание заранее кажется скучным и лишним, – ну, чего там может быть нового? Запущенные дети, вот и все, а что со здоровьем у них плохо, ну, так кто сейчас вообще здоровый…
Но статистика тут очень мощная. Смотрите.
Каждая вторая девочка изнасилована.
Каждая третья пыталась покончить с собой.
Каждая третья – наркоманка.
Три из четырех – на учете у психиатра.
У двух третей – психогенная аменорея, проще говоря, остановка месячных ни с того ни с сего. То есть это как бы не жизнь, жизнь вроде остановилась, замерла, люди не живут, а пережидают, существуют, прозябают…
У каждой шестой – сифилис.
– Может, и другие какие болезни из этой серии, а какие – неизвестно … – объясняет зоновский врач.
– Что значит – неизвестно? Анализы же можно сделать.
– Мы в нашей лаборатории на том оборудовании, что есть, в состоянии только гонококк и трихомонады определить, и все. А чаще так: смотришь – воспаление, похоже на инфекцию. Даем антибиотики, воспаление проходит – вроде как вылечили…
– А в город что, нельзя свозить больных, чтоб там сдали анализы?
– В город? Так там же все платное! А тут на мыло денег не хватает…
Я всякий раз вспоминаю эту беседу с зоновским венерологом, видя на обочинах московских дорог веселых девиц в мини—юбках…
ЗДРАВСТВУЙ, СПИД!
А процент СПИДа – подтвержденного, гарантированного – тут низкий. Всего—то четыре случая на 500 человек. Это ничтожно мало – все инфицированные помещаются в одной камере.
– Они у нас хорошо живут. Кто ни приезжает, все к ним, да с подарками, – добродушно рассказывают воспитатели. И, пользуясь случаем, хотят получить от новых людей ответ на свой вопрос:
– Интересно – почему так?
– Ну, может, людям хочется, чтоб обреченные напоследок себе ни в чем не отказывали? – предположил я.
У кого СПИД, те отдельно от прочих. Они не в отряде, а в санчасти. Их выводят в зону редко – если кто приедет с концертом. Для них каждый выход в зону – это праздник; вот как оно может в жизни выпасть!
Палата санчасти – обычная камера. В ней разве только жара страшная, так натоплено (а на Дальнем Востоке люди буржуйками греются); но можно форточку открыть.
И тут вот какая неожиданность подстерегает нового человека: девушки с виду пышут здоровьем, у них нормальные лица приличных людей, вдобавок к этому они еще и веселятся, и шутят! Странно, что те, которые со СПИДом – самые бойкие и бодрые на всей зоне. Веселые! И вид у них не потерянный, а ухоженный.
Камера вся заставлена самодельными вязаными куклами – их тут от скуки вяжут и дарят знакомым, передают на волю…
Телевизор тут давно. А недавно одной родители прислали магнитофон, так теперь и музыка есть.
– Откуда ж у вас СПИД? А сюда как попали? – спрашиваю.
Первой отвечает Настя:
– Это все от наркотиков. Друг кололся, и я начала; героин. Кайфа—то и не было, так, чешешься, уходишь в себя. Психика нарушается ужасно: плаксивость начинается, за душу все берет. Не нравились мне наркотики, они мне надоели ужасно – но что тут сделаешь? Как—то началась у меня ломка, я пришла в школу, взяла чью—то дубленку и пошла сдавать, договорилась за 500 рублей. Но пацаны—наркоманы меня кинули; вышло, что и деньги пропали, и ломка осталась, и в милицию на другой день попала. Надо же – у меня в школе столько курток украли и сменку, и ничего, а меня вот взяли…
А родителям я еще раньше рассказала про свою жизнь ужасную. Хотите фото их покажу? Мама у меня – в профсоюзах, а папа обычный работник, слесарь. Он очень сильно переживал, вплоть до самоубийства. А мама сильная. А это на фото кошка моя – белая пушистая.
– Какой ты себя видишь через 10 лет?
– На машине я себя вижу. И фирма у меня своя. Ну, и с коляской, конечно. В общем, светлое будущее. Мама обещала: выйдешь, будешь учиться – компьютер тебе куплю.
А Таня вот что рассказала:
– Я тоже раньше хотела быть журналистом. Но вот посадили… Статья у меня 228—4, распространение наркотиков. Только я не продавала, меня подставили. Обидно так ни за что четыре года сидеть. А подставил один мой знакомый, взрослый, ему лет 28. Таких как я из—за него много село – человек 100. Ни за что сижу? Так нельзя сказать. За мной было кое—что, мне есть за что посидеть. Но не за то, за что посадили. Бывало, сворую что—нибудь, – правда, не пойман не вор.
Но – был бы человек, а статья найдется.
А заразилась я от шприца, от чего же еще?
– А еще, знаешь ли, это передается… э—э—э… половым путем. Даже неловко тебе говорить.
– Да, но так только в 30 процентах случаев! Да и партнеров не так уж много у меня было. И презервативом я пользовалась всегда. Ну, почти всегда.
Про презервативы она говорила хихикая и глядя в пол: я ж мужик, а ей 17. Вот – грубо влез в девичью душу…
– Все—таки 70 процентов – через шприц, – она стоит на своем. – Бывало, деньги есть, а некогда сходить за шприцом. Кололи мы героин и винт. Сначала для удовольствия, а потом просто чтоб ломки не было. Я пыталась пить водку, когда бросала наркотики. Просто так я не могла бросить, чтоб ничего не употреблять – так я не могу. А водка, кстати, не лучше… В тюрьме ломка быстро проходит. Смиряешься – а что сделаешь? Тут же ничего не дадут… Тюрьма – самое лучшее средство от наркотиков! – смеется она. – Могло быть хуже. Если б я сюда не попала, меня б не было. Передознулась бы обязательно. Мне родители давно говорили: «Тебе, Тань, надо посидеть в тюрьме». Так—то они все перепробовали, везде меня лечили. А что лечение? Ломку снимут, и все. Не захочешь сам – не бросишь. Папа у меня…
– Ученый! – шутят соседки по камере.
– Фрезеровщик, – не откликается на шутку она… – А мама повар. Брат у меня не работает вообще, он пьет. Через 10 лет какой себя вижу? Слушайте, я завтра не знаю, что будет. Хотя… Может, лекарства будут от СПИДа и семья у меня. Вы в Москве когда будете? Вы сможете моим родителям позвонить и сказать, что у нас тут все нормально?
Представляете, сидит человек дома, пьет чай, а ему звонят и говорят:
– Алле, ваша дочка – ну, та что сидит за торговлю наркотой и у которой СПИД – так она просила вам передать, что у нее все нормально.
Что у кого нормально? Кто нормальный?
ИДЕОЛОГИЯ: СССР ПРОТИВ ШАРОН СТОУН
– Почему у нас все так? – спрашивает полковник Ананьев. И любезно предлагает:
– Хотите, могу коротко изложить свою точку зрения на это? Так вот. Главная причина роста молодежной преступности – это теперешняя экономическая ситуация. Занятость несовершеннолетних низкая: рабочих мест мало, бесплатного образования на всех не хватает. В стране вообще нет молодежной программы. И вот в тюрьме подводятся итоги такой воспитательной работы…
Из каждых наших трех воспитанниц две до осуждения нигде не работали и не учились. Они были бесхозные. А кто—то работал, но неофициально, и судьи ему вкатили полный срок как бомжу… Такой же процент – 67 – участия воспитанниц в преступных группах на воле. Воровать они шли по очень простой причине: от голода, чтоб прокормиться. Больше 80 процентов наших заключенных – из необеспеченных семей.
И, наконец, такая причина: разнузданная пропаганда насилия, секса и порно в СМИ. Что не нужно, девушкам дают, а что нужно, того не дают. Если они что—то увидели по видео, так им кажется, что это норма. Раз показывают, значит так надо – таков уж детский ум! Мы—то критически относимся, а дети? Смело принимают на вооружение!
Полковник таких детей очень плотно наблюдает, у него их тут не один—два, как у вас, а 500 человек, материала хватает для выводов и обобщений. Но тем не менее…
– Не может быть, чтоб вот прям так: увидели в кино – и побежали воплощать в жизнь! – сомневаюсь я.
– Я вам говорю, так оно и есть! – настаивает он. – Вот одна девочка совершила преступление, посмотрев видеофильм. Она нам сама призналась, и нас это потрясло. Между этой девочкой и ее другом завязалась сексуальная игра, так она ему – как героиня Шарон Стоун – связала руки и изрезала его ножом.
Я уж не говорю про отсутствие градостроительной программы, когда не предусматривается строительство детских и спортивных площадок, про отсутствие у молодежи возможности бесплатно пользоваться средствами организованного досуга.
– Да, все, что было при советской власти и чего теперь нет…
– Заметьте, это вы сказали, не я!
– Ну, да… А с советской статистикой вы не пробовали сравнивать?
– Не пробовал…
СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
«А может, взять их всех да выпустить, ну, кроме убийц?» – типичный позыв новичка. Понятно, что это было бы незаконно, – так ведь еще и бессмысленно. Ведь почти половина зечек имеют условные судимости. То есть один раз их уже фактически выпустили, и ничего хорошего из этого не вышло. По мнению офицеров, получается так:
– Сажают, когда другие меры исчерпаны. Суд решил, что на воле они будут и дальше совершать преступления – раз они не учатся и не работают, и раз ими родители не занимаются…
Ладно, допустим, кого—то тут просто спрятали от еще больших неприятностей. Но сроки—то какие огромные! Три года, пять, сплошь и рядом такое – и это за кражу… Особенно зверствуют суды в Мордовии, Башкирии, Чувашии. Там детей судят как взрослых, безо всяких поправок и поблажек.
– За что детям такие сроки? Зачем же расширять этот несчастный ГУЛАГ? Это что за государство такое? – совершенно по—гражданскому, по—человечески спрашивает меня Ананьев. Он не хуже штатских психологов, не хуже иностранных криминологов знает, что маленькие сроки – эффективны, а после трех—четырех лет отсидки человек только тупеет, он привыкает к тюремной жизни и уже ее считает нормальной, а воля ему больше и не нужна.
– Справедливо наказание или нет? – риторически спрашивает полковник Ананьев. – Это не к нам вопрос. У нас другое: нам кого дали, мы с тем и должны работать, – он совершенно прав, но при этом не может удержаться от замечания:
– Но мое личное мнение такое: я б их не хотел в таких местах видеть.
Ну, вот сидят они. Вопросов у них полно: справедливо наказание или нет, можно ли поскорей освободиться, есть ли смысл писать жалобы и ходатайства. А спросить некого: адвоката в колонии нет ни одного. Вот дикость! Хоть один—то должен быть на 500 заключенных детей? Нету… Ездили в Рязанскую коллегию, приглашали: может, хоть раз в месяц бы кто приезжал. А там сказали, что прошли те времена, когда люди работали за бесплатно.
– Может, студенты согласятся помочь?
– Звали их, – но они такие консультации дают, что потом долго приходится расхлебывать.
Полковник жалуется на дискриминацию, ругает некий приказ за номером 13. Этот приказ предписывает взрослым выдавать в день полкило хлеба, а детям – всего 315 граммов.
– Чем же так провинились малолетки? У них же идет формирование организма, им питаться надо хорошо… По нашим условиям, так хоть хлеба вволю дать! Я в 1999 году на свой страх и риск поднял нормы, стал детям полкило хлеба давать. Так была ревизия, и мне строго указали на перерасход по хлебу на 3500 рублей. Сказали, что я нанес существенный ущерб государству.
Мы на картотеке с 1996 года. Государству должны 5,5 миллиона рублей. Правда, оно нам должно было только в прошлом году дать 8,5 млн. Давайте, говорю, взаимозачет проведем! Но ГУИН обижается, так не бывает, чтоб начальство было должно подчиненным…
А бывает ли сейчас такое, чтоб сидели ни за что? Конечно! Таких, по разным оценкам, около трети. И все это знают. Но никто не жалуется и не требует пересмотра дела:
– Взрослые подставили, запугали, и я все взяла на себя. Если я тут что скажу, так потом на воле открутят голову. Уж лучше я отсижу…
В Рязанской колонии таких детей человек 150. Урок, видите, они получили замечательный. Сколько б после этого взрослые не врали про всякий закон—шмакон, это пустое – теперь ведь этим детям известно, как устроен этот мир и какие в нем действуют правила. Мне кажется, иногда я узнавал таких – может, это были те самые, с потухшими глазами – которые просто раздавлены и сломлены, и будут теперь тоскливо доживать оставшиеся годы, и никогда больше не поднимутся. Все. Конец.
Они не все там дуры. Они умные девочки. Их непросто обмануть, – чувствуют они, твердо знают, что не нужны стране…
Я как—то приехал туда перед новым годом, спрашиваю:
– А Дед Мороз бывает тут?
– Ну, да, в клубе… Но только он не настоящий, это наши девчонки переодеваются. А настоящий Дед Мороз – он сюда разве заедет?
Разговаривали мы в столовой, у них был обед. Они ели суп.
– Хотите попробовать? – и протягивают мне ложку. Противно было даже смотреть, даже думать про нищий этот суп. Но они смотрели мне в глаза. Я—таки попробовал.
Колом у меня в горле встала эта серая тюремная баланда, которой мы кормим русских девочек.