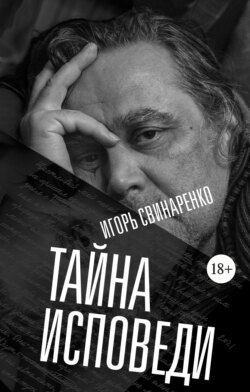Читать книгу Тайна исповеди - Игорь Свинаренко - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 14. Второе убийство
ОглавлениеМне все-таки не терпится рассказать про убийство моего второго немца. Раз уж я начал про это разговор. Деяние это я совершил в Германии. Впрочем, так ту страну при совецкой власти не разрешалось называть, это считалось чем-то подрывным. Нас вынуждали говорить – DDR, в смысле ГДР. Туда я заехал студентом-германистом.
Надо сказать, что эта психиатрическая тяга ко всему немецкому не отпускала меня с нежных лет, когда я воображал себя серийным убийцей немцев. Увидел – убил, увидел – убил, и так далее, до достижения чувства глубокого и полного удовлетворения. Такое если залезает в мозг, то избавиться от навязчивой идеи трудно. Особенно если избавляться и не особо хочется. Я пытался чем-то отвлечься, переключиться на что-то. Вынуждал себя думать о каких-то других ремеслах. Ну вот строителем разве плохо быть? Это же прекрасно – из ничего выстраивать что-то прекрасное или, на худой конец, нужное людям! А разве это не роскошь – быть шофером? Нежный запах разогретого на солнце кожзаменителя. Легкий, волшебный аромат невесомых бензиновых паров. Фантастические панели приборов, которых вообще-то могло быть и побольше, не как в самолете, но всё же, всё же. Мне трудно было определиться, что я люблю больше – когда руль белый или когда черный. Последний казался более мужественным, а белый – изысканным, как жираф. Само собой, ручка переключения передач – непременно чтоб на рулевой колонке, ведь когда в полу – это некое низкое плебейство уровня грязного рейсового автобуса.
Или взять рисование. Меня, да, волновал запах карандашей, наверно, кедровых. А еще – красок, и мокрых, и высохших. Шершавая, белая, толстая бумага меня тоже возбуждала. Я чиркал по ней остро отточенным карандашом – прежде самолично срезав лишнее деревянное опасно острым сапожным ножом, а еще раньше долго возил этим клинком по сперва шершавому бруску, после – по гладкому крымскому камешку, подобранному на пляже в Ялте, – я как будто улетал из тусклой поселковой действительности в горний сверкающий мир, где полно всякой духовности и торжествует любовь к высоким искусствам. Но даже оттуда, из сфер служения музам, меня грубо вытаскивала эта вот моя немецкая тема. Какие-то картинки, кадры из хроники, где бойцы вермахта в угловатых касках, со «шмайссерами» в руках, рукава кителей закатаны, идут куда-то тяжелой поступью или на привале хохочут, запрокинув головы, – это всё в зародыше убивало мысли про мирную жизнь. Ну я и перестал сопротивляться и отдался воле течения, совершенно не понимая, зачем это мне и как я с этим буду жить дальше…
И вот – to make a long story short – я учился-учился, и в какой-то момент непонятная сила, невидимая рука провидения забросила меня в, как я для себя называл ту страну, Рейх. И там – опять пропускаю подробности, о которых, возможно, еще расскажу – я в один прекрасный вечер оказался в пригородной пивной. Я часто ходил на той чужбине по разным заведениям, не только с целью выпить-закусить, но и – подтянуть язык. Вот пиво и шнапс, и сосиски, и кто-то с соседнего столика заводит с тобой разговор, и мы с этим немцем начинаем по очереди заказывать по паре рюмок, одна ему, другая мне, и ведем какие-то пустые беседы, и вот уже я записываю себе в блокнот новое словцо. Мы рассказываем анекдоты и смеемся.
Я приходил в пивную обычно один – если позвать кого из своих, то начнется чисто русская беседа, а такие можно будет вести после в Союзе. (Так великий, но подзабытый Юрий Казаков, «автор нежных дымчатых рассказов шпарил из двустволки по гусям», путешествовал по русскому Северу в одиночку, чтоб без помех разговаривать с туземцами-поморами, а возьми он с собой кого из коллег, то пришлось бы с ними спорить про дележку переделкинских дач и прочую ерунду.)
И вот однажды в ночи после такого лингвистического мероприятия я вышел из, как сейчас помню, Marienbrunn, что в Lossnig, – и вдруг наткнулся на двух крепко пьяных мощных ребят из местных. Они перегородили тротуар, один из них сильно хлопнул меня по плечу. Узнали во мне иностранца. Как? По походке, по глазам. Я всегда угадывал своих по некоему беспокойству, напечатанному на совецком лице. Вот нету у наших этой вот европейской беззаботности. Совецкий человек держится так, будто в любой момент ожидает подзатыльника. Но чем был им плох я, иностранец? Поди знай. Может, это была та же схема, по которой подмосковные гопники ездили в центр столицы и там били хиппи или таджиков? Понаехали… Или – как к бабам пристают (я, да, и я когда-то приставал, но – безобидно, деликатно). О эта тема – драки с местными! Старинная народная забава. Я был ко всему готов: и к разбитой губе, и к сломанному носу, и к синему густому фингалу – впрочем, и к победе тоже, на которую было немного шансов, но они таки имелись. Что тут такого? Обычная рядовая драка, всё спокойно, без фанатизма. Но вдруг! Меня внезапно накрыла некая мощная волна: я осознал, что меня будут бить не просто рядовые хулиганы с окраины – но немцы! Немцы? Меня? Уклониться от боя было невозможно, после того как они обозвали меня пидарасом (schwul). Я как сейсмолог уловил толчок в мозгу, в его студне что-то дернулось: так бывало у меня всегда при отключении самоконтроля, это не вспышка безумия, как мне когда-то представлялось, но просто бросок в сторону от рационального, во тьму подкорки. Это когда человек уже отпихнул в сторону инстинкт самосохранения, но котелок у него всё еще варит! Я прочел свою мысль, которая светилась в мозгу бегущей строкой: «Никогда! Немцы! Не будут бить меня! Ни-ког-да! Просто этой ночью или они убьют меня, или я их! Кого-то из них! Не смогу бить – ну горло перегрызу! Но такому не бывать, чтоб они меня просто побили!!! Немцы!» Надо сказать, что меня самого это сильно удивило. Никогда прежде не было у меня такого накала, до такой степени щасливого жара агрессии – ну, максимум, отмечал я в себе готовность ударить противника носком ботинка в лицо. Но – убить? Это было что-то для меня новое… Тут дело, может, в том, что раньше я всегда дрался только со своими! Никогда в уличных боях мне не встречались германцы…
Они тоже, видать, засекли, запеленговали эту мою волну, какими-то живыми приборами. Собачьим – точней, песьим, чутьем. Это было по ним заметно. Один так и вовсе отступил на шаг назад. Второй всё еще стоял на месте, глядя мне в глаза. В свете фонаря я видел его бесцветные глаза и жидкие усики. Алкоголь во мне дорисовал к несимпатичной физиономии летнюю пехотную Mutze и этакое как бы пенсне, на самом деле очки, как у Джона Леннона, но уменьшенные, типо детские…
Немец, кажется, готов был уйти от драки, но ему, как мне представлялось, хотелось спасти лицо, и он продолжал стоять передо мной… Он всё еще стоял – а я поймал себя на том, что рву на своей груди дорогой батник от фарцы, buttons down, за неимением гимнастерки и тельняшки. В этот же самый момент я увидел, как тот, второй, отступивший на шаг, развернулся и побежал, сначала медленно, а дальше – всё быстрее и быстрее. А первый фашист (ой, пардон, немец) замахнулся, чтоб все-таки ударить… Мне по этому движению руки сразу стало понятно, что он страшно далек от бокса. Пока он тянул свой замах, я успел коротко ткнуть его в подбородок. Он покачнулся, но не упал. Второй мой удар – я немедленно удивился своей странной жестокости – таки свалил его, и он с размаху упал затылком на бордюр. Сколько раз тренер нам, пацанам объяснял, чтоб мы не дрались на улице, потому что нечаянно можно ведь убить человека, после слабого удара он может удариться о бордюр, бордюр, бордюр… Проклятый бордюр… И вот! Под головой сраженного немца начало быстро и мокро темнеть, и эта лужа поблескивала в свете луны и фонарей. Мне сделалось легко и весело. «Вот радость-то», – поймал я такую вот свою мысль. Вторая же была полной противоположностью первой: «Как это всё нехорошо!» И стало страшно.
Это был самый свежий, самый симпатичный и самый по-человечески теплый труп из всех, что я видел в жизни. Все прочие после были в ленинской – ну или мадам Тюссо – стилистике, этакие восковые фигуры, которые, прежде чем их взяться выставлять за деньги, нарумянивают и переодевают в чистое, приличное.
Я был сильно пьян, в голове крутились лопасти вертолета, хотелось блевануть, я утешал себя строчкой, которую прочел на стене университетского сортира: «Hitler – Scheisse, aber das war schone Zeit!»[1] Раз так, пусть отвечают, а то заладили: «Ах, я ни при чем, я лично никого не убивал, а мой дед-фронтовик давно умер, тема закрыта! Отстаньте от меня!» Я не стал рассматривать поверженного и быстро пошел домой.
На другой день в общаге рассказывали историю про труп, найденный у пивной. Я ругал себя страшными словами и не выходил на улицу три дня. Сидел в комнате. Порывался встать и одеться, совсем уж было собрал свой портфель и чуть не решился пойти на занятия в универ. Но – снова укладывался на кровать. Я был тогда, в те дни, убежден, что больше ни в чем нет никакого смысла. В оцепенении я ждал, что за мной придут. Мне казалось, что я начал понимать сонных мух. Они еще живы, но уже ни на что не годны. И думал о том, что в последнюю очередь стали бы искать убийцу среди студентов из Союза. Типа – какие из них убийцы? Они вроде как сильно академические и к тому ж «старшие братья». А вот про кого болтали, так это про гастарбайтеров из Мозамбика, про вьетнамцев, которые строили немцам железную дорогу, и, разумеется, про поляков-фарцовщиков, приезжавших сюда за товаром. Поболтали – и забыли. Я же то чувство легкости, тот вольный полет, когда я кинулся на врага и поверг его – не забыл… И после еще не раз подолгу смаковал это дорогое переживание: я – король, я делаю всё, что хочу!
И еще я долго вспоминал навязчивую строчку кого-то из классиков: «Увидишь немца – убей его! Сколько раз увидишь, столько и убей!» Кто это такое сказанул? Эренбург? Симонов? Поди их разбери… А это статься 282 УК, между прочим. Теперешнего, а тогда какая была – уж и не вспомнить.
1
«Гитлер – говно, но это было прекрасное время!»